Книга: Ожерелье королевы
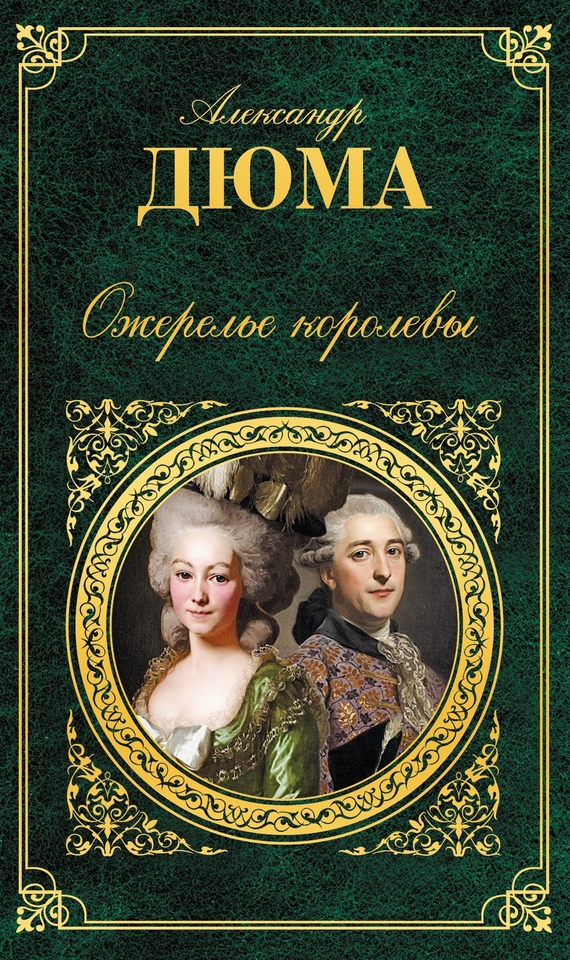
Ожерелье королевы
Перевод с французского
Разработка серии Е. Соколовой
Оформление переплета Н. Ярусовой
В коллаже на обложке использованы репродукции работ художника Александра Рослина
© И. Русецкий. перевод. Наследники. 2015
© Л. Цывьян. перевод. Наследники. 2015
© Е. Баевская. Перевод. 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
1. Старый дворянин и старый дворецкий
В один из первых дней апреля 1784 года примерно в три часа с четвертью пополудни наш старый знакомец, убеленный сединами маршал де Ришелье, подправил брови ароматической краской, оттолкнул рукою зеркало, которое держал камердинер, сменивший, но не полностью заменивший преданного Рафте, покачал головой и со свойственным одному ему выражением промолвил:
– Ну что ж, теперь недурно.
Он встал с кресла и залихватским щелчком стряхнул пылинки белой пудры, просыпавшиеся с парика на короткие штаны из небесно-голубого бархата.
Затем, оттягивая носок и плавно скользя по паркету, он проделал несколько кругов по туалетной комнате и позвал:
– Дворецкого ко мне!
Минут через пять появился дворецкий, одетый в парадную ливрею.
Маршал принял серьезный, соответствующий обстоятельствам вид и осведомился:
– Надеюсь, вы подготовились к обеду как следует?
– Разумеется, ваша светлость.
– Я ведь передал вам список приглашенных, не так ли?
– И я в точности запомнил их число, ваша светлость. Девять персон, правильно?
– Персоны персонам рознь, сударь.
– Да, ваша светлость, но…
Маршал прервал дворецкого нетерпеливым жестом – едва заметным и вместе с тем величественным.
– «Но» – это не ответ, сударь мой! И кроме того, всякий раз, когда я слышу слово «но» – а за восемьдесят восемь лет я уже слышал его не единожды, – мне, как это ни прискорбно, становится ясно, что далее последует какая-нибудь глупость.
– Ваша светлость!..
– Во-первых, в котором часу вы собираетесь подать обед?
– Буржуа обедают в два, ваша светлость, судейские – в три, а знать – в четыре.
– А я, сударь?
– Сегодня вы, ваша светлость, будете обедать в пять.
– В пять, вот как?
– Да, ваша светлость, как король.
– Почему же как король?
– Потому что в списке, который я имел честь от вас получить, присутствует имя короля.
– Отнюдь, сударь мой, вы ошибаетесь; на сегодня я августейших особ не приглашал.
– Ваша светлость изволит шутить со своим преданным слугой, и я благодарю вас за оказанную честь. Но среди приглашенных есть господин граф Хага…
– Так что ж?
– Но ведь граф Хага – король.
– Короля с таким именем я не знаю.
– Прошу меня извинить, ваша светлость, – поклонившись, проговорил дворецкий, но я думал, я полагал…
– Думать вам никто не приказывал, сударь мой! Полагать что-либо – это не ваше дело. Вам надобно только читать распоряжения, которые я отдаю, без каких бы то ни было рассуждений. Когда я желаю, чтобы вам что-либо было известно, я говорю об этом, а коль скоро я молчу, значит, не хочу вас ни во что посвящать.
Дворецкий поклонился снова – на сей раз даже с большим почтением, чем если бы перед ним находился сам король.
– Поэтому, сударь, – продолжал старый маршал, – раз я августейших особ не приглашал, извольте накормить меня обедом как всегда, то есть в четыре часа.
При этих словах лицо дворецкого исказилось так, словно ему только что объявили смертный приговор. Он побледнел и даже несколько согнулся под тяжестью нанесенного удара.
Затем, собрав в отчаянье последние силы, он выпрямился и отважно возразил:
– Пусть будет так, как угодно Господу, но вы, ваша светлость, отобедаете в пять часов.
– Это еще почему? – вскинулся маршал.
– Потому что подать обед раньше физически невозможно.
– Сударь мой, вы служите у меня уже лет двадцать, если не ошибаюсь? – спросил старик, надменно покачав головой, которой возраст, казалось, еще не коснулся.
– Двадцать один год, месяц и две недели, ваша светлость.
– Так вот, сударь мой, к двадцати одному году, месяцу и двум неделям вы не прибавите более ни дня, ни даже часа. Понятно? – нахмурившись и поджав тонкие губы, ответствовал маршал. – Сегодня вечером можете начинать подыскивать себе нового хозяина. Я не потерплю, чтобы слово «невозможно» произносилось у меня в доме. Привыкать к нему в моем возрасте уже поздно: у меня нет на это времени.
Дворецкий поклонился в третий раз и проговорил:
– Сегодня вечером я возьму у вашей светлости расчет, однако до самой последней минуты буду отправлять свою службу как должно.
С этими словами он отступил на два шага к двери.
– Что значит «как должно»? – вскричал Ришелье. – Зарубите себе на носу, сударь: здесь все должно делать так, как мне нужно! Я желаю обедать в четыре, и мне не надобно, чтобы вы сажали меня за стол на час позже.
– Господин маршал, – сухо отозвался дворецкий, – я служил экономом у его светлости принца де Субиза и управляющим у его светлости принца кардинала Луи де Рогана. У первого из них изволил обедать раз в год его величество покойный король Франции, у второго – его величество император австрийский изволил обедать раз в месяц. Поэтому, ваша светлость, я знаю, как следует принимать коронованных особ. У принца де Субиза король Людовик Пятнадцатый бывал под именем барона де Гонесс, но все равно это был король. У другого из них, то есть у принца де Рогана, император Иосиф называл себя графом Пакенштайнским, но все равно это был император. Сегодня вы, господин маршал, принимаете графа Хагу, но, как вы его ни назовете, он все равно останется королем Швеции. Или сегодня вечером я покину ваш дом, господин маршал, или с господином графом Хагой здесь будут обращаться как с королем.
– А я уже битый час пытаюсь вам это запретить, поскольку граф Хага желает сохранить самое строгое и непроницаемое инкогнито. Узнаю, черт возьми, дурацкую суетность лакейских душонок! Не корону вы чтите, а себя, пользуясь для этого нашими экю!
– Я и в мыслях не допускаю, – колко парировал дворецкий, – что ваша светлость всерьез говорит о деньгах.
– Ну что вы, сударь, – в некотором смущении запротестовал маршал. – Деньги! Да кто говорит о деньгах! Прошу вас, не надо ставить все с ног на голову, я только хотел подчеркнуть, что не желаю, чтобы здесь упоминали о короле.
– Но, господин маршал, за кого вы меня принимаете? Неужто вы считаете, что я способен на столь необдуманный поступок? Никто не собирается упоминать о короле.
– Тогда не упрямьтесь и приготовьте обед к четырем часам.
– Это невозможно, господин маршал, так как в четыре еще не прибудет то, чего я жду.
– Чего же вы ждете? Какую-нибудь рыбу, как господин Ватель[1]?
– Вот еще, при чем тут Ватель, – пробормотал дворецкий.
– Вам, кажется, не по вкусу такое сравнение?
– Да нет, просто благодаря удару шпагой, которым он покончил с собой, господин Ватель приобрел бессмертие.
– Ах, так вы полагаете, что ваш собрат заплатил за славу слишком дешево?
– Нет, ваша светлость, но подумайте сами: сколько таких же, как я, дворецких мучаются, сносят обиды и унижения гораздо худшие, нежели удар шпагой, и тем не менее не обретают бессмертия!
– Но не думаете ли вы, сударь мой, что для бессмертия нужно быть либо членом Академии[2], либо мертвецом?
– Коли на то пошло, ваша светлость, лучше уж оставаться в живых и исполнять свой долг. Не стану я умирать и исполню свой долг так же, как это сделал бы Ватель, будь господин принц Конде чуточку терпеливее и подожди он еще с полчаса.
– Но вы же посулили мне какие-то чудеса? Весьма ловко с вашей стороны.
– Нет, ваша светлость, никаких чудес.
– Чего же в таком случае вы ждете?
– Вы действительно хотите знать, ваша светлость?
– Еще бы! Мне очень любопытно.
– Я жду, ваша светлость, бутылку вина.
– Бутылку вина? Объяснитесь же! Это становится интересным.
– Дело вот в чем, ваша светлость. Его величество король Швеции, я хотел сказать, его сиятельство граф Хага, не пьет ничего, кроме токайского.
– Как! Неужели в моих погребах не найдется токайского? Если так, то эконома надо гнать в три шеи.
– Нет, ваша светлость, у вас есть еще около шестидесяти бутылок.
– Стало быть, вы полагаете, что граф Хата выпивает за обедом шестьдесят одну бутылку?
– Немного терпения, ваша светлость. Когда господин граф Хата впервые посетил Францию, он был тогда только наследным принцем. Однажды он обедал у покойного короля, который как раз получил дюжину бутылок токайского от его величества императора Австрийского. Вам известно, что отборное токайское попадает только в императорские погреба и что даже монархи пьют его лишь в том случае, если получают в подарок от его императорского величества?
– Известно.
– Так вот, ваша светлость, из того вина, что отведал тогда наследный принц и нашел восхитительным, сейчас осталось только две бутылки.
– Вот как?
– Да, и одна из них все еще находится в погребах короля Людовика Шестнадцатого.
– А другая?
– А другая похищена, – с улыбкой триумфатора заявил дворецкий, который понял, что после долгой борьбы его победа уже близка.
– Похищена? Кем же?
– Одним моим другом, экономом покойного короля, человеком, который многим мне обязан.
– Так, и, стало быть, он вам ее отдал.
– Конечно, ваша светлость, – гордо ответил дворецкий.
– И что вы с нею сделали?
– Поместил в погреб своего хозяина, ваша светлость.
– Вашего хозяина? Кто же был в те времена вашим хозяином, сударь?
– Его светлость принц кардинал де Роган.
– Господи, так это было с Страсбурге?
В Саверне.
– И вы послали кого-то за этой бутылкой, чтобы ее доставили мне? – воскликнул старый маршал.
– Вам, ваша светлость, – ответил дворецкий тоном, в котором явно звучало еще одно слово: «Неблагодарный!»
Герцог де Ришелье схватил верного слугу за руку и вскричал:
– Прошу меня извинить, сударь, вы – король дворецких!
– А вы хотели меня прогнать! – укорил хозяина тот, сопроводив свои слова непередаваемым движением головы и плеч.
– Я заплачу вам за эту бутылку сотню пистолей.
– И еще сотню вам будет стоить доставка, так что в общей сложности получается двести. Но ваша светлость должны признать, что это даром.
– Я признаю все, что вам будет угодно, сударь, а пока с сегодняшнего дня вы будете получать двойное жалованье.
– Но, ваша светлость, я этого не заслужил, я всего лишь исполнял свой долг.
– А когда прибудет ваш гонец, посланный за этой бутылкой?
– Рассудите сами, ваша светлость, терял я время попусту или нет. Когда ваша светлость объявили мне об обеде?
– Кажется, три дня назад.
– Гонцу, который будет скакать во весь опор, требуется двадцать четыре часа на дорогу туда и столько же – на обратную.
– Остается еще двадцать четыре часа. Признайтесь, монарх дворецких, на что вы их употребили?
– Увы, ваша светлость, я их потерял. Мысль о вине пришла мне в голову лишь на следующий день после того, как вы вручили мне список приглашенных. Теперь добавьте время, необходимое для совершения сделки, и вы поймете, ваша светлость, что, назначая обед на пять часов, я просил о совершенно необходимой отсрочке.
– Как! Бутылка еще не здесь?
– Нет, ваша светлость.
– Боже милосердный! А вдруг ваш собрат из Саверна проявит такую же преданность принцу де Рогану, какую вы проявляете ко мне?
– Я не понимаю вас, ваша светлость.
– Вдруг он откажется отдать бутылку, как сделали бы, несомненно, вы на его месте?
– Я, ваша светлость?
– Нуда. Надеюсь, вы никому не отдали бы подобную бутылку, хранись она в моем погребе?
– Покорно прошу меня извинить, ваша светлость, но если бы кто-то из моих собратьев, которому предстояло бы принимать короля, попросил у меня бутылку вашего лучшего вина, я отдал бы ее, не колеблясь ни секунды.
– Вот как, – слегка скривился маршал.
– Помогай сам, и тебе помогут, ваша светлость.
– Вы меня немного успокоили, – со вздохом проговорил маршал, – но риск все же есть.
– Какой, ваша светлость?
– А вдруг бутылка разобьется?
– Ох, ваша светлость, еще не случалось, чтобы кто-нибудь разбивал бутылку стоимостью в две тысячи ливров.
– Ладно, я был не прав, не будем больше об этом. Так когда же прибывает ваш гонец?
– Ровно в четыре часа.
– В таком случае что нам мешает сесть за обед в четыре? – снова принялся за свое маршал, упрямый как мул.
– Ваша светлость, вино должно отдыхать в течение часа – и то лишь благодаря изобретенному мною способу. В противном случае оно отдыхало бы три дня.
Потерпев поражение и на этот раз, маршал отвесил дворецкому поклон в знак того, что сдается.
– К тому же, – продолжал тот, – ваши приглашенные, зная, что им предстоит честь обедать за одним столом с господином графом Хагой, раньше половины пятого не явятся.
– А это еще почему?
– Ну как же, ваша светлость, вы ведь, если не ошибаюсь, пригласили графа Делоне, госпожу графиню Дюбарри, господина де Лаперуза, господина де Фавраса, господина де Кондорсе[3], господина де Калиостро и господина де Таверне?
– И что из этого следует?
– Начнем по порядку, ваша светлость. Господин Делоне приедет прямо из Бастилии, а по обледенелым дорогам из Парижа сюда не меньше трех часов езды.
– Да, но он выедет сразу после того, как заключенным будет подан обед, то есть в полдень, – это я знаю точно.
– Простите, ваша светлость, но с тех пор, как вы побывали в Бастилии, обеденное время там изменилось, теперь там обедают в час пополудни.
– Да, сударь мой, век живи, век учись. Благодарю вас, и продолжайте.
– Госпожа Дюбарри едет из Люсьенны, то есть все время под гору и по сплошной гололедице.
– О, это не помешает ей приехать вовремя. С тех пор как она перестала быть фавориткой герцога, она правит лишь баронами. Поймите и вы меня, сударь: я хочу приступить к обеду пораньше из-за господина де Лаперуза, который сегодня вечером отбывает и будет поэтому торопиться.
– Ваша светлость, господин де Лаперуз находится сейчас у короля и беседует с его величеством о географии и космографии. Так скоро король господина де Лаперуза не отпустит.
– Возможно, вы правы.
– Это точно, ваша светлость. Так же получится и с господином де Фаврасом, который беседует сейчас с графом Прованским о новой пьесе господина Карона де Бомарше.
– Вы имеете в виду «Женитьбу Фигаро»?
– Ее, ваше светлость.
– Известно ли вам, сударь, что вы – образованный человек?
– В свободное время я читаю, ваша светлость.
– Но у нас есть еще господин де Кондорсе, который как геометр, должно быть, отличается большой пунктуальностью.
– Это так, но он станет рассчитывать время и в результате опоздает на полчаса. Что же до господина де Калиостро, то он иностранец и живет в Париже недавно, поэтому, скорее всего, еще недостаточно осведомлен о порядках в Версале и может заставить себя ждать.
– Итак, – подытожил маршал, – если не считать Таверне, вы перечислили всех моих приглашенных, причем в последовательности, достойной Гомера, а также бедняги Рафте.
Дворецкий поклонился и ответил:
– Я не упомянул о господине де Таверне, потому что он – старый друг и поступит сообразно с обстоятельствами. Мне кажется, ваша светлость, мы не забыли никого из приглашенных?
– Нет, все точно. Где вы собираетесь подавать обед?
– В большой столовой, ваша светлость.
– Мы там замерзнем.
– Ее топят уже трое суток, ваша светлость, я поддерживаю там температуру в восемнадцать градусов.
– Прекрасно! Однако уже бьет половину. – Маршал бросил взгляд на часы.
– Да, сударь, уже половина пятого, и я слышу во дворе стук копыт. Это прибыла бутылка токайского.
– Служили бы мне так еще лет двадцать! – сказал старый маршал, поворачиваясь к зеркалу, тогда как дворецкий бросился в буфетную.
– Двадцать лет! – со смехом повторил чей-то голос, тут же оторвавший герцога от зеркала. – Двадцать лет! Я желаю вам этого, мой дорогой маршал, но тогда мне будет шестьдесят, я стану совсем старухой.
– Это вы, графиня? – воскликнул маршал. – Сегодня вы первая. Боже, как вы всегда свежи и хороши!
– Скажите лучше, «окоченели», герцог.
– Прошу вас, пройдемте в будуар.
– Вот как? Разговор с глазу на глаз, маршал?
– Нет, втроем, – раздался чей-то надтреснутый голос.
– Таверне! – вскричал маршал. – Вечно испортит весь праздник, – добавил он на ухо графине.
– Вот фат! – рассмеявшись, бросила графиня, и все трое прошли в соседнюю комнату.
В тот же миг приглушенный стук колес по заснеженным плитам двора известил маршала о прибытии остальных гостей, и вскоре благодаря распорядительности дворецкого девять приглашенных уселись за овальный стол в столовой; девять лакеев, немых, словно тени, проворных, но без торопливости, предупредительных, но без навязчивости, заскользили по коврам, не задевая ни самих гостей, ни даже их кресла, покрытые мехами, в которых буквально утопали сидящие за столом.
Гости маршала наслаждались нежным теплом, струящимся от печей, ароматами мяса, букетами вин, а после супа завязалась и застольная беседа.
Ни звука не доносилось снаружи, так как ставни были плотно прикрыты, внутри также царила полная тишина: не звякала ни тарелка при перемене, ни столовое серебро, бесшумно появлявшееся на столе из буфетной, и даже дворецкий отдавал приказы лакеям не шепотом, а взглядом.
Минут через десять приглашенные почувствовали, что они в столовой одни – слуги казались столь немыми и бесплотными, что обязательно должны были быть и глухими.
Г-н де Ришелье первым нарушил царившее за столом молчание, обратившись к соседу справа:
– Почему вы ничего не пьете, господин граф?
Тот, к кому были обращены эти слова, был блондином лет сорока, невысоким, но широким в плечах; в его обычно грустных светло-голубых глазах порою мелькала искорка оживления, все черты его породистого, открытого лица выражали врожденное благородство.
– Я пью лишь воду, маршал, – ответил он.
– Но только не у Людовика Пятнадцатого, – возразил герцог. – Я имел честь обедать у него вместе с вами, господин граф, и тогда вы осмелились попробовать вина.
– Да, это чудное воспоминание, господин маршал. В семьдесят первом году я действительно пил там токайское из императорских погребов.
– Такое же вино мой дворецкий имеет честь наливать вам в эту минуту, господин граф, – сообщил Ришелье и поклонился.
Граф Хага поднял бокал к глазам и посмотрел сквозь него на свечи. Они сияли, словно расплавленные рубины.
– Действительно, – подтвердил он. – Благодарю вас, господин маршал.
Граф произнес слова благодарности с таким благородством и изяществом, что присутствующие в едином порыве поднялись с кресел и воскликнули:
– Да здравствует его величество!
– Правильно, – подхватил граф Хага, – да здравствует его величество король Франции! Не так ли, господин де Лаперуз?
– Господин граф, – ответил капитан негромко и почтительно, как человек, привыкший разговаривать с коронованными особами, – я покинул короля час назад, и он был ко мне так добр, что никто громче меня не воскликнет: «Да здравствует король!» Однако, поскольку через час я поскачу на почтовых к морю, где меня дожидаются два корабля, отданные под мою команду его величеством, и окажусь далеко отсюда, я прошу у вас разрешения приветствовать сейчас другого короля, которому я был бы рад служить, не будь у меня столь хорошего господина.
И, подняв бокал, г-н де Лаперуз скромно поклонился графу Хаге.
– Вы правы, сударь, мы все готовы выпить за здоровье господина графа, – вмешалась г-жа Дюбарри, сидевшая слева от маршала. – Только пусть этот тост провозгласит наш старейшина, как выражаются в парламенте.
– Любопытно бы знать, Таверне, на кого тут намекают – на тебя или на меня? – рассмеялся маршал, бросив взгляд на старого друга.
– Не думаю, – заметил гость, помещавшийся напротив маршала де Ришелье.
– Чего вы не думаете, господин де Калиостро? – пронзительно взглянув на него, спросил граф Хага.
– Я не думаю, господин граф, – с поклоном отвечал Калиостро, – что наш старейшина – господин де Ришелье.
– О, вот это славно! – воскликнул маршал. – Похоже, речь идет о тебе, Таверне.
– Да полно, я же моложе тебя на восемь лет. Я родился в тысяча семьсот четвертом году, – возразил почтенный старец.
– Неужто вам восемьдесят восемь лет, господин герцог? – удивился г-н де Кондорсе.
– Увы, это так. Подсчитать несложно, особенно такому математику, как вы, маркиз. Я родился в прошлом веке, в великом веке, как его называют, в тысяча шестьсот девяносто шестом году.
– Невероятно! – заметил Делоне.
– О, будь здесь ваш отец, господин губернатор Бастилии, он ничего невероятного в этом не усмотрел бы, так как я был у него на пансионе в тысяча семьсот четырнадцатом году.
– Уверяю вас, – вмешался г-н де Фаврас, – что старейшина среди нас – вино, которое господин граф Хага как раз наливает себе в бокал.
– Вы правы, господин де Фаврас, этому токайскому – сто двадцать лет, – отозвался граф. – Ему и принадлежит честь быть поднятым за здоровье короля.
– Минутку, господа, я протестую, – заявил Калиостро, оглядывая присутствующих умными, живыми глазами.
– Протестуете против права этого токайского на старшинство? – раздались голоса сотрапезников.
– Разумеется, потому что эту бутылку запечатывал я, – спокойно пояснил граф.
– Вы?
– Да, я. Это случилось в день победы, одержанной Монтекукколи[4] над турками в тысяча шестьсот шестьдесят четвертом году.
Эти слова, произнесенные Калиостро с непоколебимой серьезностью, были встречены взрывом хохота.
– В таком случае, сударь, – сказала г-жа Дюбарри, – вам должно быть около ста тридцати лет – я прибавила десяток лет, потому что вы ведь должны были умудриться налить это прекрасное вино в такую большую бутылку.
– Когда я производил эту операцию, мне было больше десяти лет, сударыня, поскольку через день его величество император Австрийский оказал мне честь, поручив поздравить Монтекукколи, который своею победой при Санкт-Готхарде отомстил за поражение в Словении[5], когда неверные в тысяча пятьсот тридцать шестом году наголову разбили имперцев, моих друзей и товарищей по оружию.
– Значит, – с той же невозмутимостью, что и Калиостро, проговорил граф Хага, – в то время вам должно было быть не менее десяти лет, раз вы лично присутствовали при этой памятной битве.
– Ужасный был разгром, господин граф, – с поклоном промолвил Калиостро.
– Но все-таки не такой, как поражение при Креси, – улыбнувшись, заметил Кондорсе.
– Это верно, сударь, – с не менее ясной улыбкой отозвался Калиостро, – поражение при Креси было ужасным еще и потому, что разгром потерпела не только армия, но и вся Франция. Но следует признать, что англичане добились победы не очень-то честным путем. У короля Эдуарда были пушки, о чем понятия не имел Филипп Валуа[6], точнее, во что он никак не хотел поверить, хотя я его и предупреждал, что своими глазами видел четыре орудия, которые Эдуард купил у венецианцев.
– Ах, так вы знали Филиппа Валуа? – осведомилась г-жа Дюбарри.
– Сударыня, я имел честь быть в числе тех пятерых сеньоров, которые сопровождали его, когда он покидал поле битвы, – ответил Калиостро. – Я приехал во Францию с несчастным престарелым королем Богемии, который был слеп и велел себя убить, когда узнал, что все пропало.
– О Боже, сударь, – воскликнул Лаперуз, – вы и представить не можете, как мне жаль, что вместо битвы при Креси вы не наблюдали за сражением при Акции[7].
– Почему же, сударь?
– Да потому, что вы смогли бы сообщить мне кое-какие подробности по части навигации, которые, несмотря на прекрасный рассказ Плутарха, для меня не очень-то ясны.
– Какие именно, сударь? Я буду счастлив, если смогу вам чем-либо помочь.
– Так вы там были?!
– Нет, сударь, я был тогда в Египте. Царица Клеопатра поручила мне пересоставить Александрийскую библиотеку[8]. Я подходил для этой работы более других, поскольку знал лично лучших античных авторов.
– Вы видели царицу Клеопатру, господин Калиостро? – вскричала графиня Дюбарри.
– Как вижу вас, сударыня.
– Она была в самом деле красива или это только легенда?
– Вы сами знаете, госпожа графиня, что красота – понятие относительное. В Египте Клеопатра была королевой и красавицей, а в Париже смогла бы претендовать лишь на роль хорошенькой гризетки.
– Не следует отзываться дурно о гризетках, господин граф.
– Да Боже меня упаси!
– Итак, Клеопатра была…
– Невысокого роста, худощавой, живой, остроумной. Елаза у нее были большие и миндалевидные, нос греческий, зубы жемчужные, а рука – как у вас, сударыня: она была поистине достойна держать скипетр. Да вот, кстати, алмаз, который она мне подарила и который достался ей от ее брата Птолемея: она носила его на большом пальце.
– На большом пальце? – воскликнула г-жа Дюбарри.
– Да, по тогдашней египетской моде, а я видите! – с трудом надеваю его на мизинец.
Сняв с пальца перстень, он передал его г-же Дюбарри.
Алмаз и вправду был восхитителен – столь чистой воды и так искусно огранен, что мог стоить тридцать, а то и все сорок тысяч франков.
Обойдя стол, перстень вернулся к Калиостро, который невозмутимо надел его обратно на мизинец и сказал:
– Я вижу, вы мне не верите; с подобным роковым недоверием мне приходится бороться всю жизнь. Поплатились за это многие: Филипп Валуа – когда я советовал ему открыть Эдуарду путь к отступлению; Клеопатра – когда я предсказывал, что Антоний будет разбит; троянцы – когда во поводу деревянного коня я говорил им: «Кассандра вдохновлена свыше, послушайтесь Кассандру».
– Это невозможно! – воскликнула сквозь одолевавший ее хохот г-жа Дюбарри. – В жизни не видела, чтобы человек мог быть таким серьезным и в то же время таким забавником.
– Уверяю вас, – с поклоном ответил Калиостро, – что Ионафан был еще большим забавником, чем я. О, что это был за очаровательный товарищ! Когда Саул его убил, я чуть с ума не сошел от горя[9].
– Послушайте, граф, – вмешался герцог де Ришелье, – если вы не остановитесь, то сведете с ума беднягу Таверне: он так боится смерти, что смотрит на вас испуганными глазами, поскольку поверил в ваше бессмертие. Скажите, но только откровенно: вы бессмертны или нет?
– Вы спрашиваете, бессмертен ли я?
– Вот именно.
– Этого я не знаю, но точно могу сказать одно.
– Что же именно? – спросил Таверне, слушавший графа с более напряженным вниманием, чем остальные.
– А то, что я и вправду был свидетелем всего, о чем тут говорил, и знавал всех, о ком тут упоминал.
– Вы знали Монтекукколи?
– Как знаю вас, господин де Фаврас, и даже ближе: вас я имею честь видеть во второй или в третий раз, тогда как с этим опытным стратегом прожил в одной палатке почти год.
– И вы знали Филиппа Валуа?
– Я уже имел честь сообщить вам об этом, господин де Кондорсе. Только потом он вернулся в Париж, а я покинул Францию и вернулся в Богемию.
– А Клеопатру?
– Да, госпожа графиня, и Клеопатру. Я уже говорил, что у нее были такие же, как у вас, черные глаза и грудь, почти столь же прекрасная, как ваша.
– Но, граф, откуда вы знаете, какая у меня грудь?
– У вас она такая же, как у Кассандры, сударыня, и в довершение всего у нее, как и у вас, или, вернее, у вас, как и у нее, слева, на уровне шестого позвонка, есть черное родимое пятнышко.
– Но вы же просто чародей, граф!
– Э нет, маркиз, – со смехом возразил маршал де Ришелье, – об этом рассказал ему я.
– А откуда это известно вам?
– Семейная тайна, – поджав губы, ответил маршал.
– Отлично, отлично, – пробормотала г-жа Дюбарри. – Ей-богу, маршал, когда идешь к вам, нужно накладывать двойной слой румян. – И, повернувшись к Калиостро, добавила: – Значит, сударь, вы владеете секретом молодости, потому что для своих трех-четырех тысяч лет выглядите едва ли на сорок.
– Да, сударыня, у меня есть секрет молодости.
– Омолодите же меня в таком случае!
– Вам, сударыня, это ни к чему: чудо уже свершилось. Ведь человеку столько лет, на сколько он выглядит, а вам не дашь и тридцати.
– Это лишь учтивость с вашей стороны.
– Нет, сударыня, так оно и есть.
– Но объяснитесь же!
– Нет ничего проще. Вы уже подверглись омоложению.
– Каким это образом?
– Вы приняли мой эликсир.
– Я?
– Вы, графиня, вы. Неужели вы забыли?
– О, это что-то новенькое!
– Графиня, помните некий дом на улице Сен-Клод? Помните, как вы пришли в этот дом по одному делу, касавшемуся господина де Сартина? Помните об услуге, которую вы оказали моему приятелю по имени Жозеф Бальзамо? Помните, как он вручил вам флакон эликсира и велел принимать каждое утро по три капли? Помните, что вы так и поступали вплоть до прошлого года, когда содержимое флакона кончилось? Если вы забыли все это, графиня, то, право же, речь может идти уже не о скверной памяти, а о неблагодарности.
– Ах, господин де Калиостро, вы говорите такие вещи…
– Какие известны лишь вам одной, я это знаю. Но стоит ли быть чародеем, если не знать секретов своих ближних?
– Однако у Жозефа Бальзамо тоже был рецепт этого волшебного эликсира?
– Нет, сударыня, но, поскольку он был одним из моих лучших друзей, я дал ему несколько флаконов.
И у него сколько-нибудь еще осталось?
– Этого я не знаю. Уже три года, как бедняга Бальзамо пропал. Последний раз я видел его в Америке, на берегах Огайо, он тогда отправлялся в экспедицию в Скалистые горы. Позднее до меня доходили слухи о его гибели.
– Послушайте-ка, граф, – вскричал маршал, – полно вам любезничать! Выкладывайте, граф, вашу тайну!
– Но только без шуток, сударь, – попросил граф Хага.
– Я вполне серьезен, государь, – о, прошу прощения, я хотел сказать «господин граф», – ответил Калиостро и поклонился, давая понять, что это просто обмолвка.
– Значит, – продолжал маршал, – графиня недостаточно стара, чтобы подвергнуться омоложению?
– По совести говоря, нет.
– Тогда вот вам другой пациент, мой друг Таверне. Что скажете? Не правда ли, он похож на современника Понтия Пилата? Но быть может, он, напротив, слишком стар?
– Отнюдь, – ответил Калиостро, взглянув на барона.
– Ах, дорогой граф, если вы его омолодите, я объявлю вас учеником Медеи![10] – воскликнул Ришелье.
– Вы действительно этого хотите? – спросил Калиостро, обращаясь к хозяину дома и обводя глазами собравшихся.
Все в знак согласия кивнули.
– И вы тоже, господин де Таверне?
– Да я-то в первую очередь, черт возьми! – вздохнул барон.
– Что ж, это несложно, – бросил Калиостро и извлек из кармана восьмиугольную бутылочку.
Затем, взяв чистый хрустальный бокал, он нацедил в него несколько капель из бутылочки. После этого он долил хрустальный бокал до половины ледяным шампанским и протянул его барону. Присутствующие, разинув рты, следили за каждым его движением.
Барон взял бокал, поднес к губам, но в последний миг заколебался.
Увидев его сомнения, присутствующие так громко расхохотались, что Калиостро вышел из терпения:
– Поторопитесь, барон, или жидкость, каждая капля которой стоит сотню луидоров, пропадет.
– Вот дьявол, это вам не токайское! – попытался пошутить Ришелье.
– Значит, нужно пить? – чуть не дрожа, спросил барон.
– Или отдать бокал другому, сударь, чтобы эликсир хоть кому-то оказал пользу.
– Давай, – предложил герцог де Ришелье и протянул руку.
Барон понюхал содержимое бокала и, ободренный животворным бальзамическим ароматом и приятным розовым цветом, в который окрасили шампанское несколько капель эликсира, одним глотком выпил волшебную влагу.
В тот же миг ему почудилось, что по его телу пробежала дрожь, которая заставила старую, медлительную кровь, дремавшую у него в венах от головы до ног, прихлынуть к коже. Морщины расправились, глаза, полуприкрытые дряблыми веками, непроизвольно распахнулись. Зрачки заблестели и расширились, дрожь в руках исчезла, движения их стали уверенными, голос сделался тверже, колени, к которым вернулась былая подвижность, распрямились, поясница расправилась. Казалось, что удивительная жидкость, разлившись по телу, влила в него новую жизнь.
В комнате раздался крик изумления и, главное, восхищения. Таверне, который жевал до этого лишь деснами, вдруг почувствовал голод. Проворно схватив тарелку и нож, он положил себе рагу, что стояло слева от него, и принялся с хрустом перемалывать косточки куропатки, приговаривая, что зубы у него – вновь как у двадцатилетнего.
В течение получаса он ел, смеялся, пил и издавал радостные возгласы, а сотрапезники изумленно наблюдали за ним, но затем он вдруг угас, словно лампада, в которой кончилось масло. Сначала у него на лбу вновь появились пропавшие было морщины, потом глаза снова прикрылись веками и помутнели. Он перестал чувствовать вкус пищи, спина его согнулась, аппетит пропал, колени вновь задрожали.
– Ох! – простонал он.
– Что такое? – раздались голоса.
– Что такое? Прощай, молодость.
С этими словами старик испустил глубокий вздох, на глазах у него показались слезы.
Каждый из присутствующих также вздохнул, видя, как человек, обретший было молодость, стал вдруг еще старше от столь быстрой перемены.
– Это нетрудно объяснить, господа, – заговорил Калиостро. – Я накапал барону тридцать пять капель эликсира жизни, вот он и помолодел на тридцать пять минут.
– Еще, прошу вас, граф, еще, – жадно прошептал старик.
– Нет, сударь: следующая попытка может вас убить, – ответил Калиостро.
За этой сценой с наибольшим любопытством наблюдала г-жа Дюбарри, так как из всех присутствующих только ей были ведомы свойства эликсира.
Графиня следила, как молодость и жизнь постепенно наполняют артерии старика Таверне. Она смеялась, хлопала в ладоши, и сама, казалось, становилась моложе.
Когда благотворное действие напитка достигло своей высшей точки, она едва удержалась, чтобы не выхватить флакон из рук Калиостро.
Но когда Таверне вновь постарел, причем еще быстрее, чем сделался молодым, она печально проговорила:
– Увы! Я вижу, что все это тщета, химера: чудо длилось лишь тридцать пять минут.
– То есть, – подхватил граф Хага, – чтобы стать молодым на два года, нужно выпить реку.
Все рассмеялись.
– Нет, – возразил Кондорсе, – расчет тут прост: тридцать пять капель на тридцать пять минут – это ничто по сравнению с пятьюстами двадцатью пятью тысячами шестьюстами каплями, которые нужно выпить, если хочешь пробыть молодым целый год.
– Настоящее наводнение, – заметил Лаперуз.
– А между тем со мною было не так, сударь: маленькой бутылочки, всего раза в четыре больше вашего флакона, которую дал мне ваш друг Жозеф Бальзамо, хватило, чтобы задержать для меня бег времени на десять лет.
– Вот именно, сударыня, вы – единственная, кто понял суть этого таинственного явления. Очень старому человеку требуется именно такое количество, чтобы получить желаемый эффект. Но тридцатипятилетней женщине, какою были вы, или сорокалетнему мужчине, каким был я, когда мы начали пить эликсир жизни, в расцвете сил и молодости, достаточно принимать по десять капель эликсира в каждый период упадка, и тогда они будут наслаждаться вечной молодостью, будут оставаться очаровательными и энергичными.
– Что вы называете периодами упадка? – поинтересовался граф Хага.
– Это естественные периоды, господин граф. По законам природы силы человека растут до тридцати пяти лет. Затем, до сорока лет, они остаются неизменными. Начиная с сорока они идут на убыль, но до пятидесяти лет почти незаметно. Периоды эти приближаются друг к другу все быстрее и быстрее, и так – до самой смерти. Когда тело человека находится под чрезмерным напряжением, то есть при невзгодах и болезнях, рост сил останавливается в тридцать лет. Убывать они начинают в тридцать пять. Живи человек на лоне природы или в городе, он должен уловить тот момент, когда его организм будет находиться в равновесии, чтобы не началось движение на убыль. Тот, кто, как я, владеет секретом эликсира, знает, когда начать атаку на свою натуру, чтобы застать ее врасплох и не дать двигаться своим путем, а следовательно, будет жить, как я, будет всегда молодым или по крайней мере настолько молодым, насколько ему этого хочется.
– Боже, господин Калиостро, – вскричала графиня, – почему же вы, в чьей власти выбирать себе возраст по желанию, не остановили свой выбор на двадцати годах?
– Потому что, госпожа графиня, – с улыбкой отвечал Калиостро, – мне удобнее быть сорокалетним мужчиной, здоровым и зрелым, а не зеленым двадцатилетним юнцом.
– Вот оно что, – протянула графиня.
– Ну, разумеется, сударыня, – продолжал Калиостро. – В двадцать лет ты нравишься тридцатилетним женщинам, а в сорок – повелеваешь двадцатилетними женщинами и шестидесятилетними мужчинами.
– Сдаюсь, сударь, – сказала графиня. – Да и как станешь спорить с живым доказательством?
– Стало быть, я приговорен, – жалобно пролепетал Таверне, – так как принял эликсир слишком поздно.
– Господин де Ришелье оказался ловчее вас, – с прямотою истинного моряка наивно проговорил Лаперуз, – до меня не раз доходили слухи, что у маршала есть какой-то рецепт…
– Это сплетни, которые распускают женщины, – расхохотавшись, проронил граф Хага.
– Неужели есть причины им не верить, а, герцог? – осведомилась г-жа Дюбарри.
Старый маршал, который никогда не краснел, вдруг залился краской и переспросил:
– Вы хотите знать, господа, в чем состоит мой рецепт?
– Ну еще бы!
– В том, чтобы щадить себя.
Собравшиеся зашумели.
– Вот так-то, – отчеканил маршал.
Я с вами поспорила бы, – изрекла графиня, – если бы только что не видела действие рецепта господина де Калиостро. Держитесь, господин чародей, вопросы у меня еще не кончились.
– Прошу вас, сударыня, прошу.
– Вы говорите, что впервые испробовали действие своего эликсира жизни, когда вам было сорок?
– Да, сударыня.
– И что с тех пор, то есть с осады Трои…
– Это было чуть раньше, сударыня.
– Будь по-вашему. И с тех пор вам все время сорок?
– Сами видите, сударыня.
– Но таким образом вы доказываете даже больше, чем того требует ваша теорема, – вмешался Кондорсе.
– Что же я доказываю, господин маркиз?
– Вы доказываете возможность не только вечной молодости, но и сохранения жизни. Ведь если во время Троянской войны вам было сорок, значит, вы с тех пор не умирали.
– Верно, господин маркиз, признаюсь: не умирал.
– А между тем вы ведь не обладаете неуязвимостью Ахилла. Да что я говорю! И Ахилл не был неуязвим, потому что Парис все же убил его, угодив стрелою ему в пятку.
– Нет, к моему великому сожалению, я не обладаю неуязвимостью, – ответил Калиостро.
– Значит, вас могли убить, вы могли умереть насильственной смертью?
– Увы, да.
– Каким же образом вам удалось избегать этого на протяжении трех тысяч лет?
– Удача, господин граф. Извольте проследить за ходом моих рассуждений.
– Я слежу.
– Следим, следим, – раздались голоса собравшихся, которые с видом непритворного интереса облокотились о стол и приготовились слушать.
Голос Калиостро зазвучал в полной тишине.
– В чем первейшее условие жизни? – спросил он, изящно разводя белыми руками. Среди перстней, унизывавших его пальцы, перстень Клеопатры сиял, как Полярная звезда. – Здоровье, не так ли?
– Да, разумеется, – послышались голоса.
– А условием здоровья является…
– Режим, – докончил за Калиостро граф Хага.
– Вы правы, господин граф, режим – непременное условие здоровья. Так почему же не допустить, что в каплях моего эликсира не заключен наилучший режим?
– Кто это знает?
– Вы, граф.
– Конечно, но…
– Но не другие, – заключила графиня.
– Это, сударыня, вопрос, которым мы сейчас займемся. Итак, я всегда следовал режиму своих капель, а поскольку они – воплощение вечной мечты всех времен и народов, которую древние искали под именем воды молодости, а сегодня ищут под именем эликсира жизни, я постоянно сохранял молодость, а следовательно, здоровье, а следовательно, и жизнь. Это ясно.
– Но ведь со временем все изнашивается, граф, даже самое прекрасное тело.
– И тело Париса, и тело Вулкана[11], – ввернула графиня.
– Вы, конечно, знавали Париса, господин граф?
– Превосходно знал, сударыня, это был весьма красивый юноша, но, в сущности, он ничем не заслуживал ни слов, написанных 0 нем Гомером, ни мнения, сложившегося о нем у женщин. Начать с того, что он был рыжий.
– Рыжий? Фи, какой ужас! – воскликнула графиня.
– К несчастью, – заметил Калиостро. – Елена придерживалась иного мнения, сударыня. Однако вернемся к эликсиру.
– Да, да, – поддержали собравшиеся.
– Вы утверждаете, господин де Таверне, что все изнашивается. Пусть так. Но вам известно также, что все восстанавливается, возобновляется, сменяется одно другим, если хотите. Возьмем знаменитый кинжал святого Юбера: сколько раз менялось в нем и лезвие, и рукоять, но он ведь так и остался кинжалом святого Юбера. Вино, хранящееся в подвале у гейдельбергских монахов, – всегда одинаково, хотя гигантская бочка наполняется каждый год напитком нового урожая. И кроме того, вино гейдельбергских монахов всегда прозрачное, живое и вкусное, тогда как вино, запечатанное мною и Опимием[12] в глиняные амфоры, через сто лет, когда я его попробовал, уже превратилось в густую жижу, которую, наверное, можно есть, но уж никак не пить.
– Так вот, вместо того чтобы следовать примеру Опимия, я решил воспользоваться опытом гейдельбергских монахов. Я поддерживал свое тело, вводя в него каждый год новые элементы, призванные заменить старые. Каждое утро юная и свежая частичка замещала в моей крови, плоти, костях частичку отжившую и бесполезную.
– Я оживил обломки, которым заурядный человек позволяет незаметно заполнить всего себя, я вынудил всех солдат, которых Господь дал человеку для защиты от разрушения и которых большинство людей истребляет или оставляет пребывать в праздности, – так вот, я заставил их выполнять работу, облегчающую и даже вызывающую появление в организме все новых возбуждающих элементов. И в результате столь прилежного изучения человеческого организма мои мышцы, мозг, нервы, сердце и душа ни на секунду не прекращали своей деятельности, а поскольку в мире все связано между собою, поскольку каждый орган лучше всего делает лишь положенную ему работу, я, естественно, сумел лучше других избегать опасностей, подстерегавших меня на протяжении трех тысяч лет, – и все потому, что научился принимать меры предосторожности в предвидении неблагоприятных обстоятельств или опасностей. К примеру, вы не заставите меня войти в дом, который вот-вот обрушится. О нет, я повидал на своем веку достаточно домов, чтобы уметь с первого взгляда отличить крепкий от прогнившего. Вы не заставите меня пойти на охоту с растяпой, который не умеет обращаться с ружьем. Начиная с Кефала, убившего свою жену Прокриду[13], и кончая регентом[14], который выбил глаз господину принцу, я видел слишком много растяп. На войне вы не заставите меня занять позицию, вполне удобную по мнению других, прежде чем я не сделаю в уме молниеносный расчет и не приду к выводу, что никакая прямолинейная или параболическая траектория не заканчивается в этой точке. Вы мне скажете, что нельзя угадать, откуда прилетит шальная пуля. На это я отвечу: для человека, который миллион раз сумел не попасть под выстрелы, позволить шальной пуле убить себя – непростительно. Ах, не нужно недоверчиво качать головами, ведь я – живое тому подтверждение. Я не настаиваю на том, что бессмертен, я просто говорю, что знаю то, чего не знает никто: как избежать случайной смерти. Я, например, ни за что на свете не останусь хоть на четверть часа наедине с господином Делоне, который сейчас думает, что, сиди я в одной из одиночек Бастилии, он проверил бы, бессмертен ли я, с помощью голода. Не останусь я и с господином де Кондорсе, поскольку он подумывает, не бросить ли мне в бокал содержимое перстня, который он носит на указательном пальце, а это содержимое – не что иное, как яд. При этом оба они не питают ко мне злобы, а просто-напросто полны научной любознательности: им хочется проверить, умру я или нет.
Упомянутые Калиостро сотрапезники беспокойно задвигались.
– Признайтесь откровенно, господин Делоне, мы ведь не на суде, да и за намерения не карают. Думали вы об этом? А вы, господин де Кондорсе, скажите: действительно ли в вашем перстне содержится яд, который вы не прочь дать мне распробовать во имя дорогой вашему сердцу любовницы – науки?
– Силы небесные! – покраснев, рассмеялся г-н Делоне. – Признаюсь, вы были правы, господин граф, я на миг словно обезумел. Но эта безумная мысль лишь промелькнула у меня в голове, как раз когда вы высказывали ее вслух.
– Как и господин Делоне, я тоже не стану скрытничать, – проговорил г-н де Кондорсе. – Я действительно подумал, что если вы попробуете содержимое моего перстня, я гроша ломаного не дам за ваше бессмертие.
У сидевших за столом вырвался крик восхищения.
– Сделанные только что признания подтвердили пусть не бессмертие, но, во всяком случае, необыкновенную проницательность графа Калиостро.
– Вот видите, – спокойно отметил Калиостро, – я угадал. Это все могло произойти. Жизненный опыт мгновенно раскрыл мне прошлое и будущее людей, на которых я посмотрел.
Моя проницательность такова, что простирается даже на животных и неживую материю. Садясь в карету, я по виду лошадей угадываю, понесут они или нет, по выражению лица кучера – перевернет он меня или нет, разобьет или нет. Ступая на палубу корабля, я сразу вижу, если капитан невежда или упрямец и, следовательно, не сможет или не пожелает выполнить необходимый маневр. Поэтому я держусь подальше от таких кучеров и капитанов, а также от их лошадей и судов. Я не отрицаю случайностей – я их свожу к минимуму. Вместо того чтобы оставлять им сто процентов вероятия, я отнимаю у них девяносто девять и остерегаюсь сотого. Это-то и позволило мне прожить три тысячи лет.
– В таком случае, – среди возгласов энтузиазма и разочарования, вызванных словами Калиостро, проговорил с улыбкой Лаперуз, – в таком случае, мой дорогой пророк, вам следует отправиться со мною и взглянуть на мои корабли. Вы окажете мне неоценимую помощь.
Калиостро промолчал.
– Господин маршал, – все с той же улыбкой продолжал мореплаватель, – раз господин граф де Калиостро не хочет покидать столь милое общество, и я его понимаю, то позвольте сделать это мне. Прошу извинить меня, господин граф Хага, прошу извинить меня, сударыня, но бьет семь, а я обещал королю уже в семь с четвертью сидеть в почтовой карете. А теперь, раз господин граф де Калиостро не склонен отправиться со мной и бросить взгляд на мои корабли, пусть он скажет хотя бы, что произойдет со мною на пути от Версаля до Бреста. От Бреста до полюса я уж как-нибудь обойдусь без его услуг, это мое дело, но насчет дороги от Версаля до Бреста он, черт возьми, должен меня просветить.
Калиостро посмотрел на Лаперуза с такою нежностью и грустью, что большинство сидевших за столом были удивлены. Но мореплаватель ничего не заметил. Он откланялся, слуги набросили на него тяжелый меховой плащ, а г-жа Дюбарри сунула ему в карман горсть конфет, о которых путешественник сам никогда не подумает, но которые так сладки для него, когда в долгие ночи среди стужи напоминают ему об отсутствующих друзьях.
Все так же улыбаясь, Лаперуз почтительно поклонился графу Хаге и протянул руку старому маршалу.
– Прощайте, мой дорогой Лаперуз, – проговорил герцог де Ришелье.
– Нет, господин герцог, до свидания, – ответил Лаперуз. – Ей-богу, можно подумать, что я уезжаю навсегда, а я отправляюсь всего лишь вокруг света, года на четыре-пять, не больше, так что говорить «прощайте» совершенно ни к чему.
– Года на четыре-пять! – воскликнул маршал. – Уж лучше, сударь, скажите «на четыре-пять веков»! В моем возрасте каждый год считается за век, так что все-таки прощайте!
– Вот еще! – рассмеялся Лаперуз. – Спросите у прорицателя, и он напророчит вам еще лет двадцать. Не правда ли, господин де Калиостро? Ах, граф, что ж вы раньше не рассказывали мне о своих каплях? Я погрузил бы на свою «Астролябию»[15] их целую бочку, чего бы это мне ни стоило. Так называется мой корабль, господа. Сударыня, позвольте еще раз поцеловать вашу прекрасную руку – самую прекрасную из всех, какие я увижу здесь по возвращении. До свидания!
С этими словами Лаперуз удалился.
Калиостро продолжал хранить зловещее молчание.
Шаги капитана гулко простучали по ступеням крыльца, во дворе послышался его веселый голос: Лаперуз прощался со всеми, кто собрался его проводить.
Лошади тряхнули головами, украшенными колокольчиками, сухо стукнула дверца кареты, и колеса загремели по улице.
Лаперуз сделал первый шаг по тому таинственному пути, из которого ему не суждено было вернуться.
Гости сидели, прислушиваясь.
Наступила тишина, и взоры присутствующих, словно по волшебству, обратились в сторону Калиостро. Его лицо озарилось таким пророческим светом, что все вздрогнули.
Несколько мгновений в столовой царило странное молчание.
Первым его нарушил граф Хага:
– Почему вы ему ничего не ответили, сударь?
В этом вопросе отразилось беспокойство всех присутствующих.
Калиостро вздрогнул, словно сказанные графом слова вывели его из глубокой задумчивости.
– Потому что мне пришлось бы или солгать, или сказать жестокую правду, – ответил Калиостро графу.
– Что вы имеете в виду?
– Я должен был сказать следующее: «Господин Лаперуз, герцог де Ришелье прав, считая, что больше с вами не увидится и прощается навсегда».
– Какого черта? – побледнев, воскликнул Ришелье. – Что вы такое говорите, господин де Калиостро?
– О, успокойтесь, господин маршал, – живо отозвался Калиостро, – это предсказание печально, но не для вас.
– Как! – вскричала г-жа Дюбарри. – Бедняга Лаперуз, который только сейчас поцеловал мне руку…
– Не только никогда больше ее не поцелует, сударыня, но и никогда не увидит тех, с кем простился этим вечером, – докончил Калиостро, внимательно вглядываясь в бокал с водой, в котором на яркой опаловой жидкости играли тени от окружающих предметов.
С губ у присутствующих сорвался изумленный вскрик.
Их интерес к завязавшемуся разговору возрастал с каждой минутой; судя по серьезному, чуть ли не тоскливому виду, с каким они – кто голосом, кто взглядом – задавали вопросы, могло показаться, что собравшиеся приготовились внимать предсказаниям античного оракула.
Среди всеобщей озабоченности г-н де Фаврас, уловив общее настроение, поднялся, приложил палец к губам и на цыпочках прошел в прихожую, чтобы узнать, не подслушивает ли кто из слуг.
Но, как мы уже говорили, в доме у маршала де Ришелье царил порядок, поэтому г-н де Фаврас увидел в прихожей лишь старого управителя, который с суровостью часового, стоящего на отдаленном посту, охранял подступы к столовой в торжественный час десерта.
Г-н де Фаврас вернулся на место и жестом показал гостям, что они одни.
– В таком случае, – громко заговорила г-жа Дюбарри, успокоенная уверениями г-на де Фавраса, – расскажите нам, граф, что ждет беднягу Лаперуза.
Калиостро отрицательно покачал головой.
– Да будет вам, господин Калиостро! – наперебой загалдели мужчины.
– Мы вас просим, в конце концов!
– Что ж, господин де Лаперуз, как он сам вам сказал, выходит в море с целью совершить кругосветное путешествие и продолжить маршруты несчастного Кука, который, как вам известно, был убит на Сандвичевых[16] островах.
Присутствующие согласно закивали.
– Этому путешествию все предвещает успех. Господин де Лаперуз – отменный моряк, кроме того, король Людовик Шестнадцатый сам весьма умело проложил маршрут плавания.
– О да, – перебил граф Хага, – король Франции – знающий географ, не так ли, господин де Кондорсе?
– Даже более знающий, нежели это нужно для короля, – согласился маркиз. – Короли должны знать обо всем лишь в общих чертах. Тогда ими смогут руководить люди, знающие предмет всесторонне.
– Это урок, господин маркиз? – улыбнувшись, спросил граф Хага.
– О нет, господин граф, просто размышление, немножко философское.
– Итак, он выходит в море? – вмешалась г-жа Дюбарри, желая прервать любую попытку повернуть разговор в сторону от главного направления.
– Итак, он выходит в море, – повторил Калиостро. – Но хотя он и покинул нас так поспешно, не думайте, что он выйдет в море немедленно. Нет, насколько я вижу, он потеряет много времени в Бресте.
– Жаль, – заметил Кондорсе, – сейчас как раз самое время пускаться в плавание. Даже немного поздно, в феврале или марте было бы лучше.
– О, не ставьте ему в упрек эти несколько месяцев, господин де Кондорсе, ведь все это время он жил – жил и надеялся.
– Надеюсь, спутники у него достойные? – осведомился Ришелье.
– Вполне, – ответил Калиостро. – Командир второго корабля – славный офицер. Я вижу его: он еще молод, полон жажды приключений и, к несчастью, отважен.
– К несчастью?
– Я пытаюсь отыскать, где он будет через год, но не вижу его, – проговорил Калиостро, с беспокойством вглядываясь в бокал. – Никто из вас не находится в родстве или свойстве с господином де Ланглем?
Нет.
– И никто с ним не знаком?
– Никто.
– Так вот: смерти начнутся с него. Я больше его не вижу.
Среди присутствующих пронесся ропот страха.
– Ну, а он?.. Как он?.. Лаперуз? – послышались запинающиеся голоса.
– Плывет, пристает к берегу, отплывает снова… Один год успешного плавания, другой. От него будут получены известия[17]. А потом…
– Что потом?
– Пройдут годы.
– И в конце концов?
– В конце концов – необозримый океан, пасмурное небо. Тут и там появляются неизведанные земли, тут и там возникают уродливые фигуры, напоминающие чудовищ греческого архипелага. Они подстерегают корабль, который течение несет сквозь туман меж рифами. Потом шторм, однако более милосердный, нежели берег, потом два зловещих огня. О Лаперуз, Лаперуз! Если бы ты мог меня слышать, я сказал бы тебе: «Ты, словно Христофор Колумб, отправился открывать новые земли, Лаперуз, но опасайся неизведанных островов!»
Калиостро умолк.
Едва над столом отзвучали его последние слова, как по телу гостей пробежала ледяная дрожь.
– Но почему же вы его не предупредили? – вскричал граф Хага, как и другие поддавшийся влиянию этого необычного человека, который по своей прихоти заставлял сердца биться сильнее.
– Да, да, – подхватила г-жа Дюбарри, – нужно послать за ним, вернуть его! Жизнь такого человека, как Лаперуз, стоит усилий одного гонца, мой дорогой маршал.
Маршал понял и тут же привстал, чтобы позвонить. Калиостро движением руки удержал его. Маршал упал назад в кресло.
– Увы! – продолжал Калиостро. – Советы тут ни к чему: человек, способный читать судьбу, не способен ее изменить. Услышав мои слова, господин де Лаперуз просто рассмеялся бы, как смеялись сыновья Приама над пророчеством Кассандры. Да что там, вы и сами посмеиваетесь, господин граф Хага, и вскоре остальные последуют вашему примеру. О, не спорьте, господин де Фаврас, я еще не встречал слушателей, которые бы мне верили.
– Но мы верим! – в один голос вскричали г-жа Дюбарри и старый герцог де Ришелье.
И я верю, – пробормотал Таверне.
– Я тоже, – учтиво подтвердил граф Хага.
– Да, вы верите, – отозвался Калиостро, – верите, так как речь идет не о вас, а коснись она вас, вы бы поверили?
– Еще бы!
– Несомненно!
– Я поверил бы, – сказал граф Хага, – если бы был на месте господина де Лаперуза и господин де Калиостро действительно сказал бы мне: «Остерегайтесь неизведанных островов». Тогда я был бы настороже, это все-таки какой-то шанс.
– Нет, уверяю вас, господин граф: поверь он мне, это было бы ужасно. Судите сами: при виде неизведанных островов несчастный всякий раз ощущал бы опасность; веря моему предсказанию, он чувствовал бы, что ему отовсюду грозит таинственная смерть, а он не может спастись. И он пережил бы уже не одну, а тысячу смертей – ведь идти во мраке, не чувствуя ничего, кроме отчаяния, не лучше, чем умирать тысячу раз. Ведь надежда, которую я у него отнял бы, – это последнее утешение, остающееся у горемыки даже под ножом: пусть нож уже касается его тела, пусть он чувствует прикосновение острия, пусть уже брызнула кровь. Пусть уходит жизнь, но человек все еще надеется.
– Это верно, – вполголоса проговорили некоторые из присутствующих.
– Да, – продолжал Калиостро, – завеса, скрывающая от нас конец нашей жизни, – единственное настоящее благо, которое Господь даровал человеку на земле.
– Как бы там ни было, – заметил граф Хага, – но если бы человек вроде вас посоветовал мне опасаться какого-то человека или какой-то вещи, я послушался бы его и поблагодарил.
Калиостро едва заметно покачал головой и печально улыбнулся.
– В самом деле, господин де Калиостро, – продолжал граф, – предупредите меня, и я вас отблагодарю.
– Вы хотите, чтобы я сказал вам то, чего не захотел сказать господину де Лаперузу?
– Да, хочу.
Калиостро уже собрался было заговорить, но вдруг передумал.
– Нет, господин граф, нет, – бросил он.
– Но я вас очень прошу!
Калиостро отвернулся и прошептал:
– Никогда.
– Берегитесь, – с улыбкой сказал граф, – я могу в вас разувериться.
– Лучше уж неверие, чем тоска.
– Господин де Калиостро, – серьезно продолжал граф, – вы забываете об одном.
– О чем же? – почтительно полюбопытствовал пророк.
– О том, что если многие люди могут позволить себе ничего не ведать о своей судьбе, то есть и такие, которым просто необходимо знать будущее, поскольку их судьба важна не только для них самих, но и для миллионов других людей.
– В таком случае, прикажите, – сказал Калиостро. – Без приказа я ничего не стану делать.
– Что вы хотите этим сказать?
– Что если ваше величество повелит, я подчинюсь, – тихо ответил Калиостро.
– Повелеваю вам открыть мне мое будущее, господин де Калиостро, – произнес король величественно и вместе с тем любезно.
Как только граф Хага позволил обращаться к себе как королю и, отдав приказ, нарушил свое инкогнито, г-н де Ришелье встал, смиренно поклонился и проговорил:
– Благодарю вас, государь, за честь, которую король Швеции оказал сему дому. Благоволите, ваше величество, занять почетное место, теперь оно только ваше.
– Давайте оставим все как есть, маршал, чтобы не потерять ни слова из того, что собирается сообщить мне господин де Калиостро.
– Однако королям правды не говорят, государь.
– Но я не у себя в королевстве. Займите же свое место, герцог, говорите, господин де Калиостро, заклинаю вас.
Калиостро поднес бокал к глазам: из его глубины, словно в шампанском, побежали пузырьки, казалось, взгляд графа притягивает воду и она бурлит, подчиняясь его воле.
– Скажите, что вы хотите узнать, государь, я готов ответить, – промолвил Калиостро.
– Какой смертью я умру?
– Вы умрете от пули, государь.
Чело Густава прояснилось.
– Ах, значит, в битве, – воскликнул он, – смертью солдата. Благодарю, господин де Калиостро, тысячу раз благодарю. Да, я предвижу многие битвы, а Густав-Адольф и Карл Двенадцатый показали мне, как умирают короли Швеции.
Калиостро молча опустил голову. Граф Хага нахмурился.
– Как! Разве пуля убьет меня не в разгар битвы? – спросил он.
– Нет, государь.
– Тогда, вероятно, во время мятежа. Что ж, и такое возможно.
– Нет, государь, и не во время мятежа.
– Но где же это случится?
– На балу, государь[18].
Король задумался.
Калиостро, который было поднялся, опять сел и спрятал лицо в ладони.
Все, сидевшие рядом с пророком и предметом его пророчества, побледнели.
Г-н Кондорсе подошел к бокалу, в котором была прочитана столь зловещая судьба, взял его за ножку, поднял на уровень глаз и принялся пристально разглядывать сияющие грани и таинственное содержимое.
Казалось, умный, холодный взгляд ученого требовал у хрусталя – как твердого, так и жидкого – решения задачи, которую его разум свел к чисто физическому явлению.
И в самом деле: ученый прикидывал глубину бокала, углы отражения света и микроскопические движения воды. Он, всегда стремившийся доискаться причины явления, гадал: зачем этот человек, которому не откажешь в необыкновенных способностях, занимается шарлатанством перед достойными людьми, сидящими за столом.
Не найдя ответа на свой вопрос, он перестал разглядывать бокал, поставил его обратно на стол и среди всеобщего потрясения, вызванного пророчеством Калиостро, сказал:
– Ну что ж, я тоже прошу нашего славного пророка задать вопрос этому волшебному зеркалу. К несчастью, – добавил он, – я не могущественный властелин, приказов отдавать не могу, а моя безвестная жизнь никак миллионам людей не принадлежит.
– Сударь, – проговорил граф Хага, – вы можете приказывать именем науки, а ваша жизнь важна не только для вашего народа, но и для всего человечества.
– Благодарю вас, господин граф, но, быть может, господин де Калиостро не разделяет вашего мнения?
Калиостро вздернул голову, словно пришпоренный скакун.
– Будь по-вашему, маркиз, – ответил он с раздражением, которое древние приписали бы влиянию какого-нибудь терзающего его божества. – Будь по-вашему, вы – могущественный властелин в царстве мысли. Посмотрите мне в глаза: вы действительно желаете, чтобы я предсказал вам вашу судьбу?
– Действительно, господин граф, клянусь честью! – ответил Кондорсе.
– Так вот, маркиз, – глухо проговорил Калиостро, опуская глаза под пристальным взглядом маркиза, – вы умрете от яда, который лежит в перстне, что вы носите. Вы умрете…
– Но если я его выброшу? – прервал маркиз.
– Выбросьте.
– Признайте, ведь сделать это несложно.
– Так выбросьте, я же говорю.
– Ну, конечно, маркиз, – воскликнула г-жа Дюбарри, – ради Бога, выбросьте свой мерзкий яд – хотя бы для того, чтобы уличить во лжи этого противного пророка, огорчающего нас своими прорицаниями. Ведь если вы его выбросите, то отравиться им уж никак не сможете, а раз господин де Калиостро утверждает, что будет именно так, то и получится, что он сказал неправду.
– Госпожа графиня права, – поддержал граф Хага.
– Браво, графиня! – отозвался Ришелье. – Знаете, маркиз, в самом деле выбросьте яд. Это будет неплохо еще вот почему: зная, что вы носите на руке смерть, я теперь буду трепетать всякий раз, когда нам придется вместе пить. Перстень может открыться сам, а…
– А когда люди чокаются, бокалы оказываются совсем рядом. Выбросьте, маркиз, выбросьте, – поддержал Таверне.
– Бесполезно, – спокойно заметил Калиостро. – Господин де Кондорсе не выбросит его.
– Да, – подтвердил маркиз, я с ним не расстанусь, и не потому, что хотел бы помочь судьбе, а потому, что этот яд, приготовленный Кабанисом[19], – единственный в своем роде, он получился случайно и случай этот может больше не повториться. Нет, я его не выброшу. Можете праздновать победу, господин де Калиостро.
– Судьба, – проговорил тот, – всегда отыщет верных помощников, которые выполнят ее предначертания.
– Значит, я умру от яда, – подытожил маркиз. – Что ж, чему быть, того не миновать. Добровольно от яда не умирают. Вы предсказали мне замечательную смерть: чуть-чуть яда на кончик языка – и меня нет. Это даже не смерть, это – минус жизнь, как выражаются в алгебре.
– Но я вовсе не хочу, чтобы вы страдали, сударь, – холодно ответил Калиостро, давая жестом понять, что больше он ничего говорить не намерен, во всяком случае относительно г-на де Кондорсе.
– Сударь, – вступил в разговор маркиз де Фаврас, наваливаясь грудью на стол, словно для того, чтобы быть поближе к Калиостро, вы уже назвали кораблекрушение, выстрел, отравление, у меня даже слюнки потекли. Так, может, вы предскажете и мне что-нибудь в этом роде?
– О, господин маркиз, – ответил Калиостро несколько оживленнее и ироничнее, – зря вы завидуете этим господам, ведь вас как дворянина ждет кое-что похуже.
– Похуже! – со смехом воскликнул г-н де Фаврас. – Берегитесь, вы слишком много на себя берете: что может быть хуже моря, выстрела или яда?
– Остается еще веревка, господин маркиз, – учтиво ответил Калиостро.
– Веревка? Но что вы хотите этим сказать?
– Лишь то, что вы будете повешены[20], – ответил Калиостро, не в силах более сдерживать свой пророческий гнев.
– Повешен? Какого дьявола? – раздались голоса.
– Вы забываете, что я дворянин, сударь, – немного отрезвев, ответил Фаврас. – А если речь идет о самоубийстве, то предупреждаю: я намерен до последнего момента уважать себя достаточно для того, чтобы не прибегать к веревке, если при мне будет шпага.
– Я говорю не о самоубийстве, сударь.
– Стало быть, речь идет о казни.
– Совершенно верно.
– Вы иностранец, сударь, и поэтому я вам прощаю.
– Что прощаете?
– Ваше неведение. Во Франции дворян обезглавливают.
– Вы уладите это дело с вашим палачом, сударь, – резко ответил Калиостро, чем совершенно сокрушил собеседника.
Среди гостей возникло известное замешательство.
– Знаете, я уже дрожу, – признался г-н Делоне. – Тут уже наговорили столько печального, что вряд ли меня ждет нечто более приятное.
– Вы весьма благоразумны, что не желаете узнать свое будущее. Вы правы: каким бы оно ни было, следует уважать тайны Всевышнего.
– Но, господин Делоне, – вмешалась г-жа Дюбарри, – вы, я надеюсь, не менее отважны, чем ваши предшественники.
– Я тоже на это надеюсь, – с поклоном ответил губернатор Бастилии.
Затем он повернулся к Калиостро и попросил:
– Что ж, сударь, начертите и мой гороскоп, прошу вас.
– Это несложно, – отозвался Калиостро. – Удар топора – и все кончено.
В столовой раздался крик ужаса. Ришелье и Таверне принялись умолять Калиостро на этом остановиться, однако женское любопытство восторжествовало.
– Вас послушать, господин граф, – заметила г-жа Дюбарри, – так выходит, что все на свете умирают насильственной смертью. Нас тут восемь человек, и пятерых из них вы уже приговорили.
– Но вы же понимаете, что господин граф делает это умышленно, а мы просто развлекаемся, сударыня, – заявил г-н де Фаврас, пытаясь изобразить смех.
– Конечно, смешно, и даже неважно, правда это или нет, – поддержал граф Хага.
– Я тоже посмеялась бы, – ответила г-жа Дюбарри, – мне не хотелось бы из-за собственного малодушия оказаться недостойной нашего собрания. Но, увы, я всего лишь женщина, мне ли равняться с вами трагичностью кончины? Женщина умирает у себя в постели. Увы, моя смерть, грустная смерть забытой всеми старухи, будет самой неинтересной, не правда ли, господин де Калиостро?
Последние слова она произнесла с некоторым колебанием, всем своим видом давая прорицателю повод утешить ее, но Калиостро этого делать не стал.
В конце концов любопытство пересилило страх.
– Отвечайте же, господин де Калиостро, – проговорила г-жа Дюбарри.
– Как же я стану отвечать, сударыня, ежели вы не спрашиваете?
– Но… – помедлив, начала графиня.
– Полно, – отрезал Калиостро. – Говорите прямо: будете вы спрашивать или нет?
Ободренная улыбками собравшихся, графиня сделала над собою усилие и воскликнула:
– А, была не была! Рискнем! Скажите: каков будет конец Жанны де Вобернье, графини Дюбарри?
– На эшафоте, сударыня, – изрек мрачный прорицатель.
– Вы шутите, сударь, не правда ли? – глядя с мольбой на Калиостро, пробормотала графиня.
Однако взвинченный до крайности граф этого взгляда не заметил.
– Почему же шучу? – поинтересовался он.
– Да ведь чтобы попасть на эшафот, нужно кого-нибудь убить, ну, в общем, совершить преступление, а я, по всей вероятности, этого не сделаю. Так что вы шутите, правда?
– О, Боже ты мой, конечно, шучу, как и во всех предыдущих предсказаниях! – взорвался Калиостро.
Графиня разразилась смехом, который внимательный наблюдатель нашел бы несколько более пронзительным, чем следовало.
– Что ж, господин де Фаврас, – сказала она, – пора, видимо, заказывать траурный кортеж.
– Вам, графиня, он не понадобится, – возразил Калиостро.
– Это почему же, сударь?
– Потому что на эшафот вас повезут в телеге.
– Фу, какой ужас! – вскричала г-жа Дюбарри. – Какой же вы злой! Маршал, в следующий раз не приглашайте таких гостей, или я к вам больше не приеду.
– Прошу меня извинить, сударыня, но вы, также как и другие, хотели этого, – парировал Калиостро.
– Как другие… Но вы хоть дадите мне время выбрать исповедника?
– Это будет напрасный труд, графиня, – ответил Калиостро.
– Почему же?
– Последним, кто взойдет на эшафот в сопровождении исповедника, будет…
– Кто? – в один голос выдохнули собравшиеся.
– Король Франции.
Эти слова Калиостро произнес столь глухо и скорбно, что на гостей повеяло леденящим дыханием смерти.
Несколько минут в столовой царило молчание.
Калиостро поднес к губам бокал с водой, из которого черпал свои кровавые пророчества, но тут же с непреодолимым отвращением поставил эту горькую чашу обратно на стол.
Взгляд его упал на г-на де Таверне.
О, воскликнул тот, думая, что Калиостро собирается предсказывать его судьбу, – не говорите ничего, я не прошу вас об этом!
– А вот я прошу, – проговорил герцог де Ришелье.
– Успокойтесь, господин маршал, – ответил Калиостро, – вы – единственный из нас, кто умрет в своей постели.
– А теперь – кофе, господа, – предложил обрадованный предсказанием маршал. – Прошу вас!
Все встали.
Но прежде чем пройти в гостиную, граф Хага приблизился к Калиостро и спросил:
– У меня и в мыслях нет, сударь, убегать от своей судьбы, но скажите: чего я должен опасаться?
– Муфты, государь, – ответил Калиостро.
Граф Хага отошел в сторону.
– А я? – спросил Кондорсе.
– Омлета.
– Ладно, тогда я отказываюсь от яиц.
И он присоединился к графу.
– А мне, – проговорил Фаврас, – чего следует бояться мне?
– Письма.
– Благодарю.
– А мне? – осведомился Делоне.
– Взятия Бастилии.
– О, это меня успокаивает.
И он с улыбкой удалился.
– А теперь обо мне, сударь, – взволнованно попросила графиня.
– А вам, прелестная графиня, следует опасаться площади Людовика Пятнадцатого!
– Увы, – ответила графиня, – однажды я там уже заблудилась. Ну и намучилась же я, чуть голову не потеряла!
– Что ж, в следующий раз вы потеряете ее окончательно, графиня.
Г-жа Дюбарри вскрикнула и поспешила в гостиную. Калиостро двинулся было следом, но герцог де Ришелье остановил его.
– Одну минутку! Вы не сказали ничего Таверне и мне, дорогой чародей.
– Господин де Таверне попросил меня ничего не говорить, а вы, господин маршал, ни о чем не спрашивали.
– И продолжаю просить! – стиснув руки воскликнул Таверне.
– Послушайте, граф, чтобы доказать свое могущество, не могли бы вы угадать кое-что, известное только нам двоим?
– Что же? – с улыбкой осведомился Калиостро.
– Скажите: отчего наш славный Таверне торчит сейчас в Версале, вместо того чтобы спокойно жить в своем чудном поместье Мезон-Руж, которое король три года назад выкупил для него?
– Нет ничего проще, господин маршал, – ответил Калиостро. – Десять лет назад господин де Таверне пытался подсунуть свою дочь мадемуазель Андреа королю Людовику Пятнадцатому, но у него ничего не вышло.
– Однако! – проворчал Таверне.
– А теперь он пытается подсунуть своего сына Филиппа де Таверне королеве Марии Антуанетте. Спросите у него сами, лгу я или нет.
– Ей-богу, – дрожа, воскликнул Таверне, – этот человек – чародей, провалиться мне в тартарары!
– Мой старый друг, – заметил маршал, – не следует с такою развязностью упоминать потусторонний мир.
– Какой ужас! – пробормотал Таверне и повернулся, чтобы попросить Калиостро никому не проговориться, но того уже и след простыл.
– Пойдем, Таверне, пойдем в гостиную, – сказал маршал, – а то они выпьют кофе без нас или он остынет, что будет весьма прискорбно.
С этими словами маршал бросился в гостиную.
Но она оказалась пуста: ни у одного из гостей недостало смелости вновь оказаться лицом к лицу со зловещим оракулом.
В канделябрах горели свечи, на столе дымился кофе, в очаге потрескивали поленья.
Но все это никому уже не было нужно.
– Силы небесные! Кажется, дружище, нам придется пить кофе вдвоем… Что за черт? Куда же он запропастился?
Ришелье оглянулся, но старичок последовал примеру остальных и улизнул.
– Ну что ж, – по-вольтеровски насмешливо проговорил маршал, потирая белые высохшие руки, пальцы которых были унизаны перстнями, – зато я единственный из них, кто умрет в своей постели. Вот так-то – в своей постели! Я верю вам, граф Калиостро. В своей постели и, быть может, не очень-то скоро? Эй! Камердинера ко мне, и капли!
В гостиную с флаконом в руке вошел камердинер, и они с маршалом последовали в спальню.
Зиму 1784 года, это чудовище, набросившееся на шестую часть Франции и рычавшее у каждой двери, мы с вами еще не видели, поскольку сидели в столовой у герцога де Ришелье, дышавшей теплом и всевозможными ароматами.
Заиндевелые окна – это тоже одна из разновидностей роскоши, которую природа дарит живущему в роскоши человеку. Для богача, завернутого в меха, или плотно укупоренного в собственной карете, или нежащегося в вате и бархате в натопленных покоях, у зимы есть и алмазы, и пудра, и золотая вышивка. Любая изморозь – это лишь украшение декораций, а ненастье – их перемена, за которой богач наблюдает из окон и которую производит этот великий и вечный машинист сцены по имени Господь.
Разумеется, тот, кто сидит в тепле, вполне может любоваться черными деревьями и находить прелесть в грустных необозримых равнинах, спеленутых зимою.
Тот, кто ощущает нежные ароматы приближающегося обеда, может порою вдохнуть сквозь приоткрытое окно терпкий запах северного ветра, стужи и ледяного снега и лишь освежит тем самым свои мысли.
И наконец, тот, кто после дня, проведенного тихо и приятно, тогда как миллионы его сограждан испытывали страдания, растянется под пуховой периной, на тонких простынях нагретой постели, – тот может, подобно эгоисту, упомянутому Лукрецием и прославленному Вольтером, найти, что все прекрасно в этом лучшем из миров.
Но тот, кому холодно, совершенно слеп к великолепию этого белого покрывала природы, ничуть не менее прекрасного, чем ее зеленый убор.
Тот, кто голоден, ищет землю и бежит от небес – небес без солнца, а значит, и без улыбки для несчастного.
В то время, до которого мы добрались, то есть в половине апреля, в одном только Париже раздавались стоны трехсот тысяч несчастных, умиравших от стужи и голода, – в Париже, где под предлогом того, что в никаком другом городе нет такого количества богатых людей, ничего не было предпринято, чтобы не дать беднякам погибнуть от холода и нищеты.
За последние четыре месяца жестокое небо выгнало несчастных из деревень в города, как зима гонит волков из леса в деревни.
Больше хлеба, больше дров.
Больше хлеба для тех, кто до сих пор терпел стужу, больше дров, чтобы печь хлеб.
Сделанные запасы Париж истребил в течение месяца; парижский прево, недальновидный и бестолковый, не смог ввезти в город порученные его заботам двести тысяч саженей дров, размещенных в радиусе всего десяти лье от столицы.
Когда подмораживало, он оправдывался тем, что гололедица мешает лошадям идти, когда таяло – тем, что лошадей и телег не хватает. Людовик XVI, не знавший общественных нужд своего народа, однако всегда добрый и отзывчивый к материальным нуждам, начал с того, что выделил двести тысяч ливров для найма лошадей и телег, а чуть позже приказал забирать их силой. Однако все, что поступало, тут же потреблялось. Пришлось ограничить покупателей. Сначала с дровяного двора нельзя было брать более воза дров, потом – более полувоза. У ворот дровяных дворов появились очереди; позже им предстояло выстроиться и у булочных.
Король стал раздавать огромные деньги в качестве милостыни. Взяв три миллиона акцизного дохода, он использовал их на помощь страждущим, заявив, что теперь самое неотложное – это борьба со стужей и голодом.
Королева, со своей стороны, пожертвовала пятьсот луидоров. Монастыри, больницы и общественные здания были превращены в приюты; по примеру короля владельцы особняков приказали отпереть ворота, чтобы бедняки смогли проникнуть во двор и погреться у большого костра.
Таким манером они хотели добиться наступления оттепели!
Но небеса были непреклонны. Каждый вечер они подергивались медно-красной пеленою, на них холодно и безрадостно, словно погребальный факел, горела одинокая звезда, и ночные заморозки вновь сгущали в алмазном озере тусклые хлопья снега, растаявшие было под полуденным солнцем.
Днем тысячи рабочих, вооруженные лопатами и заступами, убирали снег от домов, сгребая его в высокие валы, загромождавшие улицы, которые и так в большинстве своем были слишком узки. Тяжелые кареты скользили, лошади шли нетвердо и поминутно падали, отбрасывая на ледяные стены валов прохожих, которые подвергались теперь тройной опасности: упасть самим, получить удар и быть раздавленными.
Вскоре снега и льда скопилось на улицах столько, что лавок уже стало не видно вовсе; от уборки снега пришлось отказаться, так как люди и гужевой транспорт с нею не справлялись.
Беспомощный Париж признал себя побежденным и перестал бороться с зимой. Так прошли декабрь, январь, февраль и март; порой двух-трехдневная оттепель превращала Париж, лишенный сточных канав и откосов, в настоящий океан.
В такие дни некоторые улицы можно было пересечь лишь вплавь. Лошади погружались в воду и тонули. Ездить по улицам в каретах люди не решались – для этого их прежде следовало переделать в лодки.
Верный своему нраву, Париж складывал песенки о гибели в распутицу, как немного раньше – о голодной смерти. Люди толпились на рынке, глазели на торговок, расхваливающих свой товар, подтрунивали друг над другом из-за громадных кожаных сапог, в которые были заправлены штаны, или из-за юбок, подоткнутых чуть ли не до пояса, хохотали, жестикулировали, брызгали друг в друга грязью, хлюпая по жидкому месиву, в котором жили, однако когда оттепели оказывались недолгими, когда лед становился все толще и прочнее, когда вчерашние озера превращались назавтра в скользкий хрусталь, кареты сменялись санями, которые катились по зеркалу улиц, подталкиваемые людьми на коньках или же влекомые лошадьми, подкованными в шип. Сена, промерзшая на глубину в несколько футов, стала местом встречи всяких шалопаев, которые катались там по льду с горок, скользили на коньках и устраивали всяческие забавы, после чего, разгоряченные этими гимнастическими упражнениями, бежали к ближайшему костру, где могли отдохнуть, не боясь, что пот замерзнет прямо на них.
Приближался день, когда сообщение по воде будет прервано, а по суше сделается невозможным, подвоз провизии прекратится, и Париж, этот громадный организм, погибнет из-за недостатка пищи, подобно тем чудовищным китам, которые, съев все, что было поблизости, умирают от истощения, окруженные полярными льдами и не имея возможности по примеру мелкой рыбешки, составлявшей их добычу, проплыть через разломы в места с более умеренным климатом, в воды, где еще есть пища.
Предвидя столь бедственную перспективу, король собрал совет. Было решено, что из Парижа выселят, вернее, попросят вернуться к себе в провинцию епископов, аббатов и монахов, до сих пор беззаботно живших в столице, губернаторов и интендантов областей, устроивших себе в Париже резиденции, а также судейских, которые предпочитали Оперу и свет своим расшитым лилиями креслам.
И в самом деле, все эти люди расходовали большое количество дров для отопления своих богатых особняков и переводили у себя в громадных поварнях множество провизии.
Провинциальным сеньорам также было предложено вернуться к себе в замки. Однако начальник полиции г-н Ленуар заявил королю, что все эти люди ни в чем не провинились, поэтому немедленного отъезда потребовать от них нельзя, и в результате они, не испытывая охоты уезжать, а также из-за плохих дорог так затянули сборы в дорогу, что оттепель наступила раньше, чем эта мера принесла плоды, а неудобства были причинены изрядные.
Между тем сострадание короля, опустошившее его денежный сундук, и милосердие королевы, истощившее ее кошелек, встретили признательность простого люда, который выражал ее, строя весьма прихотливые, но эфемерные, как добро и зло, монументы в память о благодеяниях, излившихся на подданных со стороны Людовика XVI и его супруги. Как некогда солдаты воздвигали в честь генерала-победителя горы из трофейного оружия, отобранного у врага, так парижане на полях битв с зимой сооружали изо льда и снега обелиски королю и королеве. Участие в постройке принимал каждый: чернорабочий предоставлял свои руки, ремесленник – трудолюбие, художник – талант, и на всех углах главных улиц стали возникать изящные, дерзкие и прочные обелиски, тогда как бедные литераторы, которых монаршие благодеяния застали в мансардах, приносили в дар надписи, рожденные не столько умом, сколько сердцем.
В конце марта начались оттепели, но еще неустойчивые, с возвратом заморозков, которые продлевали нищету, беды и голод парижан, но в то же время хорошо сохраняли снежные монументы.
Бедственное положение в этот последний период достигло предела: из-за появлявшегося порою на небе теплого солнца ветреные и холодные ночи казались еще более студеными, толстые слои льда и снега растаяли и ручьями бежали в Сену, затопляя все вокруг. Но в первые дни апреля началось одно из похолоданий, о которых мы упоминали: обелиски, уже покрывшиеся испариной, предвестницей их гибели, и наполовину растаявшие, вновь затвердели, бесформенные и поникшие, слой белого снега покрыл бульвары и набережные, на них снова появились сани, запряженные резвыми лошадьми. На бульварах и набережных все обстояло наилучшим образом, однако на улицах кареты и быстрые одноколки стали истым бичом для пешеходов, которые, не слыша их приближения и не имея возможности из-за сугробов отойти в сторону, часто попадали прямо под колеса.
В несколько дней в Париже стало полным-полно раненых и умирающих. То нога, сломанная в результате падения на обледенелой улице, то грудь, продавленная оглоблей одноколки, летевшей на полной скорости и не сумевшей остановиться на льду. Тогда полиция принялась спасать от колес тех, кому удалось избежать смерти от холода, голода и наводнений. Богачей, которые давили бедняков, стали штрафовать. В те времена, во времена владычества аристократии, у нее была даже своя манера править лошадьми: принц крови несся во весь опор и даже не кричал: «Берегись!», герцог и пэр, дворянин и девица из Оперы ехали крупной рысью, президент или финансист – просто рысью, щеголь в свой одноколке правил так, словно отправлялся на охоту, а стоявший у него на запятках жокей кричал: «Берегись», когда его хозяин задевал или опрокидывал какого-нибудь несчастного.
Кто мог, по словам Мерсье[21], тот вставал, но, в сущности, если только парижанин видел на бульваре изящные сани с красиво выдвинутым передком, если только мог насладиться видом придворных дам в куньих или горностаевых шубах, пролетавших, словно метеоры, по сверкающему льду, если только позолоченные бубенцы, пурпурные уздечки и плюмажи лошадей веселили ребятню, выстроившуюся шеренгами, чтобы полюбоваться на все это великолепие, – тогда парижский буржуа забывал и о нерадении полицейских, и о грубости кучеров, а бедняк хотя бы на миг забывал о своей нищете, к которой привык еще в те времена, когда его опекали или хотя бы делали вид, что опекают богатые люди.
Вот в это самое время, через неделю после данного г-ном де Ришелье в Версале обеда, солнечным, но студеным днем, в Париж въехали четверо изящных саней; они бойко катили по насту, покрывавшему аллею Королевы и оконечности бульваров, начиная от Елисейских полей. За пределами Парижа снег долго сохраняет девственную белизну, так как прохожие там редки. Не то в Париже: тысячи ног быстро истаптывают и делают грязной эту великолепную мантию зимы.
Скользившие по сухому снегу сани сначала остановились у бульвара, то есть там, где наст кончался. Дневное солнце прогрело воздух, и началась кратковременная оттепель; мы говорим «кратковременная», поскольку чистое, холодное небо сулило на ночь ледяной ветер, вымораживающий первые побеги и цветы.
В передних санях сидели двое мужчин в дорожных плащах из коричневого драпа с воротниками, подбитыми мехом; единственное различие в их одежде заключалось в том, что у одного пуговицы и петлицы были обшиты золотом, а у другого – просто шелком.
Эти двое, влекомые вороной лошадью, из ноздрей которой валил пар, поглядывали время от времени на едущие следом сани, словно наблюдая за ними. Во вторых санях сидели две женщины, так плотно укутанные в меха, что разглядеть их лица не представлялось никакой возможности. Вообще-то было бы трудно даже определить, к какому полу принадлежат эти фигуры, если бы не высокие прически, прикрытые маленькими шляпками с перьями.
С этих громадных сооружений из волос, украшенных яркими лентами, слетали облачка пудры – так порой северный ветер стряхивает с ветвей облачка инея.
Две дамы, сидя вплотную друг к другу, вели беседу и не обращали ни малейшего внимания на бульварных зевак, пяливших на них глаза.
Мы забыли сказать, что, постояв с минуту, сани продолжили свой путь.
Одна из дам, более высокая и полная, прижимая к губам вышитый батистовый платочек, держала голову высоко и твердо, несмотря на холодный ветер, то и дело налетавший на резво катившие сани. На церкви Сен Круа д'Антен пробило пять; к Парижу подступала ночь, а вместе с нею и мороз.
Тем временем сани почти уже добрались до заставы Сен-Дени.
Дама – та самая, что держала у губ платочек, – сделала знак ехавшим в авангарде мужчинам, и те, настегивая свою вороную, стали удаляться. Затем она повернулась к арьергарду, состоявшему из двух саней, управляемых кучерами без ливреи, и те, повинуясь данному им знаку, скрылись в глубине улицы Сен-Дени.
Сани же с двумя мужчинами, как мы уже говорили, уехали далеко вперед и наконец растворились в вечернем тумане, сгущавшемся вокруг огромного здания Бастилии.
Вторые сани доехали до бульвара Менильмонтан и остановились. Прохожие встречались здесь редко: их разогнала по домам приближающаяся ночь, да и мало кто из буржуа осмеливался гулять по этому отдаленному кварталу без сопровождающих с фонарем, с тех пор как зима заострила зубы нескольким тысячам подозрительных нищих, которые постепенно превратились в грабителей.
Дама, являвшаяся, как уже понял читатель, здесь главной, тронула пальцем плечо кучера.
Сани встали.
– Вебер, – спросила она, – сколько времени вам понадобится, чтобы пригнать одноколку сами знаете куда?
– Коспожа перет отноколку? – с сильным немецким акцентом осведомился кучер.
– Да, я пройду по улицам и посмотрю костры. Да и улицы гораздо более грязны, чем бульвары, на санях по ним проехать трудно. К тому же я слегка замерзла. Вы тоже, не правда ли, милочка? – обратилась дама к спутнице.
– Да, сударыня, – отвечала та.
– Значит, поняли, Вебер? Вы сами знаете куда, и с одноколкой.
– Хорошо, сударыня.
– Сколько вам нужно времени?
– Полчаса.
– Ладно. Милочка, взгляните-ка на часы.
Более молодая из дам порылась в шубе и посмотрела на часы, что сделать было непросто, так как сумерки сгущались.
– Без четверти шесть, – наконец ответила она.
– Стало быть, без четверти семь, Вебер.
С этими словами дама легко выпрыгнула из саней, подала руку спутнице и пошла прочь, тогда как кучер, сделав жест почтительного отчаяния, пробормотал, но достаточно громко, чтобы хозяйка его услышала:
– Песрассутство! Ах, mein Gott[22], какое песрассутство!
Молодые дамы рассмеялись, поплотнее закутались в шубы, воротники которых доходили им до ушей, и, пересекая боковую аллею бульвара, принялись с наслаждением хрустеть снегом, ступая в него своими маленькими ножками, обутыми в меховые боты.
– У вас зрение лучше, Андреа, – сказала старшая из дам, которой на вид можно было дать лет тридцать с небольшим, – попробуйте отсюда прочесть название этой улицы.
– Улица Понт-о-Шу, сударыня, – с улыбкой ответила младшая.
– Что это еще за улица Понт-о-Шу? О Боже, мы, кажется, заблудились! Улица Понт-о-Шу! А мне сказали – вторая улица направо. Однако вы чувствуете, Андреа, как приятно пахнет теплым хлебом?
– Ничего удивительного, – ответила спутница, – мы ведь у двери булочной.
– Прекрасно! Давайте спросим, где улица Сен-Клод.
И говорившая сделала движение в сторону двери.
– О, не входите, сударыня! – воскликнула молодая женщина. – Позвольте мне.
– Улица Сен-Клод, дамочки? – послышался чей-то игривый голос. – Вы хотите знать, где улица Сен-Клод?
Женщины разом обернулись на голос и увидели прислонившегося к двери булочной хлебопека, выряженного в камзол, но, несмотря на мороз, с голыми ногами и грудью.
– Ах! Голый мужчина! – воскликнула младшая из женщин. – Неужто мы попали в Океанию?
Сделав шаг назад, она спряталась за спутницу.
– Вы ищете улицу Сен-Клод? – продолжал подмастерье, который не понял движения младшей из дам и, привычный к своему наряду, был далек от того, чтобы приписать это движение действию центробежной силы.
– Да, друг мой, улицу Сен-Клод, – ответила старшая из женщин, сдерживая желание рассмеяться.
– Так ее найти не трудно, а впрочем, я вас провожу, – отозвался обсыпанный мукою жизнерадостный парень и, перейдя от слов к делу, принялся, словно циркулем, мерить дорогу своими длиннющими тощими ногами, на которых красовались башмаки, каждый размером с лодку.
– Нет-нет, не нужно, – поспешно возразила старшая женщина, которой явно не улыбалась перспектива быть замеченной с подобным проводником. – Не беспокойтесь, просто объясните нам, где эта улица, и мы постараемся последовать вашим указаниям.
– Первая улица направо, сударыня, – ответил молодой человек и скромно удалился.
– Благодарю, – в один голос проговорили женщины и поспешили в указанном направлении, тихонько посмеиваясь в свои муфты.
Возможно, мы слишком полагаемся на память нашего читателя, однако надеемся, что он все же припомнит улицу Сен-Клод, восточный конец которой примыкает к бульвару, а западный – к улице Сен-Луи. Ведь читатель встречал здесь некоторых героев, которые сыграли или еще сыграют какую-то роль в нашей истории, в те времена, когда здесь жил великий врачеватель Жозеф Бальзамо вместе с сивиллой Лоренцей и учителем Альтотасом.
В 1784 году, точно также как и в 1770-м, когда мы впервые привели сюда нашего читателя, улица Сен-Клод представляла собою вполне благопристойную улицу, правда плохо освещенную – это верно, и не очень-то чистую – это тоже верно. А кроме того, малопосещаемую, плохо застроенную и почти никому не известную. Но у нее были имя святого и все свойства улицы на Болоте, и в качестве таковой она, в нескольких составляющих ее домах, давала приют множеству бедных рантье, множеству бедных торговцев и множеству просто бедняков, забытых даже в церковных книгах здешнего прихода.
Кроме нескольких домишек, на пересечении с бульваром стоял величественный с виду особняк, которым улица Сен-Клод могла бы гордиться как зданием вполне аристократическим, однако особняк этот, чьи окна, расположенные выше ограды, в праздничный день освещали всю улицу одним только сиянием свечей и зеркал, – особняк этот был самым мрачным, немым и недоступным из всех домов квартала.
Дверь его никогда не отворялась, окна были заложены кожаными подушками, и на каждой пластинке их жалюзи, на каждой дощечке их ставен лежала пыль, возраст которой химики или геологи определили бы как по крайней мере десятилетний.
Иногда праздный прохожий, какой-нибудь зевака или сосед подходил к воротам особняка и через внушительных размеров замочную скважину принимался обозревать внутренний двор.
Взору его открывались лишь пучки травы, пробившиеся между плитами, да плесень и мох на самих плитах. Порою скромная крыса, владелица этих заброшенных угодий, спокойно пересекала двор и скрывалась в подвале – скромность совершенно излишняя, так как удобные гостиные и кабинеты, где бы ее не потревожила никакая кошка, находились в полном и нераздельном ее распоряжении.
Если во двор заглядывал прохожий или зевака, то, убедившись, что особняк пуст, он шел своей дорогой, однако если это был сосед, проявлявший по вполне естественным причинам больший интерес к дому, то он почти всегда продолжал свои наблюдения до тех пор, пока рядом с ним не появлялся другой сосед, тоже привлеченный любопытством. В таком случае завязывался разговор, который мы можем воспроизвести как в общих чертах, так и в подробностях.
– Послушайте, сосед, – обращался тот, что не смотрел в скважину, к тому, что смотрел, – что вы там видите во дворе у господина графа де Бальзамо?
– Крысу, сосед, – отвечал тот, что смотрел, тому, что не смотрел.
– Взглянуть не позволите?
И второй ротозей в свою очередь нагибался к замочной скважине.
– Ну что, видите? – спрашивал обездоленный у счастливчика.
– Да, – отвечал тот, – вижу. Но до чего ж она жирная, сударь!
– Вы полагаете?
– Уверен.
– Я тоже так полагаю, ведь ей там приволье.
– Воля ваша, а по-моему, в доме должны были остаться лакомые кусочки.
– Лакомые кусочки, говорите?
– Да ведь господин де Бальзамо исчез слишком быстро, чтобы чего-нибудь да не оставить.
– Эх, соседушка, если дом наполовину сгорел, что в нем может остаться?
– Пожалуй, сосед, вы и правы.
И, в последний раз бросив взгляд на крысу, они расходились, испуганные, что столько наговорили о такой таинственной и деликатной материи.
И действительно, после пожара, случившегося в доме, вернее, в одной его части, Бальзамо исчез, никакого ремонта произведено не было, и особняк так и стоял заброшенный.
Пускай себе этот старый особняк, пройти мимо которого, как мимо давнего знакомого, мы не могли, – пускай себе он стоит среди ночи, мрачный и сырой, с террасами, покрытыми снегом, и крышей, изглоданной пламенем, а мы, пройдя по улице направо, посмотрим лучше на садик, окруженный стеной, и на высокий узкий дом, который, подобно белой башне, возвышается на фоне серо-голубого неба.
С крыши дома тянется к небу, словно громоотвод, труба, а точно над нею мерцает яркая звезда.
Последний этаж дома вовсе потерялся бы во мраке, если бы в двух окнах из трех, выходящих на улицу, не горел свет.
Другие же этажи мрачны и унылы. Быть может, их обитатели уже спят? Берегут, завернувшись в одеяла, такие дорогие нынче свечи и дрова, с которыми так трудно в этом году? Как бы там ни было, но четыре этажа этого дома не подают признаков жизни, тогда как пятый не только живет, но и светится, причем даже без некоторого жеманства.
Давайте постучим в дверь и по темной лестнице поднимемся на пятый этаж, где у нас с вами есть дело. Еще выше, на мансарду, ведет приставленная к стене стремянка.
У двери висит молоток; плетеная циновка и деревянная вешалка составляют меблировку лестничной площадки.
Открыв первую дверь, мы попадаем в темную пустую комнату – именно ее окно и не было освещено. Эта комната служит прихожей и ведет во вторую, которая заслуживает нашего самого пристального внимания.
Плитки вместо паркета, грубо окрашенная дверь, три деревянных кресла, обтянутых желтым бархатом, убогий диван с продавленными от долгого употребления подушками.
Диван напоминает старца – дряблого и покрытого морщинами; в молодости он был упруг и ярок, в пору зрелости – принимал гостя, вместо того чтобы его отталкивать, а теперь, когда года его прошли и в него стали проваливаться, он лишь скрипит.
Но прежде всего взгляд привлекают два портрета, висящие на стене. Их с двух сторон освещают сальная свеча и лампа: одна стоит на трехногом столике, другая – на камине.
На первом портрете изображен мужчина в шапочке, с длинным и бледным лицом, тусклыми глазами, остроконечной бородкой, в воротнике с брыжами; лицо это очень знакомо и невероятно напоминает Генриха III, короля Франции и Польши.
Внизу, на раме с облупившейся позолотой, черными буквами написано:
Генрих де Валуа
Другой портрет, в отличие от первого с еще довольно свежими красками и в недавно золоченной раме, изображает молодую черноглазую женщину с прямым тонким носом, выдающимися скулами и линией рта, свидетельствующей об осторожности его обладательницы. Ее прическа, вернее, воздвигнутое у нее на голове сооружение из волос и шелковых лент таково, что шапочка Генриха III выглядит рядом с нею, словно кротовина рядом с египетской пирамидой.
Под этим портретом тоже есть надпись, сделанная черными буквами:
Жанна де Валуа
Если после осмотра угасшего очага и жалких сиамезовых занавесок у постели, прикрытой камчатым, когда-то желтым, а теперь позеленевшим покрывалом, вам захочется узнать, какое отношение эти портреты имеют к обитателям пятого этажа, нужно лишь повернуться к небольшому дубовому столу, за которым, облокотившись о него левой рукой, просто одетая женщина просматривает груду запечатанных писем, проверяя на них адреса.
Портрет писан именно с нее.
В трех шагах от молодой женщины, в позе, выражающей одновременно любопытство и почтение, сидит и наблюдает за хозяйкой старушка горничная лет шестидесяти, одетая, словно грёзовская дуэнья.
Читатель помнит, что надпись под портретом гласила: «Жанна де Валуа».
Но если эта дама принадлежит к роду Валуа, то как же Генрих III, этот король-сибарит, отъявленный сластолюбец, способен, пусть даже находясь на холсте, выносить зрелище подобной нищеты, когда речь идет об особе его рода и даже носящей его имя?
Впрочем, сама дама с пятого этажа вполне оправдывала свое происхождение. У нее были белые, нежные руки, которые время от времени она грела под мышками. У нее были миниатюрные, узкие, продолговатые ступни, обутые в кокетливые бархатные туфельки, которыми она – опять-таки чтобы согреться – постукивала по плиткам, холодным и блестящим, как лед, что сковал парижские улицы.
Когда очередной порыв ледяного ветра ворвался в комнату сквозь щели в дверях и окнах, горничная печально пожала плечами и с грустью посмотрела на очаг без огня.
Что же до хозяйки покоев, то она продолжала перебирать письма и проверять адреса.
Каждый раз, прочтя адрес, она делала небольшой подсчет.
– Госпожа де Мизери, – бормотала она, – первая камеристка ее величества. Тут можно рассчитывать лишь на шесть луидоров, поскольку она мне уже давала.
И она тяжело вздохнула.
– Госпожа Патрис, камеристка ее величества, два луидора. Господин д'Ормессон, аудиенция. Господин де Калонн, совет. Господин де Роган, визит. И постараемся, чтобы он нам его отдал, – заметила с улыбкой молодая женщина и так же монотонно подвела итог: – Итак, у нас есть верных восемь луидоров на неделю.
Она подняла голову.
– Госпожа Клотильда, снимите же со свечи нагар.
Старушка сделала, что ей было велено, и вернулась на место, серьезная и внимательная.
Наконец эта пытка, похоже, женщине надоела.
– Дорогая, – попросила она, – поищите, не осталось ли где хоть огарка восковой свечи, и дайте мне. Не выношу этих мерзких сальных свечей!
– Да больше нету, – ответила старушка.
– Все-таки посмотрите.
– Где бы это?
– В прихожей.
– Там очень холодно.
– Послушайте! Кто-то звонит, – вдруг встрепенулась молодая женщина.
– Вы ошиблись, сударыня, – возразила старая упрямица.
– А мне показалось, звонили, госпожа Клотильда.
Видя, что старуха продолжает упорствовать, она сдалась, как люди, которые почему-то позволяют помыкать собою тем, кто ниже их и не имеет на это никакого права.
Молодая женщина вернулась к своим расчетам.
– Восемь луидоров, из которых три я уже задолжала. – Она взяла перо и принялась писать: – Три луидора… Пять обещано господину де Ламотту на жизнь в Барсюр-Обе. Бедняга! Наш брак богатства ему не принес. Однако терпение.
Она снова улыбнулась, глядя в зеркало, висевшее между портретами.
– Теперь, – продолжала она, – дорога из Версаля в Париж и из Парижа в Версаль – один луидор.
И она вписала новую цифру в колонку расходов.
– Далее, на жизнь в течение недели – один луидор.
И она сделала еще одну запись.
– Туалеты, фиакры, чаевые швейцарам в домах, куда я хожу с просьбами, – еще четыре луидора. Вроде бы все? Теперь найдем сумму.
Однако, не закончив складывать, она снова подняла голову и сказала:
– Звонят, говорю вам.
– Нет, сударыня, – возразила старуха, словно приросшая к месту. – Это не здесь, а внизу, на четвертом.
– Четыре, шесть, одиннадцать, четырнадцать луидоров – шести не хватает. А еще нужно обновить гардероб да заплатить этой старой мерзавке, чтоб спровадить ее побыстрее. – Внезапно она гневно закричала: – Да говорю же вам, несчастная, звонят!
Следует признать, что на этот раз даже самое строптивое ухо не могло не услышать зов колокольчика, который дергали столь энергично, что он прозвенел раз двенадцать.
Услышав звонок, старушка наконец пробудилась и поспешила в прихожую, тогда как ее хозяйка, проворная, словно белка, смахнула разбросанные по столу письма и бумаги в ящик и, быстрым взглядом окинув комнату, чтобы убедиться, что все в порядке, уселась на диван в смиренной и печальной позе безропотно страдающего человека.
Однако, поспешим добавить, в неподвижности находилось лишь тело молодой женщины. Живые, беспокойные глаза вопросительно вперялись в зеркало, в котором отражалась дверь, уши насторожились, приготовившись уловить малейший звук.
Дуэнья отворила входную дверь, и из прихожей донесся шепот.
Затем чей-то ясный и учтивый, однако не лишенный твердости голос проговорил:
– Здесь живет госпожа графиня де Ламотт?
– Госпожа графиня де Ламотт-Валуа? – гнусаво переспросила Клотильда.
– Это одно и то же, милейшая. Так госпожа де Ламотт у себя?
– Да, сударыня, но она очень больна и не выходит.
Пока продолжался этот диалог, мнимая больная, которая не упустила из него ни звука, успела заметить, что Клотильду расспрашивает женщина, по виду своему принадлежащая к высшим слоям общества.
Она мигом вспорхнула с дивана и пересела в кресло, чтобы предоставить незнакомке почетное место.
Совершая это перемещение, женщина обратила внимание на то, что посетительница вернулась на площадку и сказала кому-то, оставшемуся в тени:
– Можете войти, сударыня, это здесь.
Дверь снова затворилась, и две дамы, которые чуть раньше расспрашивали, как пройти на улицу Сен-Клод, вошли к графине де Ламотт-Валуа.
– Как прикажете доложить госпоже графине? – осведомилась Клотильда; с любопытством, но в то же время почтительно поднося свечу к лицам женщин.
– Доложите: дама-благотворительница, – ответила старшая из женщин.
– Из Парижа?
– Нет, из Версаля.
Клотильда вошла к хозяйке, и незнакомки, последовав за нею, очутились в комнате, где увидели при свете свечи, как Жанна де Валуа с трудом встает с кресла, чтобы учтиво поздороваться с гостьями.
Клотильда пододвинула два других кресла на случай, если посетительницы предпочтут сесть в них, после чего смиренно и не спеша вернулась в прихожую; это позволяло сделать вывод, что она станет подслушивать под дверьми.
Когда правила приличия позволили Жанне де Ламотт поднять глаза, ее первой заботой было разглядеть как следует лица посетительниц.
Как мы уже говорили, старшей из женщин было немного за тридцать. Ее замечательную красоту в известной мере портило выражение высокомерия, сквозившее во всех чертах лица. Во всяком случае, так показалось Жанне, когда она бросила быстрый взгляд на посетительницу.
Та же, предпочтя диван креслам, села в углу комнаты, довольно далеко от лампы, и надвинула на лоб капюшон накидки из подбитой ватой тафты, который отбрасывал таким образом тень на лицо.
Однако посадка головы у нее была столь гордой, а глаза – столь живыми и ясными, что весь облик посетительницы говорил о ее принадлежности к благородному и высокому роду.
Ее спутница, с виду побойчее и помоложе на несколько лет, ничуть не скрывала своей красоты.
Чудесная кожа, гармоничные черты, прическа, оставляющая открытыми виски и оттенявшая безупречный овал лица, спокойные, можно сказать, безмятежные голубые глаза, ясные и глубокие, пленительный рот, свидетельствовавший о природной искренности, а также об умении молчать, признаке хорошего воспитания, нос, который своею формой мог бы поспорить с носом Венеры Медицейской, – вот что успел запечатлеть быстрый взгляд, брошенный Жанной. Посмотрев внимательнее, она убедилась, что у более молоденькой из дам талия стройнее и гибче, нежели у ее спутницы, грудь – выше и более совершенной формы, а руки хотя и не менее округлые, но вместе с тем изящнее и тоньше.
Жанна де Валуа разглядела все это в несколько секунд – гораздо быстрее, чем нам удалось описать ее наблюдения.
Удовлетворенная осмотром, она спросила, какому счастливому случаю обязана посещением.
Дамы обменялись взглядами, и, повинуясь знаку, данному спутницей, более молодая поинтересовалась:
– Сударыня, насколько мне известно, вы замужем?
– Я имею честь быть женою господина графа де Ламотта, дворянина и человека безупречной репутации.
– А мы, госпожа графиня, возглавляем благотворительное учреждение. Мы узнали о вас вещи, которые нас заинтересовали, и поэтому мы пришли сюда, чтобы выяснить кое-какие касающиеся вас подробности.
Жанна несколько секунд помедлила, после чего, отметив про себя сдержанность второй посетительницы, сказала:
– Сударыня, вы видите здесь портрет Генриха Третьего, брата моего деда, поскольку, как вам, наверное, известно, я принадлежу к роду Валуа.
Она замолчала в ожидании нового вопроса, глядя на незнакомок смиренно, но и не без гордости.
– Сударыня, – низким мягким голосом проговорила вторая дама, – говорят, что госпожа ваша матушка была привратницей в доме семейства Фонтет, расположенном неподалеку от Бар-сюр-Сен? Это верно?
При напоминании об этом Жанна зарделась, но без тени смущения ответила:
– Это правда, сударыня, моя матушка была привратницей в доме семейства Фонтет.
– Вот как, – уронила старшая из дам.
– Но поскольку Мари Жоссель, моя матушка, отличалась редкой красотой, – продолжала Жанна, – мой отец полюбил ее и взял себе в жены. Я принадлежу к благородному роду по линии отца. Моим отцом, сударыня, был Сен-Реми де Валуа, прямой потомок королей.
– Но как вы дошли до такой нищеты, сударыня? – снова спросила та же дама.
– Увы, ничего необычного в этом нет.
– Слушаю вас.
– Вам, разумеется, известно, что после восшествия на престол Генриха Четвертого и перехода короны из дома Валуа в дом Бурбонов у павшей династии осталось несколько отпрысков, никому не известных, но, вне всякого сомнения, являвшихся потомками четырех братьев[23], которые все кончили трагически.
Обе дамы молча кивнули в знак согласия.
– И вот, – продолжала Жанна, – отпрыски рода Валуа, опасаясь, несмотря на свою безвестность, вызвать подозрения у новой королевской фамилии, взяли вымышленное имя де Реми и со времен Людовика Тринадцатого пользовались только им, исключая предпоследнего Валуа, моего деда, который, видя, что новая монархия упрочилась, а старая ветвь королевского рода забыта, счел своим долгом не отказываться от прославленного имени, единственного оставшегося у него достояния. Поэтому он снова взял имя Валуа и жил с ним в нищете и забвении, в далекой провинции, и при французском дворе никто не мог даже помыслить, что вдали от сияния трона влачит жалкое существование потомок древних французских королей, если и не самых славных, то, во всяком случае, самых обездоленных.
Жанна умолкла.
Рассказ ее прозвучал просто и сдержанно, что не осталось незамеченным.
– Все доказательства, сударыня, у вас, конечно, в полном порядке? – мягко поинтересовалась старшая из дам, пристально глядя на женщину, заявляющую о своей принадлежности к роду Валуа.
– О, сударыня, – отвечала та с горькой улыбкой, – в доказательствах недостатка нет. Мой отец собрал их и, умирая, передал мне за неимением иного наследства. Но что толку в доказательствах правды, которая никому не нужна и которую никто не желает признавать?
– Ваш отец скончался? – спросила младшая из дам.
– Увы, да.
– В провинции?
– Нет, сударыня.
– Значит, в Париже?
– В Париже.
– В этих покоях?
– Нет, сударыня, мой отец, барон де Валуа, правнучатый племянник короля Генриха Третьего, скончался от голода и нищеты.
– Невероятно! – воскликнули обе дамы.
– Это случилось не здесь, – продолжала Жанна, – не в этом бедном пристанище, он скончался не на своей постели, а на убогом одре скорби. Нет, мой отец умер среди самых обездоленных и страждущих – в Отель-Дьё[24].
Женщины издали изумленный возглас, в котором явно звучал испуг.
Жанна, довольная эффектом, произведенным ее искусным завершением периода и развязкой, сидела неподвижно, с опущенным взглядом и безвольно сложенными руками.
Старшая из дам со вниманием и проницательно взглянула на нее и, не найдя в простом и естественном горе женщины ничего, что свидетельствовало бы об обмане и низости, заговорила снова:
– Судя по вашим словам, сударыня, вы испытали много горя, и в особенности смерть вашего отца…
– О, если бы я поведала вам свою жизнь, сударыня, вы бы поняли, что смерть отца – еще не самое страшное.
– Как, сударыня, вы даже смерть отца не считаете страшным горем? – строго нахмурившись, удивилась дама.
– Да, сударыня, я это говорю как почтительная дочь, потому что, скончавшись, мой отец избавился от всех бед, осаждавших его в этом мире и продолжающих осаждать его несчастную семью. Потому-то, сударыня, наряду с горем от его утраты я испытываю известное облегчение, когда подумаю о том, что мой отец, потомок королей, уже мертв и ему не надобно больше просить Христа ради!
– Просить Христа ради?
– Да, я говорю это без стыда, потому что в наших бедах нет ни вины отца, ни моей.
– Но ваша матушка?
– Что ж, признаюсь откровенно: я благодарю Господа за то, что он прибрал моего отца, но очень сожалею, что он не сделал того же с моей матушкой.
При этих странных словах обе дамы вздрогнули и переглянулись.
– Не сочтете ли вы, сударыня, за нескромность, если мы попросим вас рассказать о ваших бедах подробнее? – спросила старшая.
– Что вы, с моей стороны было бы нескромно утомлять ваш слух рассказом о несчастьях, которые вам по меньшей мере безразличны.
– Я слушаю вас, сударыня, – промолвила старшая из дам столь величественно, что ее спутница бросила на нее предостерегающий взгляд.
И верно: г-жу де Ламотт явно удивил ее повелительный тон и она с изумлением посмотрела на собеседницу.
– Я слушаю вас, – повторила та уже проще, – сделайте милость, расскажите мне все.
Подавив дрожь, вызванную стоящим в комнате холодом, Жанна лишь передернула плечами и переступила ногами по ледяным плиткам пола.
Заметив это движение, младшая из дам пододвинула ей коврик, лежавший у нее под креслом, чем в свою очередь вызвала недовольный взгляд своей спутницы.
– Возьмите этот коврик себе, сестра моя, вы мерзнете сильнее меня.
– Простите, сударыня, – сказала графиня де Ламотт, – мне весьма жаль, что я заставляю вас мерзнуть, но дрова подорожали еще на шесть ливров и стоят теперь семьдесят ливров за воз, а запас у меня кончился еще на прошлой неделе.
– Вы сожалели, сударыня, – вмешалась старшая из дам, – что ваша мать еще жива.
– Да, сударыня, я понимаю, что подобное святотатство требует объяснений, не так ли? – отозвалась Жанна. – Вот вам и объяснение, если угодно.
Собеседница графини утвердительно кивнула.
– Я уже имела честь сообщить вам, сударыня, что мой отец совершил мезальянс.
– Да, женившись на привратнице.
– Ну так вот. Мари Жоссель, моя мать, вместо того чтобы гордиться оказанной ей честью и испытывать признательность, начала с того, что разорила отца своими непомерными запросами, что, впрочем, было нетрудно, если учесть скудость его состояния. Затем, вынудив его продать последний клочок земли, она убедила мужа в том, что он должен отправиться в Париж и отстаивать там права, даваемые ему его именем. Уговорить отца оказалось делом нетрудным: возможно, он рассчитывал на справедливость короля. Поэтому он отправился, обратив предварительно в деньги ту малость, что у него еще сохранилась.
Кроме меня, у отца есть еще сын и дочь. Сын, такой же несчастный, как я, прозябает где-то в армии, мою бедную сестру отец накануне отъезда в Париж отдал в дом одного фермера, ее крестного.
Путешествие истощило наш и без того не толстый кошелек. Отец мой принялся бегать повсюду с просьбами, но все впустую. Еще и еще раз он появлялся дома с рассказами об очередной неудаче и находил там все ту же нищету. В его отсутствие моя мать, которой обязательно необходима была жертва, донимала меня. Она принялась попрекать меня куском хлеба. Мало-помалу я стала есть лишь его, а то и вовсе ничего не есть, а просто сидеть за нашим скудным столом, однако мать всегда отыскивала предлог наказать меня: за малейшую оплошность, которая заставила бы другую мать лишь улыбнуться, моя меня била. Соседи, думая, что оказывают мне услугу, доносили отцу о ее скверном со мной обращении. Отец пробовал вступиться, но не замечал, что, делая это, он превращал минутного врага в вечно злобную мачеху. Увы, я не могла ему ничего посоветовать, так как сама была еще совсем ребенком. Я не умела объяснить себе, что происходит, и терпела последствия, не пытаясь доискаться до их причин. Я просто испытывала горе.
Между тем отец мой захворал и был вынужден сначала не покидать комнаты, а потом и постели. Меня не пускали к нему под тем предлогом, что мое присутствие его утомляет, поскольку я не могу сдержать своей резвости, столь свойственной юному возрасту. Выйдя из его комнаты, я, как и прежде, оказывалась во власти матери. Она принялась вдалбливать в меня некую фразу, перемежая уроки подзатыльниками и колотушками, а когда я выучила наизусть эти унизительные слова, которые инстинктивно не хотела запоминать, когда мои глаза сделались красны от слез, она заставила меня спускаться к двери на улицу и там, при появлении какого-нибудь доброго на вид прохожего, обращаться к нему с этою фразой, если я не желаю быть избитой до полусмерти.
– Какой ужас! – прошептала младшая из дам.
– Что же это была за фраза? – осведомилась старшая.
– Вот она, – ответила Жанна: – «Сударь, сжальтесь над бедной сироткой, прямой наследницей рода Генриха Валуа».
– Однако же! – с гримасой отвращения вскричала старшая из посетительниц.
– И какое же действие производила эта фраза, когда вы с нею к кому-нибудь обращались? – осведомилась младшая.
– Некоторые выслушивали меня с жалостью, – отозвалась Жанна. – Другие раздражались и начинали мне грозить. А третьи, которые были милосерднее остальных, предупреждали меня, что я подвергаю себя большой опасности, произнося такие слова: их могут услышать люди недоброжелательные. Но мне была ведома лишь одна опасность – не подчиниться моей матери. Я боялась одного – побоев.
– И что же случалось потом?
– Господи, сударыня, случалось именно то, на что надеялась моя мать: я приносила в дом немного денег и страшная перспектива оказаться в больнице отдалялась от отца еще на несколько дней.
Лицо старшей из дам исказилось, на глаза младшей навернулись слезы.
– Хотя я и несколько облегчала участь отца, это гнусное ремесло в конце концов меня возмутило. Однажды, вместо того чтобы приставать к прохожим со ставшей уже для меня привычной фразой, я просидела весь день у каменной тумбы, подавленная горем. Вечером мне пришлось вернуться домой с пустыми руками. Мать избила меня так, что назавтра я заболела. Вот тогда мой отец, лишенный всякой помощи, был вынужден отправиться в Отель-Дьё, где и умер.
– Какая ужасная история! – прошептали дамы.
– И что же вы стали делать, когда умер отец? – спросила более юная посетительница.
– Господь сжалился надо мною. Через месяц после смерти моего бедного отца мать сбежала с солдатом, своим любовником, оставив нас с братом одних.
– Так вы стали сиротами!
– Ах, сударыня, как раз наоборот: мы чувствовали себя сиротами, когда у нас была мать. В нас приняло участие благотворительное общество. Но поскольку просить милостыню нам претило, мы делали это не иначе как по крайней нужде. Господь ведь повелевал своим созданиям искать средства к пропитанию.
– Увы!
– Что вам еще сказать, сударыня? Однажды мне посчастливилось повстречать карету, которая медленно двигалась со стороны предместья Сен-Марсель: на запятках стояли четверо лакеев, а внутри сидела дама, красивая и молодая. Я протянула к ней руку, она принялась меня расспрашивать; мои ответы и, главное, мое имя вызвали в ней изумление и даже недоверие. Я сказала ей свой адрес и объяснила, как туда добраться. На следующий день она убедилась, что я не солгала, взяла нас с братом к себе, а потом определила его в полк, а меня в швеи. Таким образом мы оба были спасены от голодной смерти.
– Эту даму звали не госпожа де Буленвилье?
– Именно так.
– Кажется, она уже умерла?
– Да, сударыня, и смерть ее ввергла меня в пропасть.
– Но ведь ее муж жив, он богат.
– Ее мужу, сударыня, я обязана всеми бедами, которые перенесла, будучи девушкой, точно так же, как всеми моими детскими бедами я обязана матери. Я к тому времени уже подросла, возможно, похорошела, а он, заметив это, захотел, чтобы я вознаградила его за оказанные мне благодеяния. Я отказалась. Тем временем госпожа де Буленвилье скончалась, я вышла замуж за доброго и честного офицера господина де Ламотта и, будучи разлучена с ним, оказалась в еще большем одиночестве, нежели после смерти моего отца.
Такова моя история, сударыня. Я ее сократила: описания страданий всегда столь длинны, что от них следует избавлять людей счастливых и даже милосердных, какими, по-моему, являетесь вы, сударыни.
Г-жа де Ламотт закончила свою историю, и воцарилось долгое молчание.
Первой его нарушила старшая из дам.
– А чем занимается ваш муж? – поинтересовалась она.
– Служит в гарнизоне Бар-сюр-Оба, сударыня. Он служит в тяжелой кавалерии и не перестает надеяться, что придут лучшие времена.
– Но вы ходатайствовали за себя при дворе, сударыня?
– Разумеется!
– Должно быть, имя Валуа, подтвержденное документами, вызвало к вам симпатию?
– Мне не известно, сударыня, какие чувства вызвало мое имя, так как ни на одно из прошений я ответа не получила.
– Но вы ведь были на приемах у министров, у короля или королевы?
– Ни разу. Все мои попытки оказались тщетными, – ответила г-жа де Ламотт.
– Но не могли же вы просить милостыню?
– Нет, от этого я уже отвыкла. Но…
– Что – «но»?
– Но я могу умереть с голоду, как мой отец.
– Детей у вас нет?
– Нет, сударыня. А мой муж, позволив себя убить во славу короля, сможет достойным образом положить конец нашим несчастьям.
– Простите мою настойчивость, сударыня, но не могли бы вы представить документы, подтверждающие вашу родословную?
Жанна встала, порылась в ящиках и протянула даме несколько бумаг.
Желая воспользоваться моментом, когда дама подойдет поближе к свету, чтобы получше рассмотреть документы, и ее черты станут более отчетливы, Жанна с такою тщательностью и поспешностью принялась поправлять фитиль лампы, что выдала свои намерения.
Поэтому дама-благотворительница, сделав вид, что свет режет ей глаза, отвернулась от лампы и, следовательно, от г-жи де Ламотт тоже.
В этом положении она внимательно прочитала все бумаги, тщательно сверяя их одну с другою.
– Но ведь это – копии документов, ни одного подлинника я здесь не вижу, – заметила она наконец.
– Подлинники, сударыня, – ответила Жанна, – хранятся в надежном месте, и я готова их предъявить…
– Если к тому представится серьезная необходимость? – с улыбкой закончила за нее дама.
– Разумеется, сударыня, серьезная необходимость представилась и сейчас, когда вы удостоили меня своим посещением, но бумаги, о которых вы говорите, имеют для меня такую ценность, что…
– Понимаю. Вы не можете показывать их первому встречному.
– О, сударыня! – воскликнула графиня, которой удалось наконец рассмотреть полное достоинства лицо покровительницы. – Мне кажется, что вы – не первая встречная.
С этими словами она бросилась к другому ящику и, нажав секретную пружину, извлекла оригиналы столь ценных для нее документов, заботливо уложенные в старинный портфель с гербом рода Валуа.
Дама взяла их и после внимательного осмотра проговорила:
– Вы правы, все эти документы в полном порядке. Советую вам немедленно представить их кому следует.
– И что же, по вашему мнению, я получу, сударыня?
– Вне всякого сомнения, пенсию для себя и продвижение по службе для господина де Ламотта, как бы мало сей дворянин ни зарекомендовал себя сам.
– Мой муж – образец чести, сударыня, и никогда не пренебрегал своей службой.
– Этого достаточно, сударыня, – ответила дама-благотворительница, надвигая капюшон на лицо.
Г-жа де Ламотт жадно следила за каждым ее движением.
Та сперва извлекла из кармана вышитый платочек, которым прикрывала лицо, когда ехала в санях по бульварам.
За платочком последовал завернутый в бумагу столбик монет диаметром в дюйм и дюйма три-четыре высотой.
Дама поставила монеты на шкафчик и сказала:
– Благотворительное учреждение уполномочило меня, сударыня, в ожидании лучших времен предложить вам это скромное вспомоществование.
Г-жа де Ламотт бросила быстрый взгляд на столбик.
«Трехливровые экю, – подумала она. – Их здесь с полсотни, а может, и целая сотня. Стало быть, мне упали с неба сто пятьдесят, а то и все триста ливров. Впрочем, для сотни столбик слишком низок, но для ста пятидесяти – слишком высок».
Пока она производила в уме эти расчеты, обе дамы прошли в первую комнату, где г-жа Клотильда дремала на стуле подле свечи, фитиль которой чадил в лужице растопленного сала.
От едкого, тошнотворного запаха у дамы, оставившей деньги на шкафчике, перехватило горло. Она поспешно сунула руку в карман и выхватила флакон.
Однако, повинуясь зову Жанны, г-жа Клотильда пробудилась и взяла в свои прелестные ручки огарок свечи, после чего подняла его вверх, словно факел под мрачными сводами, несмотря на протесты дам, задыхавшихся от паров сего светоча.
– До свидания, до свидания, госпожа графиня! – прокричали они и поспешили вниз по лестнице.
– Где я смогу иметь честь поблагодарить вас, сударыни? – спросила вдогонку Жанна де Валуа.
– Мы дадим вам знать, – ответила старшая из дам, спускаясь со всей доступной ей скоростью.
Наконец стук их шагов затих в глубинах нижних этажей. Г-жа де Валуа, которой не терпелось проверить справедливость своих догадок относительно столбика монет, бросилась к себе. Однако, проходя через прихожую, она задела ногой за какой-то предмет, лежавший на циновке, которая прикрывала щель под входной дверью.
Недолго думая, графиня де Ламотт нагнулась, подняла предмет и подбежала к лампе.
Это оказалась плоская золотая коробочка с незамысловатым узором на крышке.
В коробке лежало несколько ароматических шоколадных конфет, однако, несмотря на ее небольшую толщину, с первого взгляда можно было предположить, что коробочка эта – с двойным дном.
Повозившись несколько минут, графиня отыскала секретную пружину и нажала.
Перед нею был портрет женщины сурового вида, поражавшей своею несколько мужской красотой и королевской величественностью.
Прическа на немецкий манер и цепь с каким-то орденом придавали женщине на портрете вид иностранки.
На дне коробочки помещался вензель из букв «М» и «Т» в лавровом венке.
Из-за сходства портрета с лицом дамы-благотворительницы г-жа де Ламотт предположила, что на нем изображена мать или бабка, и нужно сказать, первым движением графини было выбежать на лестницу и окликнуть посетительниц.
Но дверь на улицу уже затворилась.
Затем она решила окликнуть их из окна, потому что догонять посетительниц было уже поздно.
Но она лишь увидела в конце улицы Сен-Клод резвую одноколку, заворачивающую на улицу Людовика Святого.
Отчаявшись вернуть своих покровительниц, графиня некоторое время глядела на коробочку, обещая себе возвратить ее в Версаль, потом, взяв со шкафчика деньги, проговорила:
– По-моему, я не ошиблась, здесь ровно пятьдесят экю.
И бумажка, в которую были завернуты монеты, полетела на пол.
– Луидоры! Двойные луидоры! – вскричала графиня. – Пятьдесят двойных луидоров! Две тысячи четыреста ливров!
В глазах у нее вспыхнула алчная радость. Г-жа Клотильда, зачарованная лицезрением такого количества золота, какого она в жизни не видела, так и застыла с открытым ртом и стиснутыми руками.
– Сто луидоров, – повторила г-жа де Ламотт. – Стало быть, дамы богаты? Ну, так я их разыщу!
4. Бел[25]
Г-жа де Ламотт не ошиблась, предположив, что одноколка увозила дам-благотворительниц.
Спустившись вниз, они нашли у дома ожидавшую их одноколку – такую, какие делали в те времена: с большими колесами, легким кузовом, длинным кожаным фартуком и удобным сиденьем для слуги, помещавшимся сзади.
Эту одноколку, запряженную великолепным ирландским гнедым жеребцом с коротким хвостом и мясистым крупом, пригнал на улицу Сен-Клод кучер, которого дама-благотворительница звала Вебером и с которым мы уже знакомы.
Когда дамы вышли из дома, Вебер держал лошадь под уздцы, успокаивая горячее животное, которое било копытом по твердеющему с приближением ночи снегу.
Завидя дам, Вебер сказал:
– Сутарыня, я хотел сапрячь Сципиона – он сильный и им легко упрафлять, но Сципион фчера фыфихнул ногу, и остался только Пел, но с ним трутно.
– Ах, да вы же знаете, Вебер, – отозвалась старшая из дам, – что для меня это неважно: рука у меня сильная и управлять лошадьми я умею.
– Я снаю, что фы упрафляете хорошо, но тороки очень плохие. Фы куга етете, сутарыня?
В Версаль.
– Сначит, по пульфарам?
– Да нет, Вебер. Сейчас подмораживает, и на бульварах гололедица. Улицами проехать легче благодаря прохожим, которые утаптывают снег. Скорее, Вебер, скорее!
Пока дамы проворно садились в одноколку, Вебер придерживал жеребца, потом бросился назад и крикнул, что он готов.
Старшая из дам обратилась к спутнице:
– Ну и какого вы мнения о графине, Андреа?
С этими словами она опустила поводья, и лошадь, стрелой промчав по улице, завернула за угол.
Именно в этот миг г-жа де Ламотт и открывала окно, чтобы окликнуть дам-благотворительниц.
– Мне кажется, сударыня, – ответила та, которую звали Андреа, – что госпожа де Ламотт бедна и очень несчастна.
– Но она хорошо воспитана, не так ли?
– Ода.
– Что-то ты холодна к ней, Андреа.
– Если уж начистоту, то, по-моему, у нее в лице есть какое-то коварство; мне это не нравится.
– О, я знаю, Андреа, вы очень недоверчивы и, чтобы вам понравиться, нужно обладать сразу всеми добродетелями. А я нахожу, что эта маленькая графиня интересна и проста – как в гордыне, как и в смирении.
– Для нее большая удача, сударыня, что она имела счастье понравиться вашему…
– Берегись! – вскричала дама, бросив коня в сторону и чуть не опрокинув носильщика у угла улицы Сент-Антуан.
– Перегись! – громовым голосом повторил Вебер. И одноколка полетела дальше.
Ее седоки слышали проклятия мужчины, едва выскочившего из-под колес, да несколько сочувственных ему голосов, которые на секунду слились в единый враждебный крик.
Однако благодаря Белу через несколько секунд его хозяйка отдалилась от богохульников на расстояние, отделяющее улицу Святой Екатерины от площади Бодуайе.
Там, как известно, дорога раздваивается, однако ловкая возница решительно свернула в улицу Тиссерандри, многолюдную, узкую и весьма мало аристократичную.
Здесь, несмотря на многочисленные «берегись!» дамы и рев Вебера, постоянно слышались яростные восклицания прохожих:
– А, одноколка? Долой одноколки!
Бел продолжал бежать, а его возница, несмотря на изнеженность детской с виду руки, не снижала скорости и уверенно управляла экипажем среди луж талого снега и еще более опасных участков дороги, где по разбитой мостовой бежали целые реки воды.
Однако против всякого ожидания все шло благополучно: яркий фонарь освещал дорогу, в те времена полиция еще не обязала всех владельцев одноколок обзавестись подобной мерой предосторожности.
Покамест, повторяем, все шло благополучно: ни одного задетого экипажа или придорожной тумбы, ни одного опрокинутого прохожего. Это было подлинным чудом, и тем не менее возгласы и угрозы постоянно сопровождали одноколку.
Экипаж столь же быстро и удачно пересек улицу Сен-Медерик, за нею – улицы Сен-Мартен и Обри-ле-Буше.
Читатель может подумать, что по мере приближения к более цивилизованным кварталам ненависть к аристократическому экипажу станет менее яростной.
Ничуть не бывало: едва Бел въехал в улицу Ферронри, как Вебер, преследуемый бранью прохожих, заметил на пути одноколки несколько кучек людей. Некоторые из них, казалось, вот-вот бросятся вслед за одноколкой и остановят ее.
Но Вебер не хотел беспокоить свою хозяйку. Он видел, сколько она выказывает хладнокровия и сноровки, как ловко минует все препятствия, неподвижные и движущиеся, источник отчаяния и гордости парижских кучеров.
Что же до Бела, то он продолжал мерить дорогу своими стальными ногами и даже ни разу не поскользнулся – настолько умело рука, державшая поводья, помогала ему избегать уклонов и прочих неровностей.
Народ вокруг одноколки уже бранился что есть мочи. Державшая вожжи дама, заметив это, приписала подобную враждебность какой-то избитой причине, вроде скверной погоды или плохого умонастроения. И решила ускорить ход событий. Она прищелкнула языком, Бел вздрогнул и перешел с короткой рыси на длинную.
Лавки полетели мимо стрелой, прохожие шарахались в стороны.
Только и слышно было: «Берегись! Берегись!»
Одноколка неслась почти вплотную к Пале-Роялю мимо улицы Кок-Сент-Оноре, в начале которой все еще гордо возвышался один из самых красивых снежных обелисков, хотя его верхушка из-за оттепелей уже несколько уменьшилась в размерах, словно леденец, обсосанный ребенком.
Обелиск этот был увенчан роскошным плюмажем из лент, правда, уже несколько выцветших, и надписью в стихах, которую народный поэт этого квартала подвесил между фонарями:
Стой подле благодетеля страны,
Владычица, чей лик – сама краса и нега,
Пусть хрупкий монумент сей изо льда и снега —
Сердца у нас к тебе не холодны.
Именно здесь Белу встретилась первая серьезная трудность. Монумент как раз собирались иллюминировать, поэтому он привлек множество зевак, собравшихся плотной толпой, которую на рыси было не миновать.
Бел вынужден был перейти на шаг.
Однако люди только что видели Бела, летящего как молния, слышали сопровождавшие его крики, и, хотя перед толпой он почти остановился, вид одноколки произвел на нее самое неблагоприятное действие.
Тем не менее толпа расступилась.
Вскоре однако, показалось новое сборище.
Ворота Пале-Рояля были открыты, во дворе пылали громадные костры, согревая целую армию нищих, которым лакей его высочества герцога Орлеанского раздавал глиняные миски с супом.
Но тех, кто ел и грелся, при всей их многочисленности, было гораздо меньше, чем тех, кто за этим наблюдал. В Париже это обычное дело: актер, что бы он ни вытворял, всегда найдет себе зрителей.
Экипаж, преодолев первое препятствие, у второго был вынужден остановиться, словно судно среди рифов.
В тот же миг крики, до этого доносившиеся до двух женщин как неясный шум, стали раздаваться весьма отчетливо, невзирая на сутолоку.
– Долой одноколки! Долой давителей!
– Это нам? – осведомилась у спутницы дама, державшая вожжи.
– Боюсь, что да, сударыня, – отвечала та.
– Разве мы кого-нибудь раздавили?
– Нет, никого.
– Долой одноколки! Долой давителей! – гневно вопила толпа.
Назревала буря, жеребца уже схватили под уздцы, и Бел, непривычный к грубому обращению, неистово бил копытом землю; с морды у него во все стороны слетали клочья пены.
– В полицию их! В полицию! – выкрикнул кто-то.
Вне себя от изумления, две женщины переглянулись. Толпа тут же подхватила:
– В полицию их! В полицию!
Тем временем самые любопытные уже заглядывали в кузов одноколки.
По толпе побежали пересуды.
– Гляди-ка! Женщины!
– Ага! Куколки Субиза! Полюбовницы Эннена!
– Девочки из Оперы! Они думают, что имеют право давить бедных людей, раз могут платить за больницу десять тысяч ливров в месяц.
Последнее замечание вызвало яростный рев.
Сидевшие в одноколке женщины переживали происходящее по-разному. Одна, бледная и дрожащая, старалась втиснуться поглубже в сиденье. Другая решительно подняла голову, брови ее были насуплены, губы плотно сжаты.
– О, сударыня, что вы делаете! – воскликнула ее спутница, пытаясь увлечь решительную даму назад.
– В полицию! В полицию! – продолжались злобные выкрики. – Пусть-ка они побывают в полиции!
– Ах, сударыня, мы пропали, – шепнула на ухо спутнице младшая из женщин.
– Ничего, Андреа, смелее, – ответила та.
– Но ведь вас увидят! Вас могут узнать!
– Посмотрите в заднее окошко: Вебер еще на месте?
– Он пытается спуститься, но ему не дают, он отбивается. А вот, сейчас подойдет.
– Вебер, – приказала дама по-немецки, – помогите нам выйти.
Растолкав плечами нападавших, слуга отстегнул фартук одноколки. Женщины легко спрыгнули на землю.
Тем временем толпа полностью завладела лошадью и одноколкой, кузов которой уже затрещал.
– Силы небесные! Да в чем же дело? – продолжала по-немецки старшая из женщин. – Понимаете ли вы что-нибудь, Вебер?
– Ничего не понимаю, сударыня, – ответил слуга, которому изъясняться по-немецки было гораздо проще, чем по-французски, одновременно мощными пинками освобождая своей хозяйке проход.
– Но это же не люди, а звери какие-то! – продолжала дама на том же языке. – Интересно, в чем это они меня упрекают?
В этот миг чей-то учтивый голос, выгодно отличавшийся от тех, что выкрикивали оскорбления и угрозы в адрес дам, ответил на чистом саксонском[26]:
– Они упрекают вас, сударыня, в том, что вы нарушили распоряжение полиции, появившееся в Париже этим утром и запрещающее до весны ездить в одноколках, которые опасны даже тогда, когда дороги в порядке, а в гололедицу просто убийственны для пешеходов, не имеющих возможности избегнуть их колес.
Дама обернулась, чтобы посмотреть, откуда доносится этот вежливый голос среди моря угроз.
Она увидела молодого офицера, пробивавшегося к ней с доблестью не меньшей, чем та, которую проявлял Вебер, отражавший атаки со всех сторон.
Тонкие и благородные черты лица, высокий рост и бравый вид молодого человека понравились даме, и она поспешно ответила ему по-немецки:
– Боже, сударь, но я же ровным счетом ничего не знала об этом распоряжении.
– Вы иностранка, сударыня? – осведомился молодой офицер.
– Да, сударь. Но скажите, что же мне делать, они ломают мою одноколку.
– Позвольте им ее доломать, а сами тем временем поспешите исчезнуть. Народ в Париже зол на богачей, которые щеголяют перед нищими своей роскошью. Согласно сегодняшнему распоряжению, вас обязательно препроводят в полицию.
– О, только не это! – воскликнула младшая из дам.
– В таком случае, – улыбнулся офицер, – воспользуйтесь проходом, который я освобожу для вас в толпе, и бегите.
Слова эти были сказаны столь непринужденным тоном, что женщинам стало ясно: офицер слышал, как в толпе прошлись насчет содержанок гг. Субиза и д'Эннена.
Однако препираться по пустякам было не время.
– Проводите нас до наемного экипажа, сударь, – повелительно проговорила старшая из дам.
– Я подниму вашу лошадь на дыбы, и в суматохе вы сможете скрыться. К тому же, – добавил молодой человек, которому очень хотелось поскорее завершить свою рискованную миссию, – людям может надоесть слушать разговоры на языке, которого они не понимают.
– Вебер! – громко крикнула дама. – Заставьте Бела встать на дыбы, чтобы толпа испугалась и расступилась.
– А потом, сударыня?
– Подождите, пока мы не уйдем.
– А если они сломают одноколку?
– Да пусть ломают, какое тебе до этого дело! Спаси, если сможешь, Бела, а главное, спасись сам. Это единственное, что я могу тебе посоветовать.
– Слушаюсь, сударыня, – ответил Вебер.
Не теряя попусту времени, он пощекотал норовистого жеребца, который, подпрыгнув, сбросил наиболее настойчиво пристававших к нему людей, вцепившихся в поводья и оглобли.
Во дворе воцарились испуг и неразбериха.
– Вашу руку, сударь, – обратилась дама к офицеру. – Пойдемте, милая, – добавила она, повернувшись к Андреа.
– Идемте, идемте, отчаянная женщина, – пробормотал себе под нос офицер и, не скрывая своего восхищения, подал руку.
Через несколько минут они были уже на соседней площади, где стояли наемные экипажи. Извозчики подремывали на козлах, а лошади с полуприкрытыми глазами и опущенными головами терпеливо дожидались вечера, когда они получат свой скудный рацион.
Оказавшись вне пределов досягаемости толпы, две дамы тем не менее продолжали опасаться, чтобы какой-нибудь любопытный, последовав за ними, вновь не устроил сцену, подобную той, в которой они только что участвовали, тем более что во второй раз дело могло обернуться хуже.
Молодой офицер понял их опасения; это было заметно по тому усердию, с каким он принялся будить извозчика, скорее окоченевшего, чем просто спавшего на козлах.
Стояла такая стужа, что вопреки обыкновению извозчики не стали наперебой предлагать свои услуги, напротив, ни один из сих автомедонов[27] (по двадцать четыре су за час) не пошевелился, даже тот, к которому обращались.
Офицер схватил его за ворот ветхого балахона и тряхнул так, что тот наконец вышел из оцепенения.
– Эй! Эй! – заорал ему в ухо молодой человек, видя, что тот начал подавать признаки жизни.
– Да, да, хозяин, – пробормотал извозчик, еще находившийся в полусне и раскачивающийся на козлах, словно пьяный.
– Куда вам нужно, сударыня, – по-немецки спросил офицер.
– В Версаль, – на том же языке ответила старшая из дам.
– В Версаль? – воскликнул извозчик. – Вы сказали, в Версаль?
– Нуда.
– Ничего себе! В Версаль! Четыре с половиной лье по такой гололедице? Ну уж нет!
– Я хорошо заплачу, – пообещала по-немецки старшая из дам.
– Тебе заплатят, – перевел извозчику офицер.
– А сколько? – недоверчиво поинтересовался тот с высоты своих козел. – Понимаете, господин офицер, доехать до Версаля – это еще полдела, придется и возвращаться.
– Луидора будет довольно? – спросила у офицера младшая из дам все на том же языке.
– Тебе предлагают луидор, – перевел молодой человек.
– Луидор, ничего себе! – проворчал извозчик. – Да тут лошадь все ноги переломает.
– Вот плут! Отсюда до замка Мюэтт всего три ливра, а это уже полпути. Следовательно, за дорогу туда и обратно тебе следует двенадцать ливров, а ты получишь двадцать четыре.
– Да не торгуйтесь вы, ради Бога, – перебила старшая из дам. – Два луидора, три, да хоть двадцать – только бы он сразу поехал и не останавливался в пути.
– Луидора вполне довольно, сударыня, – возразил офицер.
Затем, повернувшись к извозчику, добавил:
– Давай-ка, мошенник, слезай вниз да открой дверцу.
– Я хочу, чтобы заплатили вперед, – заявил извозчик.
– Мало ли чего ты хочешь!
– Это мое право.
Офицер сделал движение в его сторону.
– Мы заплатим вперед, – остановила его старшая из дам.
С этими словами она сунула руку в карман.
– О Боже! – воскликнула она, обращаясь к спутнице. – У меня нет кошелька.
– В самом деле?
– Но ваш-то, Андреа, на месте?
Молодая женщина принялась в свою очередь судорожно рыться в кармане.
– Мой… мой тоже куда-то делся.
– Посмотрите во всех карманах.
– Пусто! – воскликнула молодая женщина с досадой, поскольку заметила, что офицер внимательно за нею наблюдает, а извозчик уже растянул свой огромный рот в насмешливой улыбке, поздравляя себя втихомолку с такой мудрой предусмотрительностью.
Тщетно дамы шарили по всем карманам; ни одна, ни другая не смогли отыскать ни единого су.
Офицер увидел, что они, теряя терпение, то краснеют, то бледнеют. Положение осложнилось.
Дамы уже собрались было дать извозчику цепочку или какую-нибудь другую драгоценность в качестве залога, когда офицер, щадя их чувства, достал из кошелька луидор и протянул его извозчику.
Тот взял монету, внимательно ее осмотрел и взвесил на ладони. Одна из дам тем временем поблагодарила офицера. Извозчик отворил дверцу, и эта женщина вместе со спутницей села в экипаж.
– А теперь, господин плут, – обратился офицер к извозчику, – вези этих дам, только осторожненько, как следует, понял?
– Ну какие разговоры, господин офицер, само собой.
Пока длился этот диалог, дамы советовались.
Они со страхом поняли, что их проводник и защитник собирается их покинуть.
– Сударыня, – тихонько проговорила младшая, – лучше бы он не уходил.
– Это еще почему? Спросим у него имя и адрес, а завтра пошлем ему луидор с благодарственной запиской, которую вы напишите.
– Нет, сударыня, умоляю вас, пусть он останется. А вдруг извозчик – злодей, вдруг он начнет вытворять что-нибудь по пути? Дороги нынче скверные, кто нам поможет в случае чего?
– Но у нас же есть его номер.
– Конечно, сударыня, я не отрицаю, потом вы позаботитесь, чтобы он получил свое, но сейчас вы можете не успеть добраться этой ночью до Версаля. Что тогда скажут, представляете?
Старшая из дам задумалась.
– Верно, – наконец согласилась она.
Но офицер уже склонился в прощальном поклоне.
– Сударь, еще одно слово, прошу вас, – проговорила по-немецки Андреа.
– К вашим услугам, сударыня, – с явным неудовольствием отозвался офицер, сохраняя, впрочем, во всем своем облике и даже тоне изысканную учтивость.
– Сударь, – продолжала Андреа, – после всего, что вы для нас сделали, вы не сможете отказать еще в одной любезности.
– Слушаю вас.
– Признаться, сударь, мы побаиваемся этого извозчика, он так неохотно согласился ехать…
– Вы напрасно беспокоитесь, – ответил офицер. – Я запомнил его номер, сто семь «С», так что, если он причинит вам какие-либо неудобства, обращайтесь ко мне.
– К вам? – забывшись, проговорила по-французски Андреа. – Но как же мы сможем к вам обратиться, если не знаем даже вашего имени?
Молодой человек попятился.
– Так вы говорите по-французски? – с удивлением воскликнул он. – Вы говорите по-французски, а меня уже полчаса заставляете терзать мой немецкий! Ей-богу, сударыня, это нехорошо!
– Извините нас, сударь, – вмешалась вторая дама, приходя на помощь озадаченной спутнице. – Вы же понимаете, что, не прикинься мы иностранками, в Париже нам пришлось бы трудно, а с этим экипажем – тем более. Вы же светский человек и прекрасно понимаете, что мы оказались в несколько неестественной ситуации. Помочь нам лишь наполовину означает не помочь вовсе. Проявить меньшую скромность, чем вы проявляли до сих пор, означает быть нескромным. Мы составили о вас хорошее мнение, сударь, не заставляйте же нас его менять. Если вы можете оказать нам услугу, сделайте это безоговорочно или позвольте нам поблагодарить вас и искать помощь в другом месте.
– Сударыня, располагайте мною, – ответил офицер, пораженный благородным и очаровательным тоном незнакомы!.
– В таком случае не сочтите за труд сесть сюда.
– В экипаж?
– Да, и поехать вместе с нами.
– До Версаля?
– Вот именно, сударь.
Офицер молча влез в экипаж, сел на переднее сиденье и крикнул извозчику.
– Трогай!
Дверца захлопнулась, женщины укутались поплотнее, экипаж, проехав по улице Сен-Тома-дю-Лувр, пересек площадь Карусель и покатил по набережным.
В экипаже царило глубокое молчание.
Извозчик, то ли искренне желая добросовестно выполнить свои обязанности, то ли опасаясь присутствия офицера, который внушал ему почтение, упорно погонял своих тощих кляч по скользким мостовым набережной и дороги Конферанс.
Тем временем от дыхания трех пассажиров в экипаже стало теплее. В воздухе витал нежный аромат духов, благодаря которому впечатление молодого человека о его спутницах начало мало-помалу улучшаться.
«Наверное, – думал он, – эти женщины задержались на свидании с кем-то и теперь торопятся назад в Версаль, слегка напуганные и смущенные».
«Но если это благородные дамы, – продолжал рассуждать про себя офицер, – то почему же они ехали в одноколке и к тому же сами правили?
О, вот на это ответ есть.
Троим в одноколке тесно, а брать с собою лакея они не захотели, чтобы он их не смущал.
Однако ни у одной, ни у другой не оказалось с собою денег! Это досадное недоразумение стоит того, чтобы над ним поразмыслить.
Конечно, кошелек был у лакея. Одноколка, которая сейчас, наверное, уже разлетелась на кусочки, была весьма изящна, а лошадь, если я хоть сколько-нибудь в них понимаю, стоит луидоров полтораста.
Только богатые женщины могут позволить себе без сожаления бросить такую одноколку и лошадь. Так что отсутствие у них денег ровно ничего не значит.
Да, но это их стремление говорить на иностранном языке, хотя сами они француженки…
Прекрасно: это означает лишь то, что они недурно образованны. Искательницы приключений обычно не говорят по-немецки, как немки, а по-французски – как парижанки.
К тому же в этих женщинах чувствуется врожденное благородство.
Молоденькая так трогательно обратилась ко мне с просьбой.
А старшая говорила поистине с королевским благородством.
Да и кто сказал, – продолжал молодой человек, пристраивая свою шпагу так, чтобы она не мешала соседкам, – что для военного небезопасно провести пару часов в экипаже с двумя хорошенькими женщинами?
Хорошенькими и скромными, – продолжал он, – поскольку они молчат и ждут, когда я сам начну разговор».
Молодые женщины в свою очередь тоже размышляли об офицере: в тот миг, когда у него в голове мелькнула мысль об их скромности, одна из дам обратилась по-английски к своей спутнице:
– Ей-богу, друг мой, этот извозчик тащится, словно на похоронах, так мы никогда не доберемся до Версаля. Держу пари, наш бедный спутник просто умирает со скуки.
– К тому же, – улыбнувшись, подхватила младшая, – наши разговоры не очень-то занимательны.
– Не кажется ли вам, что он выглядит вполне приличным человеком?
– Я того же мнения, сударыня.
– А вы обратили внимание, что на нем морская форма?
– Я в этом разбираюсь плохо.
– Так вот, на нем форма морского офицера, а все они – из хороших домов. Вдобавок она ему идет, он в ней очень хорош собой, не правда ли?
Младшая из дам уже собралась было согласиться с мнением собеседницы, как вдруг офицер жестом остановил ее.
– Простите меня, сударыни, – проговорил он на великолепном английском языке, – но я обязан вам сказать, что легко говорю и понимаю по-английски. Правда, я не знаю испанского, и если вы его знаете и станете беседовать на нем, то можете быть уверены, я ничего не пойму.
– Сударь, – рассмеявшись, ответила дама, – как вы могли убедиться, мы ничего дурного о вас не говорили. Теперь мы не будем смущаться и станем говорить лишь по-французски.
– Благодарю за любезность, сударыня, но если мое присутствие вас чем-то смущает…
– Вы не должны так думать, сударь, ведь это мы вас сюда пригласили.
– Вернее, даже потребовали, чтобы вы ехали с нами, – добавила младшая.
– Не смущайте меня, сударыня, и извините за минутную нерешительность. Вы ведь знаете Париж, не так ли? В нем полно всяких ловушек, грозящих неудачей и разочарованием.
– Так, значит, вы приняли нас… Ну-ка, скажите откровенно.
– Господин офицер решил, что мы расставляем ему ловушку, вот и все.
– О, сударыни, – сконфузился молодой человек, – клянусь, ничего подобного не приходило мне в голову.
– Что такое? Почему мы встали?
– Что случилось?
– Сейчас посмотрю, сударыни.
– Кажется, мы сейчас перевернемся! Осторожнее сударь!
Экипаж дернуло, и младшая из дам, чтобы удержать равновесие, оперлась о плечо офицера.
Это прикосновение заставило его вздрогнуть.
Первым его движением было схватить девушку за руку; но Андреа уже совладала с минутным испугом и поглубже уселась на сиденье.
Офицер, которого больше ничто не удерживало, вылез и увидел, что извозчик поднимает одну из лошадей, запутавшуюся в постромках и придавленную дышлом.
Они только что проехали Севрский мост.
Наконец с помощью офицера извозчик поставил лошадь на ноги.
Молодой человек вернулся в экипаж.
Извозчик же, радуясь, что встретил подобную доброжелательность, принялся щелкать бичом – как для того, чтобы подстегнуть своих кляч, так и для того, чтобы согреться самому.
Казалось, однако, что проникший в экипаж через открытую дверцу студеный воздух заморозил разговор и сковал нарождавшуюся близость, в которой молодой человек уже безотчетно начинал находить известное очарование.
Но его лишь спросили, что произошло. Он рассказал. На этом разговор закончился, и над путешественниками снова нависло молчание.
Офицер, которого прикосновение теплой трепещущей ручки задело за живое, решил, что неплохо бы теперь получить взамен ножку.
Он вытянул вперед ногу, однако, хоть сделано это было не без ловкости, нога его ощутила лишь пустоту, вернее, наткнулась было на нечто, что тут же и исчезло, как с горечью отметил офицер.
Когда же он случайно задел ногу старшей из женщин, та хладнокровно заметила:
– Кажется, я стесняю вас, сударь. Прошу прощения.
Молодой человек залился краской до корней волос, радуясь, что в сгустившихся сумерках это осталось незамеченным.
Все было сказано, и на этом затеи молодого человека кончились.
Немой, неподвижный и почтительный, словно в храме, он боялся вздохнуть и чувствовал себя как малое дитя.
Однако мало-помалу странное впечатление завладело его мыслями.
Он ощущал рядом с собою присутствие двух очаровательных женщин, хоть к ним и не прикасался, он видел их своим мысленным взором, хоть и не мог разглядеть их въяве. Понемногу привыкая находиться подле них, он чувствовал, что какая-то частичка их существования сливается с его собственным бытием. Ему невероятно хотелось возобновить прервавшийся разговор, но теперь он не осмеливался начать, боясь показаться пошлым, поскольку с самого начала старался выражаться как можно изысканнее. Он опасался выставить себя простаком или наглецом перед женщинами, которым еще час назад оказывал, по его мнению, честь, ссужая их луидором и учтиво обращаясь с ними.
Словом, поскольку любая приязнь в этом мире объясняется взаимодействием флюидов, вовремя вступивших в соприкосновение, могучая притягательная сила, излучаемая ароматами и молодым теплом трех собравшихся случайно людей, завладела офицером, заняла все его мысли, заставляя сердце биться чаще.
Так порою рождаются, живут и умирают на протяжении лишь нескольких минут самые истинные, нежные и горячие чувства.
Они обладают прелестью, поскольку мимолетны, и силой – поскольку какое-то время все же длятся.
Офицер хранил молчание. Дамы тихонько переговаривались между собой. Однако молодой человек был постоянно начеку и улавливал отдельные слова, которые его воображение облекало в смысл.
Вот что он слышал:
– Позднее время… двери… повод, чтобы выйти…
Экипаж снова остановился.
Однако на этот раз остановка не была вызвана падением лошади или сломанным колесом. После трех часов отчаянных усилий лихой извозчик наконец разогрелся, вернее, почти что загнал лошадей и добрался до Версаля; стоявшие в его длинных, мрачных и пустынных аллеях красноватые фонари, выбеленные снаружи изморозью, напоминали процессию черных, бесплотных духов.
Молодой человек понял, что они прибыли на место. Каким же волшебством так быстро пролетело время?
Извозчик нагнулся к окошку в передке экипажа.
– Хозяин, – сообщил он, – мы в Версале.
– Где прикажете остановиться, сударыни? – спросил офицер.
– На плацу.
– На плац! – крикнул извозчику молодой человек.
– Ехать на плац? – переспросил тот.
– Ну да, говорят же тебе.
– Тогда придется добавить, – с ухмылкой проговорил овернец.
– Езжай, езжай.
Снова послышались щелчки кнута.
«Нужно начать разговор, – подумал офицер. – Я уже выставил себя наглецом, так еще не хватает выглядеть олухом».
– Сударыни, – смело начал он, – вот вы и добрались.
– Благодаря вашей любезной помощи.
– Сколько неудобств мы вам причинили! – добавила младшая из дам.
– Да я уж обо всем забыл, сударыня.
– А вот мы, сударь, не забудем. Прошу вас, назовите ваше имя.
– Мое имя?
– Я его спрашиваю уже во второй раз. Берегитесь!
– Вы же не собирались подарить нам ваш луидор, не правда ли?
– О, сударыня, если дело лишь в этом, – ответил молодой офицер, несколько задетый, – то я уступаю: я – граф де Шарни, офицер королевского флота, как вы уже заметили, сударыня.
– Шарни, – повторила старшая из дам тоном, в котором явно подразумевалось: «Прекрасно, я запомню».
– Жорж, Жорж де Шарни, – добавил офицер.
– Жорж, – прошептала младшая.
– А где вы живете?
– В особняке Принцев на улице Ришелье.
– Все, приехали.
Старшая из дам сама отворила дверцу слева от себя, легко спрыгнула на землю и подала руку спутнице.
– Но позвольте же, – вскричал молодой человек, приготовившийся следовать за дамами, – позвольте, я хотя бы вас провожу! Вы ведь еще не у себя, плац – это еще не дом.
– Оставайтесь на месте, – одновременно проговорили женщины.
– Как это, на месте?
– Не вылезайте из экипажа.
– Но как же, сударыни: одним, ночью, в такую погоду… Это невозможно.
– Хорошенькое дело! Сначала вы чуть было не отказали нам в услуге, а теперь мы не можем избавиться от ваших услуг! – весело отозвалась старшая из дам.
– Однако!
– Никаких «однако». Будьте же истинным и галантным кавалером до конца. Благодарим вас, господин де Шарни, благодарим от всего сердца. А поскольку вы – истинный и галантный кавалер, как я сказала только что, мы даже не будем брать с вас слово.
– Зачем вам мое слово?
– Слово в том, что вы сейчас затворите дверцу и велите извозчику возвращаться в Париж. Вы ведь так и сделаете и даже не станете смотреть нам вслед, правда?
– Вы правы, сударыни, брать с меня слово ни к чему. Извозчик, поехали назад, друг мой.
И молодой человек сунул в грубую ладонь извозчика еще один луидор.
Славный овернец задрожал от радости.
– Черт возьми! – воскликнул он. – Теперь пусть хоть клячи сдохнут, а доедем!
– Ну, клячам-то, по-моему, заплатили, – пробормотал офицер.
Экипаж покатил, и покатил быстро. Стук его колес заглушил вздох молодого человека, не лишенный сладострастия: сибарит развалился на подушках, еще хранивших тепло двух очаровательных незнакомок.
Они же остались стоять неподвижно и, лишь когда экипаж скрылся из виду, направились к дворцу.
Едва путешественницы тронулись в путь, как резкий порыв ветра донес до них бой часов: на церкви Людовика Святого било три четверти.
– О Боже! Без четверти двенадцать! – в один голос воскликнули женщины.
– Смотрите, все ворота закрыты, – добавила младшая.
– Ну, это-то меня не беспокоит, милая Андреа. Даже будь они открыты, мы все равно не пошли бы через парадный двор. Скорее, скорее, пойдемте через бассейны.
С этими словами женщины направились к правому крылу дворца.
Как известно всякому, там есть отдельный вход, ведущий в сад. К нему-то и подошли наши дамы.
– Дверь заперта, – с беспокойством проговорила старшая.
– Давайте постучим, сударыня.
– Нет, лучше позовем. Лоран должен меня ждать, я предупредила его, что мы можем вернуться поздно.
– Хорошо, сейчас я его позову.
И Андреа подошла к двери.
– Кто там? – послышался за нею голос еще до того, как девушка успела что-либо произнести.
– Ах, это не Лоран, – испуганно проговорила она.
– И верно, не он.
Другая женщина тоже подошла к двери.
– Лоран! – тихонько позвала она. Молчание.
– Лоран! – снова позвала дама и постучала.
– Нет здесь никакого Лорана, – грубо отозвался голос.
– Это неважно, все равно откройте, – настойчиво попросила Андреа.
– Не открою.
– Но, друг мой, вы, должно быть, не знаете, что Лоран нам всегда открывает.
– Плевать я хотел на Лорана! У меня есть приказ.
– А кто вы?
– Кто я?
– Нуда.
– А вы? – в свою очередь осведомился голос.
Вопрос был задан несколько грубо, однако препираться было не время, следовало что-то отвечать.
– Мы – дамы из свиты ее величества. Мы живем в замке и возвращаемся к себе.
– А я – солдат первой роты швейцарцев и в отличие от Лорана оставлю вас стоять под дверьми.
– Господи! – прошептали в один голос женщины.
Одна из них, едва сдерживая гнев, схватила другую за руку и, сделав над собой усилие, проговорила:
– Друг мой, я понимаю, что как хороший солдат вы должны выполнять приказ, и не собираюсь заставлять вас его нарушить. Я лишь прошу вас оказать мне услугу и позвать Лорана, который должен быть где-нибудь поблизости.
– Я не могу покинуть пост.
– Так пошлите кого-нибудь.
– Тут никого нет.
– Ну, прошу вас!
– Черт побери, сударыня, переночуйте в городе. Хорошенькое дельце! Да ежели б у меня перед носом закрыли дверь в казарму, я уж нашел бы, где переночевать. Ступайте!
– Послушайте, гренадер, – решительно сказала старшая из дам, – двадцать луидоров, если отопрете.
– И десять лет тюрьмы. Нет уж, благодарю. Сорок восемь ливров за год тюрьмы – это маловато.
– Я сделаю так, что вас произведут в сержанты.
– Вот-вот, а тот, кто отдал мне приказ, велит меня расстрелять. Премного благодарен!
– Кто же отдал вам приказ?
– Король.
– Король? – с ужасом переспросили женщины. – Ах, мы пропали.
Младшая, казалось, уже не помнила себя от страха.
– Ну что ж, – решила старшая, – попробуем другие двери.
– Ах, сударыня, если уж заперты эти, то и другие тоже.
– Как вы думаете, если Лорана здесь нет, хотя это и его место, то где он может быть?
– Нигде, это все сделано умышленно.
– Да, наверное, ты права, Андреа, это явно дурацкие фортели короля. О Боже!
Последние слова дама произнесла с презрением и угрозой.
Ведущая к бассейнам дверь была проделана в стене столь толстой, что перед нею получилось нечто вроде прихожей.
По обеим сторонам этой прихожей стояли каменные скамьи.
Охваченные волнением, доведенные до отчаяния женщины упали на них.
Через щель под дверью пробивался свет, слышались шаги швейцарца, который то брал, то ставил к стене свое ружье.
За тонкой дубовой преградой – спасение, а здесь – позор, скандал, чуть ли не гибель!
– Ох, что же будет завтра, когда узнают? – прошептала старшая из дам.
– Вы просто скажете правду.
– Но поверят ли в нее?
– У вас есть доказательства. Сударыня, солдат не будет стоять здесь на часах всю ночь, – сказала младшая из дам, которая набиралась смелости по мере того, как старшая ее лишалась. – В час ночи его сменят, а другой может оказаться сговорчивее. Подождем.
– Да, но когда пробьет полночь, пройдет дозор и увидит, что я сижу здесь под дверью, чего-то жду, прячусь. Какое бесчестье! О Боже, Андреа, кровь бросилась мне в голову, я задыхаюсь.
– Держитесь, сударыня. Вы ведь обычно так сильны, а я, которая только что проявила слабость, еще вас поддерживаю!
– Это заговор, Андреа, и мы стали его жертвами. Такого еще никогда не бывало, эту дверь никогда не запирали! Ах, Андреа, я этого не вынесу, я умираю!
И дама откинулась назад, словно и в самом деле задыхалась.
В этот миг по сухой и светлой версальской мостовой, где ступает сейчас так немного ног, зазвучали шаги.
В туже секунду послышался чей-то голос: какой-то молодой человек непринужденно и весело распевал песенку.
Это была одна из тех жеманных песенок, принадлежавших исключительно эпохе, которую мы пытаемся описать.
Неужто то было со мною?
Неужто то не было сном?
Той ночью, беззвездной, немою,
Неужто мы были вдвоем?
Морфей меня жестом безмолвным
В мягчайшую жесть превратил,
И, словно магнитом любовным,
Я тотчас притянут к вам был.
– Вы слышите? – в один голос воскликнули женщины.
– Я знаю, кто это, – сказала старшая.
– Это…
Сей бог своей хитрой уловкой
Заставил любовный магнит… —
продолжал голос.
– Это он! – прошептала на ухо Андреа дама, так энергично выражавшая свое беспокойство. – Это он, он нас спасет.
В этот миг молодой человек, закутанный в просторный меховой плащ, вошел в маленькую прихожую и, не замечая женщин, постучал в дверь и позвал:
– Лоран!
– Брат, – проговорила старшая из женщин, тронув молодого человека за плечо.
– Королева! – воскликнул тот, отступая назад и сдергивая с головы шляпу.
– Тс-с! Добрый вечер, брат.
– Добрый вечер, сударыня, добрый вечер, сестра. Но вы не одна?
– Нет, со мною мадемуазель Андреа де Таверне.
– А, чудесно. Добрый вечер, мадемуазель.
– Добрый вечер, ваше высочество, – приседая, ответила Андреа.
– Вы куда-нибудь выходите, сударыня? – поинтересовался молодой человек.
– Отнюдь.
– Значит, возвращаетесь откуда-то?
– Нам хотелось бы вернуться.
– Но разве вы не позвали Лорана?
– Позвали.
– И что же?
– А позовите сами и увидите.
– Да, да, сударь, попробуйте-ка, позовите его.
Молодой человек, в котором нетрудно было узнать графа д'Артуа[28], подошел к двери, постучал и снова крикнул:
– Лоран!
– Снова эти шуточки! – проворчал за дверью швейцарец. – Послушайте, если вы опять станете ко мне приставать, я кликну офицера.
– Это еще что такое? – спросил озадаченный молодой человек, поворачиваясь к королеве.
– Швейцарец, которым заменили Лорана, вот и все.
– Кто же эта сделал?
– Король.
– Король?
– Вот именно! Солдат только что сказал нам об этом.
И у него есть приказ?
– И вдобавок строжайший.
– Вот черт! Придется сдаваться.
– Что вы имеете в виду?
– Дадим этому бездельнику денег.
– Я уже предлагала. Отказался.
– Предложим тогда нашивки.
– Их я тоже предлагала.
И?..
– Не хочет ни о чем слышать.
– Стало быть, осталось лишь одно средство.
– Какое?
– Я подниму шум.
– Вы нас скомпрометируете. Умоляю вас, дорогой Карл, не нужно.
– Вы ничем не будете скомпрометированы.
– Да?
– Вы станете в сторонке, я примусь кричать, как глухой, и стучать изо всех сил, мне в конце концов откроют, и вы проскользнете следом за мной.
– Давайте попробуем.
Молодой принц принялся снова звать Лорана, стучать и, наконец, так загрохотал в дверь эфесом шпаги, что разъяренный швейцарец заорал:
– Ах, вот как? Ладно же, иду звать офицера.
– Да зови, черт бы тебя побрал, негодяй! Я уже четверть часа только этого и добиваюсь.
Несколько секунд спустя за дверью раздались шаги. Королева и Андреа встали позади графа д'Артуа, готовые проскользнуть вслед за ним в дверь, которая, судя по всему, вот-вот должна была отвориться.
Швейцарец принялся объяснять офицеру причину шума.
– Господин лейтенант, – сказал он, – там дамы и мужчина, который только что обозвал меня негодяем. Они хотят сюда вломиться.
– Что ж удивительного в том, что мы хотим войти, раз живем во дворце?
– Ваше желание, сударь, вероятно, вполне естественно, но только это запрещено, – отозвался офицер.
– Запрещено? Проклятье! Кем же?
– Королем.
– Прошу прощения, но вряд ли король желает, чтобы офицер, служащий в замке, ночевал на улице.
– Сударь, вникать в намерения короля – не мое дело, мое дело – выполнять его приказы, и ничего более.
– Послушайте, лейтенант, приоткройте дверь, чтобы мы могли поговорить как следует.
– Сударь, повторяю: данный мне приказ заключается в том, чтобы держать дверь закрытой. Если вы и вправду офицер, то должны понимать, что такое приказ.
– Лейтенант, с вами говорит полковник.
– Простите, полковник, но приказ весьма категоричен.
– На принцев приказы не распространяются. Послушайте, сударь, я – принц, а принцы не ночуют где попало.
– Принц, я в отчаянии, но у меня приказ короля.
– Король приказал вам прогнать своего брата, словно попрошайку или воришку? Я – граф д'Артуа, сударь. Проклятье! Вы сильно рискуете, заставляя меня мерзнуть под дверьми.
– Монсеньор, – ответил лейтенант, – Бог свидетель, что я готов отдать свою кровь до последней капли за ваше королевское высочество, однако король соизволил лично поручить мне охрану этой двери и велел не открывать ее никому, даже ему самому, после одиннадцати. Поэтому, ваше высочество, я покорнейше прошу меня извинить, но я солдат, и, если бы на вашем месте, за этой дверью, замерзала сама ее величество королева, я ответил бы ей то же, что имел несчастье ответить вам.
Сказав это, офицер почтительно пожелал доброй ночи и неспешно вернулся на свой пост.
Что же касается солдата, то он стоял, вжавшись в дверь, и боялся вздохнуть; сердце его колотилось столь сильно, что граф д'Артуа, прислонившись к двери с другой стороны, мог сосчитать его удары.
– Мы пропали! – сказала королева деверю и взяла его за руку.
Тот не отвечал.
– Там знают, что вы вышли? – наконец спросил он.
– Увы, понятия не имею, – ответила королева.
– Возможно, сестра, король отдал приказ, имея в виду меня. Он знает, что я выхожу по вечерам и порою возвращаюсь поздно. Наверное, графиня д'Артуа что-то проведала и пожаловалась его величеству – отсюда этот достойный тирана приказ.
– Ах, нет, брат мой, нет! Благодарю вас от всего сердца за деликатность, с какою вы стараетесь меня утешить. Полно вам, это все из-за меня, точнее, против меня.
– Но это невозможно, сестра, король с таким почтением…
– А я тем временем стою под дверью, и завтра из-за совершенно невинного дела разразится ужасный скандал. В окружении короля у меня есть враг, я это знаю.
– У вас есть враг в окружении короля, сестрица? Возможно. В таком случае мне пришла в голову одна мысль.
– Мысль? Ну говорите же!
– Мысль, которая заставит вашего врага выглядеть глупее осла, которого тянут за недоуздок.
– О, достаточно, если вы поможете нам выйти из этого нелепого положения, о большем я не прошу.
– Надеюсь, что помогу. Нет, я не глупее, чем он, даже при всей его учености.
– Кто – он?
– Да граф Прованский, черт его побери!
– Ах, так, значит, вы согласны, что он – мой враг?
– А разве он не враг всего, что молодо, всего, что прекрасно, всего, что способно… на то, на что он сам не способен?
– Брат мой, вам известно об этом приказе что-то определенное?
– Возможно. Однако довольно стоять у этой двери, здесь зверски холодно. Пойдемте со мной, милая сестра.
– Куда же?
– А вот увидите: кое-куда, где по крайней мере тепло. Пойдемте, а по дороге я расскажу вам все, что думаю об этой запертой двери. Ах, господин граф Прованский, мой дорогой и недостойный брат! Давайте руку, сестра, возьмите меня за другую, мадемуазель де Таверне. Идемте, нам направо.
– Так вы говорите, что граф Прованский… – сказала королева.
– Ну так вот. Сегодня вечером, после ужина, король прошел в большой кабинет. Днем он много разговаривал с графом Хагой, но вас не видел.
– В два часа я уехала в Париж.
– Я это знаю. Король, позвольте вам заметить, дорогая сестра, думал о вас не больше, чем о Гарун аль Рашиде и его великом визире Джафаре, и беседовал о географии. Я слушал его с известным нетерпением, так как сам хотел уйти. Ах, простите, причины нашего с вами ухода разные, так что зря я…
– Да продолжайте же, продолжайте.
– Теперь нам налево.
– Но куда вы нас ведете?
– Еще шагов двадцать. Осторожнее, здесь сугроб. Ах, мадемуазель де Таверне, если вы не будете держаться за мою руку, то упадете, предупреждаю вас. Вернемся, однако, к королю. Короче, он думал лишь о широтах и долготах, когда его высочество граф Прованский проговорил: «Я хотел бы засвидетельствовать свое почтение королеве».
– Вот как! – воскликнула Мария Антуанетта.
«Королева ужинает у себя», – ответил король. «А я думал, в Париже», – заметил мой брат. «Нет, она у себя», – спокойно подтвердил король. «Я только что оттуда, меня не приняли», – настаивал граф.
– Тут я увидел, что король нахмурился. Услав нас с братом, он явно стал выяснять, где вы. Сами знаете, что порой на него накатывают приступы ревности. Он, видимо, захотел к вам пройти, его не пустили, и он что-то заподозрил.
– Верно, у госпожи де Мизери был приказ никого не пускать.
– Вот-вот, а чтобы окончательно убедиться в вашем отсутствии, король отдал этот строгий приказ, и мы не смогли войти.
– Признайтесь, граф, что это весьма некрасиво.
– Признаю. Но вот мы и пришли.
– Какой дом!
– Он вам не нравится, сестра?
– Я этого не говорю, напротив, он очарователен. Но как же ваши люди?
– А что такое?
– Вдруг меня увидят.
– Сестра, входите, я уверяю, что никто вас не увидит.
– Даже тот, кто откроет дверь? – осведомилась королева.
– Даже он.
– Невероятно.
– Давайте все-таки попробуем, – со смехом ответил граф.
И он поднял руку, чтобы постучать. Королева остановила его.
– Умоляю вас, брат мой, осторожнее!
Принц изящно оперся другой рукой о резную панель на двери.
Дверь отворилась.
Королева не смогла сдержать испуганного движения.
– Входите же, сестра, умоляю вас, – предложил принц. – Вы же видите, тут никого нет.
Королева взглянула на мадемуазель де Таверне с выражением человека, идущего навстречу опасности, затем переступила порог с очаровательной женской ужимкой, как бы говорившей: «Господи, благослови!»
Дверь закрылась за нею без единого звука.
Королева очутилась в оштукатуренной передней с цоколем, облицованным мрамором. Она была невелика, но выполнена в прекрасном вкусе: мозаичный пол с изображениями букетов цветов, на мраморных консолях – японские вазы с множеством столь редких в эту пору года роз, которые осыпали свои благоуханные лепестки.
Приятное тепло и еще более приятный аромат так завладели чувствами дам, что, войдя в переднюю, они почти забыли не только свои страхи, но и колебания.
– Ну и чудно, наконец-то мы обрели пристанище, – заявила королева, – и надо признать, пристанище довольно удобное. Но не стоит ли вам кое-что сделать, брат мой?
– Что именно?
– Удалить отсюда своих слуг.
– Нет ничего проще.
С этими словами принц дернул за сонетку, висевшую в каннелюре одной из колонн, и хотя колокольчик звякнул всего один раз, отзвуки его таинственным образом зазвенели в глубине лестницы.
Женщины испуганно вскрикнули.
– Неужели вы этак удаляете слуг, брат мой? – осведомилась королева. – Мне казалось, что таким манером их зовут.
– Если я дерну за шнурок еще раз, тогда кто-нибудь придет, но когда я звоню только раз, можете быть спокойны, сестра, никто не явится.
Королева рассмеялась.
– О, я смотрю, вы человек предусмотрительный, – проговорила она.
– Однако, сестра, – продолжал принц, – не можете же вы оставаться в передней! Сделайте одолжение, поднимитесь наверх.
– Придется повиноваться, – заметила королева. – Гений этого дома, кажется, не очень злобен.
Дамы поднялись наверх.
Принц шел впереди.
Лестница была устлана обюссонским ковром, который совершенно заглушал их шаги.
Дойдя до второго этажа, принц дернул за другую сонетку, и королева вместе с мадемуазель де Таверне снова вздрогнула от неожиданности.
Их испуг усугубился, когда они увидели, что дверь второго этажа отворяется сама.
– Ей-богу, Андреа, я начинаю дрожать, – призналась королева. – А вы?
– Пока ваше величество идет впереди, я доверчиво следую за вами.
– Но ничего особенного не происходит, сестра моя, – успокоил молодой принц. – Перед вами дверь ваших покоев. Взгляните!
И он указал королеве на прелестную комнатку, которую мы не преминем описать.
Маленькая прихожая с паркетом из розового дерева и обитая розовым же деревом, где стояли две этажерки работы Буля, а потолок был расписан Буше, вела в будуар, обтянутый белым кашемиром, усыпанным цветами, вышитыми лучшими вышивальщицами.
Ковры на стенах были расшиты шелком, причем невероятно мелкими стежками, и с поразительным искусством, благодаря чему гобелены того времени можно сравнить с картинами великих художников.
За будуаром находилась голубая спальня. Кружевные занавески, шелковые турские штофы, роскошная кровать в полутемном алькове, огонь, пылающий в белом мраморном камине, дюжина ароматических свечей в канделябрах работы Клодиона[29], ширма, покрытая лазурным лаком и расписанная золотыми китайскими узорами, – все эти чудеса открылись взорам дам, когда они вступили в изящную комнату.
Нигде не было видно ни души; везде тепло и светло, но каким образом это достигнуто, угадать было невозможно.
Королева, осторожно прошедшая через будуар, замерла на секунду на пороге спальни.
Принц в весьма учтивых выражениях извинился за то, что нужда заставила доверить сестре не достойные ее секреты.
Королева в ответ слегка улыбнулась, выразив тем самым гораздо больше, чем словами.
– Сестра, – добавил граф д'Артуа, – это мои холостяцкие покои. Здесь бываю только я, и всегда один.
– Почти всегда, – уточнила королева.
– Нет, всегда.
Ну-ну.
– Вдобавок, – продолжал он, – в будуаре, где вы сейчас стоите, есть диван и глубокое кресло, в которых мне не раз приходилось спать не хуже, чем в постели, когда сон смаривал меня после охоты.
– Теперь я понимаю, – заметила королева, – почему порою беспокоится ее высочество графиня д'Артуа.
– Разумеется, но признайте, сестра, что если она беспокоится и сегодня, то совершенно напрасно.
– Сегодня да, но в другие вечера…
– Сестра, кто не прав один раз, не прав всегда.
– Ладно, оставим это, – проговорила королева и уселась в кресло. – Я страшно устала. А вы, Андреа?
– О, я буквально падаю с ног от усталости, и если ваше величество позволит…
– Вы и впрямь побледнели, мадемуазель, – сказал граф д'Артуа.
– Конечно, моя дорогая, – воскликнула королева, – садитесь, даже прилягте, если хотите. Ведь господин граф предоставляет нам эти покои, не так ли, Карл?
– В полное распоряжение, ваше величество.
– Одну минутку, принц, еще два слова.
– Что такое?
– Если вы уйдете, как мы сможем вас позвать?
– Я вам буду не нужен, сестра. Устраивайтесь и располагайте всем домом.
– Значит, здесь есть и другие комнаты?
– Ну конечно. Во-первых, есть столовая, которую я советую вам посетить.
– Разумеется, с накрытым столом?
– А как же! Мадемуазель де Таверне, которой это очень необходимо, найдет там крепкий бульон, крылышко какой-нибудь домашней птицы и капельку хереса, а для вас, сестра, там есть печеные фрукты, которые вы так любите.
– И без лакеев?
– Не увидите ни единого.
– Посмотрим. А что потом?
– Потом?
– Да, как мы вернемся во дворец?
– Вернуться туда ночью нечего и думать, поскольку таков приказ. Но утром он перестанет действовать: в шесть часов двери откроются. Вы выйдете отсюда без четверти шесть. В шкафах вы найдете накидки любых цветов и фасонов, если захотите изменить свой облик. Вот и входите во дворец, ступайте к себе в спальню, ложитесь, а об остальном не беспокойтесь.
– А вы?
Что я?
– Что вы-то собираетесь делать?
– Уйду из этого дома.
– Как! Выходит, мы вас выгоняем, бедный братец?
Я не должен проводить ночь под одной крышей с вами, сестра.
– Но вам же тоже необходимо пристанище на ночь, а мы его у вас отняли.
– Ничуть! У меня есть еще три таких же.
Королева расхохоталась.
И он смеет говорить, что госпожа графиня зря беспокоится! Смотрите, я ей все расскажу! – шутливо пригрозила она.
– Тогда я все расскажу королю, – в том же тоне парировал принц.
– Он прав: мы попали к нему в зависимость.
– Совершенно верно. Это унизительно, но что же делать?
– Покориться. Стало быть, вы говорите, что для того, чтобы выйти утром незамеченными, нужно…
– Один раз позвонить в звонок – внизу, у колонны.
– В который? В тот, что справа, или в тот, что слева?
– Это неважно.
– И дверь отворится?
– А потом затворится.
– Сама собой?
– Сама собой.
– Благодарю вас. Спокойной ночи, братец.
– Спокойной ночи, сестрица.
Принц поклонился, Андреа затворила за ним дверь, и он исчез.
На следующий день, а вернее, тем же утром, поскольку наша предыдущая глава закончилась около двух часов пополуночи, король Людовик XVI в коротком утреннем камзоле фиолетового цвета, без орденов, ненапудренный, короче, едва встав с постели, постучал в прихожую, ведущую в покои королевы.
Служанка приоткрыла дверь и, узнав короля, воскликнула:
– Государь!
– Королеву! – коротко приказал король.
– Ее величество спит, государь.
Король попробовал отодвинуть женщину с дороги, но та не шелохнулась.
– Да посторонитесь вы или нет? – осведомился король. – Вы же видите, что мне надо пройти.
Порою король позволял себе весьма резкие движения, каковые его враги почитали за грубость.
– Королева изволит отдыхать, – робко попыталась возразить служанка.
– Говорю же вам, пропустите меня! – ответил король и, отодвинув женщину, прошел в прихожую.
Дойдя до дверей спальни, король увидел г-жу де Мизери, первую камеристку королевы, читавшую в этот миг часослов.
Завидев короля, дама встала.
– Государь, – тихо и с глубоким реверансом проговорила она, – ее величество еще не вызывала меня.
– Вот как? – насмешливо заметил король.
– Но, государь, сейчас ведь едва половина седьмого, а ее величество никогда раньше семи не звонит.
– А вы уверены, что королева у себя в постели? Вы уверены, что она еще спит?
Я не могу утверждать, что ее величество спит, но что она еще в постели – уверена.
– В самом деле?
– Да, государь.
Сдерживать себя далее король не мог. Он быстро и с шумом подошел к двери, снабженной позолоченной ручкой.
В спальне королевы было темно, как ночью: плотно закрытые ставни, задернутые занавески и шторы создавали в комнате глубокий мрак.
Ночник, горевший на маленьком столике в дальнем углу спальни, оставлял альков в потемках. Громадные занавески из белого шелка с золотыми лилиями свисали складками перед разобранной постелью.
Король быстрым шагом направился к кровати.
– Ах, госпожа де Мизери, – вскричала королева, – вы так шумите, что разбудили меня!
Ошеломленный король остановился.
– Это не госпожа де Мизери, – пробормотал он.
– А, так это вы, государь, – проговорила Мария Антуанетта, приподнимаясь в постели.
– Доброе утро, сударыня, – выдавил король кисло-сладким тоном.
– Каким попутным ветром занесло вас сюда, государь? – осведомилась королева. – Госпожа де Мизери! Госпожа де Мизери! Отворите же наконец окна.
Женщины вошли и по обычаю, заведенному королевой, тотчас же открыли все окна и двери, чтобы впустить свежий воздух, которым Мария Антуанетта любила наслаждаться при пробуждении.
– Сладко же вы спите, сударыня, – сказал король, усаживаясь подле кровати, которую предварительно окинул внимательным взглядом.
– Да, государь, я зачиталась ночью и если бы ваше величество меня не разбудили, то поспала бы еще.
– А почему вчера вечером вы не принимали, сударыня?
– Кого я не приняла? Вашего брата, графа Прованского? – с тем же присутствием духа спросила королева, предварив тем самым подозрения короля.
– Вот именно, моего брата. Он хотел засвидетельствовать вам свое почтение, а вы оставили его за дверьми.
– И что же?
– Но ему же сказали, что вы отсутствуете.
– Ему так сказали? – небрежно переспросила королева. – Госпожа де Мизери! Госпожа де Мизери!
Первая камеристка появилась в дверях, держа в руках золотой поднос с письмами, адресованными королеве.
– Звали, ваше величество? – спросила она.
– Звала. Вы говорили вчера графу Прованскому, что меня нет во дворце?
Чтобы не проходить перед королем, г-жа де Мизери обошла его и протянула поднос с письмами королеве. Пальцем она прижала письмо, почерк на котором королева сразу узнала.
– Отвечайте королю, госпожа де Мизери, – с тою же небрежностью продолжала Мария Антуанетта. – Скажите его величеству, что вы ответили графу Прованскому, когда он пришел сюда, потому что я это позабыла.
– Государь, – проговорила г-жа де Мизери, пока королева распечатывала письмо, – его высочество граф Прованский явился, чтобы засвидетельствовать свое почтение ее величеству, но я ему ответила, что ее величество не принимает.
– По чьему приказу?
– По приказу королевы.
– Вот оно что, – протянул король.
Тем временем королева распечатала письмо и прочла следующие строки:
«Вы вернулись вчера из Парижа и вошли во дворец в восемь вечера. Лоран вас видел».
Затем все с такой же беззаботностью королева распечатала с полдюжины записок, писем и прошений и разбросала их по перине.
– Ну так что же? – подняв голову, спросила она у короля.
– Благодарю вас, сударыня, – ответил тот первой камеристке.
Г-жа де Мизери удалилась.
– Простите, государь, не проясните ли вы для меня один вопрос? – обратилась королева к супругу.
– Какой вопрос, сударыня?
– Свободна ли я принимать или не принимать графа Прованского?
– О, совершенно свободны, сударыня, но…
– Но его остроумие меня утомляет, что ж поделать? К тому же он меня не любит, впрочем, я плачу ему той же монетой. Я ожидала его неприятного визита и легла в восемь часов, чтобы иметь возможность его не принять. Что вы имеете против этого, государь?
– Ничего, ничего.
– Можно подумать, что вы меня в чем-то подозреваете.
– Но…
– Что – но?
– Но мне казалось, что вы вчера были в Париже.
– В котором часу?
– Когда вы сделали вид, что легли спать.
– Разумеется, я была в Париже. Но разве оттуда нельзя вернуться?
– Можно, можно. Все зависит оттого, в котором часу.
– Ах, так вы хотите знать точное время моего возвращения из Парижа?
– Вот-вот.
– Нет ничего проще, государь.
И королева позвала:
– Госпожа де Мизери!
Камеристка снова появилась в спальне.
– Скажите, госпожа де Мизери: в котором часу я вернулась вчера из Парижа? – спросила королева.
– Примерно в восемь, ваше величество.
– Я так не думаю, – возразил король. – Вы, должно быть, ошиблись, госпожа де Мизери, пойдите проверьте.
Камеристка, прямая и бесстрастная, повернулась к двери.
– Госпожа Дюваль! – позвала она.
– Да, сударыня? – послышался голос.
– В котором часу ее величество вернулась вчера вечером из Парижа?
– Было около восьми, – ответила вторая камеристка.
– Вы, наверное, ошиблись, госпожа Дюваль, – сказала г-жа де Мизери.
Г-жа Дюваль выглянула из окна прихожей и крикнула.
– Лоран!
– Кто такой этот Лоран? – полюбопытствовал король.
– Привратник, стоявший у двери, через которую вернулась вчера ее величество.
– Лоран, – продолжала г-жа Дюваль, – в котором часу вернулась вчера ее величество?
– Примерно в восемь, – ответил привратник с террасы.
Король опустил голову.
Людовику XVI было стыдно, но он всеми силами пытался не показать вида.
Однако королева, вместо того чтобы праздновать одержанную победу, лишь холодно осведомилась:
– Что вы хотели бы узнать еще, государь?
– О нет, ничего! – воскликнул король, сжимая руки супруги.
– Однако…
– Извините меня, сударыня, я не знаю, что это взбрело мне в голову. Вы видите мою радость? Она так же велика, как и мое раскаяние. Вы ведь на меня больше не сердитесь, правда? Ну, перестаньте же дуться! Я в отчаянии, слово дворянина!
Королева выдернула свою руку из ладоней короля.
– Что вы делаете, сударыня? – удивился Людовик.
– Государь, – отчеканила Мария Антуанетта, – королева Франции не лжет!
– И что же? – спросил озадаченный король.
– Я должна вам сказать, что не вернулась вчера в восемь вечера.
Изумленный король отпрянул.
– Я хочу вам сообщить, – столь же хладнокровно продолжала королева, – что вернулась только в шесть утра.
– Сударыня!..
– И что если бы не господин граф д'Артуа, который предложил мне приют и из жалости поместил у себя в доме, я осталась бы у двери, словно какая-нибудь нищенка.
– Ах, так, значит, вы не вернулись? – мрачно проговорил король. – Выходит, я был прав?
– Государь, прошу извинить, но из сказанного мною вы делаете вывод, как математик, а не как учтивый кавалер.
– В чем же это выражается, сударыня?
– А вот в чем. Чтобы проверить, когда я вернулась, вам нужно было не запирать двери и отдавать приказ никого не пускать, а просто прийти ко мне и спросить: «В котором часу вы вернулись, сударыня?»
Король неопределенно хмыкнул.
– Сомневаться долее вам уже непозволительно, сударь: ваши лазутчики обмануты или подкуплены, ваши двери взломаны или открыты, ваши сомнения побеждены, ваши подозрения рассеяны. Я видела, как вам было стыдно за то, что вы употребили насилие по отношению к безвинной женщине. Я могла бы торжествовать и далее. Но я нахожу, что ваши действия для короля постыдны, а для дворянина – непристойны, и не могу отказать себе в удовольствии заявить вам об этом.
Король щелчками сбивал пылинки со своего жабо, словно человек, обдумывающий, как ему лучше ответить.
– Что бы вы ни ответили, сударь, – покачав головой, проговорила королева, – вам не удастся оправдать свое поведение по отношению ко мне.
– Напротив, сударыня, мне это сделать нетрудно, – ответил король. – Скажите, разве хоть одна живая душа во дворце знала, что вы не вернулись? Так вот, если б каждый знал, что вы дома, то я не распространил бы на вас мой приказ никого не впускать во дворец. Что же касается распутства господина графа д'Артуа и прочих, то вы же понимаете, что это меня не волнует.
– И что же дальше, государь?
– Ладно, я буду краток. Желая соблюсти приличия по отношению к вам, я был прав, а вы – не правы, поскольку не делаете этого по отношению ко мне. С другой стороны, в своем желании преподать вам тайный урок, который, я уверен, послужит вам на пользу, когда ваше раздражение уляжется, – так вот, в этом желании я тоже прав и не отрекаюсь ни от чего, сделанного мной.
Королева слушала ответ своего августейшего супруга и понемногу успокаивалась. Нет, ее раздражение вовсе не улеглось, однако она желала сохранить силы для борьбы, которая, по ее мнению, не закончилась, а только начиналась.
– Прекрасно! – ответила она. – Значит, вы не считаете нужным извиниться за то, что заставили, словно первую попавшуюся попрошайку, томиться под дверьми собственного дома дочь Марии Терезии[30], вашу жену, мать ваших детей? Какое там! По вашему мнению, это – поистине королевская шутка, полная аттической соли, нравоучительный смысл которой лишь увеличивает ее ценность. Значит, вы считаете вполне естественным вынудить королеву Франции провести ночь в доме, где граф д'Артуа принимает девиц из Оперы и легкомысленных придворных дам? Да нет, это все пустяки, король выше подобных безделиц, тем более – король-философ. А вы ведь философ, государь, еще бы! Заметьте, кстати, какую положительную роль сыграл во всем этом граф д'Артуа. Заметьте, что он сослужил мне хорошую службу. Заметьте, что на этот раз я должна возблагодарить небо за то, что мой деверь – человек распутный, потому что его распутство скрыло мой позор, потому что его пороки спасли мою честь.
Король покраснел и заскрипел креслом.
– О, – с горьким смехом продолжала королева, – я знаю, что вы – высоконравственный король! Но подумали ли вы, куда ведет эта ваша нравственность? Вы утверждаете, будто никто не знал, что я не вернулась, верно? И вы сами считали, что я здесь? Скажите, его высочество граф Прованский, ваш подстрекатель, он что – тоже так считал? И граф д'Артуа? И мои камеристки, которые сегодня утром по моему приказу солгали вам, тоже так считали? И вместе с ними Лоран, подкупленный графом д'Артуа и мною? Конечно, король всегда прав, но порою может быть права и королева. Хотите, государь, заведем такой обычай: вы будете натравливать на меня шпионов и привратников, а я стану их подкупать? Воля ваша, но не пройдет и месяца – а вы, государь, меня знаете и должны понимать, что я не успокоюсь, – так вот, не пройдет и месяца, как однажды утром мы с вами, как, например, сегодня, соберемся и подведем итог: чем это все обернется для величия трона и уважения к нашему браку.
Слова эти явно произвели сильное действие на того, кому предназначались.
– Вы знаете, – изменившимся голосом проговорил король, – что я всегда искренен и всегда признаю свои заблуждения. Поэтому извольте доказать, сударыня, что вы были правы, когда уехали из Версаля на санях с кем-то из своих приближенных. Эта шальная толпа только компрометирует вас в трудных обстоятельствах, в которых нам приходится жить. Извольте доказать, что вы были правы, исчезнув вместе с ними в Париже, словно маски на балу, и появившись лишь ночью, постыдно поздно, когда даже моя лампа уже погасла и все вокруг спали. Вы упомянули тут об уважении к браку, о величии трона и о своем материнстве. Но разве супруга, королева и мать так поступает?
– Я отвечу вам в нескольких словах, государь, но предупреждаю, что сделаю это с еще большим презрением, нежели прежде, поскольку некоторые пункты вашего обвинения ничего, кроме презрения, не достойны. Я уехала из Версаля на санях, чтобы как можно скорее добраться до Парижа; вместе с мадемуазель де Таверне; репутация у которой при дворе, слава Богу, самая незапятнанная. Я отправилась в Париж, чтобы самой убедиться, что король Франции, отец многочисленного семейства, король-философ, моральный оплот всех людей с чистой совестью, дававший пропитание бедным иностранцам, обогревавший нищих и снискавший любовь народа своей благотворительностью, позволяет умирать с голоду, пребывать в забвении и подвергаться угрозам нищеты и порока человеку его рода, монаршего рода, потомку одного из королей, правивших Францией.
– Я? – в изумлении воскликнул король.
– Я поднялась на какой-то чердак и увидела там правнучку великого государя, сидящую без огня, света и денег. Я дала сто луидоров этой жертве забвения, жертве королевского небрежения. Атак как я задержалась, размышляя о ничтожестве нашего величия – я ведь тоже иногда философствую, – и так как сильно подмораживало, а в подобный мороз лошади идут скверно, особенно лошади наемного экипажа…
– Наемного экипажа? – вскричал король. – Как! Вы возвратились в наемном экипаже?
– Да, государь, на извозчике номер сто семь.
– Ну и ну, – пробормотал король, положив правую ногу на левую и покачивая ею, что было у него признаком крайнего раздражения. – В наемном экипаже!
– Вот именно. Мне повезло, что хоть его-то удалось найти, – ответила королева.
– Сударыня, – перебил король, – вы поступили правильно, вы всегда полны добрых намерений, которые возникают у вас, быть может, слишком легко, однако очень уж вы пылки в своем благородстве.
– Благодарю вас, государь, – с насмешкой в голосе ответила королева.
– Вы же понимаете, – продолжал король, – я не подозреваю вас ни в чем скверном или постыдном, мне лишь не понравился ваш поступок, слишком рискованный для королевы. Вы, как обычно, сделали добро, но, делая добро другим, навредили себе. Вот в чем я вас упрекаю. Теперь я хочу извлечь из забвения потомка королей, хочу озаботиться его судьбой. Я готов; назовите мне имя этого несчастного, и мои благодеяния не заставят себя ждать.
– Я думаю, имя Валуа, государь, достаточно прославлено, чтобы вы смогли его вспомнить.
– Вот оно что! – расхохотался Людовик XVI. – Теперь я знаю, кем вы так озабочены. Речь идет о крошке Валуа, не так ли? О графине… Погодите-ка…
– О графине де Ламотт.
– Правильно, де Ламотт. У нее муж в тяжелой кавалерии, не так ли?
– Да, государь.
– А жена у него – интриганка. О, не сердитесь, ведь она готова перевернуть все вверх дном: донимает министров, изводит моих тетушек, засыпает меня самого прошениями, просьбами, генеалогическими доказательствами.
– Но это лишь говорит о том, государь, что до сих пор все ее обращения оставались втуне.
– Этого я не отрицаю.
– А как на самом деле: она Валуа или нет?
– Думаю, что да.
– Тогда ей нужно дать пенсию. Приличную пенсию для нее, полк для ее мужа, какое-то положение – они в конце концов отпрыски королевского рода.
– Полегче, сударыня, полегче. Какая же вы, право слово, быстрая! Крошка Валуа повыдергает у меня достаточно перьев и без вашей помощи, ей палец в рот не клади!
– О, за вас, государь, я не боюсь: перья у вас держатся крепко.
– Приличная пенсия, Господи помилуй! Как это у вас все скоро, сударыня! А вам известно, как сильно нынешняя зима опустошила мою казну? Полк для этого офицеришки, который, не будь дурак, женился на Валуа! А у меня, сударыня, не осталось больше полков даже для тех, кто готов заплатить или заслужил. Положение, достойное королей, их предков, для этих попрошаек? Полноте! Да у нас самих положение хуже, чем у каких-нибудь незнатных богачей. Герцог Орлеанский отправил своих лошадей и мулов в Англию, на продажу, и заколотил две трети своего дома. Я сам отменил свою охоту на волков. Господин де Сен-Жермен заставил меня урезать королевскую гвардию. Мы все, от мала до велика, терпим лишения, дорогая моя.
– Но, государь, не могут же Валуа умирать с голоду!
– Но разве вы не сказали мне сами, что дали ей сто луидоров?
– Это же просто милостыня!
– Зато королевская.
– Тогда дайте и вы ей столько же.
– Воздержусь. Того, что вы дали, хватит для нас двоих.
– Ну, тогда хотя бы небольшую пенсию.
– Никаких пенсий, ничего постоянного. Эти люди и так выклянчат у вас предостаточно, они из породы грызунов. Если у меня возникнет желание дать им что-нибудь, я дам просто так, безо всяких обязательств на будущее. Словом, я дам им, когда у меня появятся лишние деньги. Эта крошка Валуа… Ей-богу, я могу вам порассказать о ней такого… Ваше доброе сердечко попалось в западню, моя милая Антуанетта. Я прошу за это у него прощения.
С этими словами Людовик протянул руку королеве, которая, повинуясь первому побуждению, поднесла ее к губам.
Однако она тут же ее оттолкнула и сказала:
– Вы ко мне недостаточно добры. Я на вас сердита.
– Вы на меня сердиты? Но ведь я… я…
– Вот-вот, еще скажите, что вы на меня не сердитесь – вы, заперший передо мною двери Версаля, вы, явившийся ко мне в прихожую в половине седьмого утра, вы, который вломился сюда, яростно вращая глазами!
Король засмеялся.
– Нет, я на вас не сержусь.
– Не сердитесь – и ладно.
– А что вы мне дадите, если я докажу вам, что, даже входя сюда, я уже не сердился?
– Посмотрим сначала на ваши доказательства.
– О, это нетрудно, – отозвался король, – доказательство у меня в кармане.
– Вот как? – с любопытством воскликнула королева, садясь в постели. – Вы хотите что-нибудь мне подарить? О, вы в самом деле весьма любезны, но зарубите себе на носу: я не поверю вам, если вы не представите свое доказательство сейчас же. И никаких уверток! Держу пари, что вы лишь пообещаете что-нибудь!
Услышав такое, король, с доброй улыбкой на устах, принялся шарить по карманам с неторопливостью, которая лишь разжигает вожделение, заставляя ребенка нетерпеливо переступать ногами в ожидании игрушки, зверя – лакомства, а женщину – подарка. Наконец он извлек из кармана красный сафьяновый футляр с выдавленным на крышке великолепным золотым узором.
– Драгоценности? – воскликнула королева. – Ну-ка, посмотрим.
Король положил футляр на постель. Королева поспешно схватила его.
Едва открыв футляр, она вскричала в восторге и восхищении:
– О Боже, как это прекрасно! Как прекрасно!
Король почувствовал, как по его сердцу пробежала радостная дрожь.
– Вы находите? – спросил он.
Ответить королева была не в силах, она задыхалась.
Дрожащей рукой она достала из футляра ожерелье из бриллиантов – таких крупных, чистых, искрящихся и так умело подобранных, что ей показалось, будто меж пальцев у нее струится огненный поток.
Ожерелье извивалось, словно змея, вместо чешуек у которой были молнии.
– Великолепно! – обретя наконец дар речи, пролепетала королева. – Великолепно! – повторила она, и глаза ее заблестели: то ли от близости столь чудных бриллиантов, то ли от сознания, что ни у одной в мире женщины нет такого ожерелья.
– Стало быть, вы довольны? – осведомился король.
Я в восторге, государь. Вы меня осчастливили.
– Да полно вам.
– Вы только взгляните на первый ряд: бриллианты в нем с орех.
– В самом деле.
– А как подобраны: один от другого не отличишь! А как умело расположены по величине! В какой удачной пропорции второй отличается размером от первого, третий от второго! Ювелир, выбравший эти бриллианты и сделавший ожерелье, – настоящий художник.
– Их двое.
– Тогда, держу пари, это Бемер и Босанж?
– Угадали.
– Да и то сказать, сделать такое ожерелье могут только они. Как оно прекрасно, государь, как прекрасно!
– Сударыня, – заметил король, – вам придется заплатить за него очень дорого, берегитесь.
– Ах, государь, – прошептала королева.
Лицо ее внезапно помрачнело, голова склонилась на грудь.
Однако это новое выражение появилось у нее на лице столь неожиданно и исчезло столь быстро, что король не успел ничего заметить.
– Доставьте мне удовольствие, – попросил он.
– Какое?
– Позвольте надеть ожерелье вам на шею.
Но королева остановила его.
– Это очень дорого, не так ли? – печально спросила она.
– Еще бы! – с улыбкой ответил король. – Но я же сказал, что вам придется заплатить за него еще дороже, и оно приобретет свою истинную цену только на месте – то есть у вас на шее.
С этими словами король приблизился к королеве, держа ожерелье за концы и собираясь застегнуть его на аграф, тоже сделанный из бриллианта.
– Нет, нет, – возразила королева, – никаких ребячеств. Положите ожерелье обратно в футляр, государь.
И она покачала головой.
– Вы отказываете мне в удовольствии первым увидеть его на вас?
– Господь не простит мне, если я лишу вас этой радости, коль скоро возьму ожерелье, но…
– Но?.. – удивленно переспросил король.
– Но ни вы, ни кто-либо другой, государь, не увидит у меня на шее столь дорогое ожерелье.
– Вы не станете его носить, сударыня?
– Никогда!
– Значит, вы отказываетесь?
– Я отказываюсь повесить себе на шею миллион или даже полтора – ведь, насколько я понимаю, ожерелье стоит миллиона полтора ливров?
– Не отрицаю, – ответил король.
– Я отказываюсь повесить себе на шею полтора миллиона, когда королевская казна пуста, когда король вынужден ограничивать пособия для бедных и говорить им: «Больше денег у меня нет, и да поможет вам Бог!»
– Как! Неужели вы говорите это серьезно?
– Послушайте, государь, господин де Сартин сказал мне как-то, что на полтора миллиона ливров можно построить линейный корабль, а королю Франции линейный корабль гораздо нужнее, чем королеве Франции – ожерелье.
– О! – вне себя от радости воскликнул король, и на глазах у него навернулись слезы. – То, что вы сделали, – возвышенно. Благодарю, благодарю вас!.. Как вы добры, Антуанетта!
И, чтобы достойно завершить свой сердечный и вместе с тем хозяйский порыв, король обнял Марию Антуанетту и крепко поцеловал.
– Как вас будут благословлять во Франции, – воскликнул он, – когда узнают эти ваши слова!
Королева вздохнула.
– Но у вас еще есть время передумать, – живо заметил король. – Вы так горестно вздохнули…
– Нет, государь, это вздох облегчения. Закройте футляр и верните его ювелирам.
– Но я уже договорился об оплате, деньги готовы, что мне теперь с ними делать? Не будьте столь бескорыстной, сударыня.
– Нет, я все хорошо обдумала, государь, мне этого ожерелья решительно не нужно, но мне нужно другое.
– Проклятье! Плакали мои миллион шестьсот тысяч!
– Миллион шестьсот тысяч? Вот оно как! Неужто так дорого?
– Слово вырвалось, сударыня, и я от него не отрекаюсь.
– Успокойтесь: то, о чем я вас прошу, будет стоить гораздо дешевле.
– О чем же вы просите?
– Позвольте мне еще раз съездить в Париж.
– Но это же просто и вовсе не дорого.
– Минутку, минутку.
– Вот черт!
– В Париж, на Вандомскую площадь.
– Проклятье!
– К господину Месмеру.
Король принялся чесать в ухе.
– В конце концов, – проговорил он, – вы отказались от прихоти стоимостью в миллион шестьсот тысяч ливров, поэтому другую прихоть, о которой вы просите, я могу вам позволить. Отправляйтесь к господину Месмеру, но только при одном условии.
– Каком же?
– С вами поедет принцесса крови.
Королева на секунду задумалась.
– Госпожа де Ламбаль вас устроит? – спросила она.
– Пусть будет госпожа де Ламбаль.
– Договорились.
По рукам.
– Благодарю вас.
– А я, – добавил король, – закажу линейный корабль и нареку его «Ожерелье королевы». Вы будете его крестной, сударыня, а потом я пошлю его Лаперузу.
Король поцеловал жене руку и весело вышел из ее покоев.
Едва король ушел, как королева встала и подошла к окну вдохнуть бодрящего и студеного утреннего воздуха.
День обещал быть ясным и полным той прелести, какую придает порой апрельским дням приближение весны: за ночными заморозками последовало нежное, но вполне ощутимое солнечное тепло, за ночь ветер переменил направление с северного на западное.
Если бы так пошло и дальше, страшная зима 1784 года была бы, можно считать, позади.
И действительно, на розовом горизонте уже вставал сероватый туман. Это под действием солнечных лучей земля испаряла влагу.
В садах деревья мало-помалу освобождались от инея; птички уже садились на ветви, усыпанные нежными набухающими почками.
Апрельские цветы – желтые левкои, склонившиеся было под напором стужи, подобно тем бедным цветам, о которых говорит Данте, начали поднимать свои темные головки с подтаявшего снега, а меж листьями фиалки – толстыми, сильными и крупными – из продолговатого бутона этого таинственного цветка уже показались два овальных лепестка, предвестники цветения и аромата.
Со статуй в аллеях, с прутьев решеток кусочки льда соскальзывали юркими алмазами: это была еще не вода, но уже и не лед.
Все говорило о незримой борьбе весны с холодами и предвещало скорое поражение зимы.
– Если мы хотим воспользоваться льдом, – воскликнула королева, увидев, какая стоит погода, – нам следует поспешить. Не правда ли, госпожа де Мизери? – добавила она, отворачиваясь от окна. – Весна близится.
– Ваше величество, вы уже давно собираетесь покататься по Швейцарскому пруду, – ответила первая камеристка.
– Ну так сегодня же и покатаемся, потому что завтра уже может быть поздно, – решила королева.
– К которому часу прикажете готовить туалет для вашего величества?
– Прямо сейчас. Я съем легкий завтрак и выйду.
– Больше приказов не будет, ваше величество?
– Узнайте, встала ли мадемуазель де Таверне, и скажите ей, что я хочу ее видеть.
– Мадемуазель де Таверне уже в будуаре вашего величества, – доложила камеристка.
– Уже? – удивилась королева, знавшая лучше, чем кто бы то ни было, когда легла Андреа.
– Она дожидается уже более двадцати минут, государыня.
– Пусть войдет.
Башенные часы в Мраморном дворе начали бить девять, и с первым их ударом Андреа вошла к королеве.
Тщательно одетая – придворные дамы не имели права появляться перед государыней в неглиже, – мадемуазель де Таверне, хоть и улыбалась, но выглядела несколько озабоченной.
Королева улыбнулась ей в ответ, и Андреа успокоилась.
– Ступайте, милая Мизери, – проговорила королева, – и пришлите ко мне Леонара и моего портного.
Затем, проследив глазами за г-жой де Мизери и убедившись, что дверь за нею закрылась, королева обратилась к Андреа:
– Все в порядке. Король был очарователен, он смеялся, он был обезоружен.
– Но он знает? – спросила Андреа.
– Вы же знаете, Андреа, что женщина не лжет, если ей не в чем себя упрекнуть и тем более если она – королева Франции.
– Это верно, ваше величество, – зардевшись, ответила Андреа.
– И к тому же, милая Андреа, похоже, мы с вами были не правы.
– Не правы, сударыня? – повторила Андреа. – И, быть может, даже во многом?
– Возможно, но вот первое, в чем мы были не правы: мы выслушали жалобы госпожи де Ламотт, а король ее не любит. А мне, признаться, она понравилась.
– Ваше величество слишком хорошо разбирается в людях, чтобы я смела оспаривать ваши суждения.
– Леонар, – объявила появившаяся в дверях г-жа де Мизери.
Королева устроилась перед туалетом из позолоченного серебра, и прославленный парикмахер приступил к своим обязанностям.
У королевы были роскошные волосы, и она любила, чтобы ими восхищались.
Леонар знал это, и вместо того, чтобы тут же приступить к делу, как поступил бы с любой другой женщиной, он дал королеве время самой полюбоваться ими.
В этот день Мария Антуанетта казалась довольной, даже радостной: она была красива. Оторвавшись от зеркала, она ласково взглянула на Андреа.
– Вообще-то вас следовало бы выбранить, – проговорила королева, – вы так независимы, горды и мудры, что внушаете всем вокруг опасения, словно Минерва.
– Я, государыня? – пролепетала Андреа.
– Да, вы, которая наводит уныние на всех придворных вертопрахов. Ах, Господи, какое счастье для вас, что вы девушка и, главное, что можете находить в этом счастье.
Андреа залилась краской и печально улыбнулась.
– Но я ведь дала обет, – пробормотала она.
– И не отступитесь от него, моя милая весталка? – спросила королева.
– Надеюсь.
– Да, кстати, – воскликнула королева, – я кое о чем вспомнила.
– О чем же, ваше величество?
– О том, что, хоть вы и не замужем, но со вчерашнего дня у вас появился повелитель.
– Повелитель, сударыня?
– Нуда, ваш дорогой братец. Как бишь его, Филипп, кажется?
– Да, государыня, Филипп.
– Он приехал?
– Еще вчера, как ваше величество изволили заметить.
– И вы еще с ним не виделись? Ну и эгоистка же я: потащила вас вчера с собою в Париж. Нет, это непростительно.
– О государыня, – улыбнулась Андреа, – я прощаю вам от всего сердца, и Филипп тоже.
– Это точно?
– Ну, разумеется.
– Вы говорите за себя?
– За себя и за него.
– Как он поживает?
– Все такой же красивый и добрый, государыня.
– Сколько ему теперь лет?
– Тридцать два.
– Бедный Филипп! Вам известно, что я знакома с ним уже четырнадцать лет и из них десять мы не виделись?
– Когда ваше величество изволит его принять, он будет счастлив уверить вас, что разлука никоим образом не ослабила чувства почтения и преданности, которые он питает к королеве.
– А могу я увидеть его сейчас?
– Если ваше величество позволит, он через четверть часа будет у ваших ног.
– Конечно, позволяю и даже хочу этого.
Едва королева произнесла последнее слово, как кто-то быстро и с шумом вошел, вернее, ворвался в туалетную и, встав на ковер, принялся разглядывать свое лукавое, смеющееся лицо в том же зеркале, в которое с улыбкой смотрелась Мария Антуанетта.
– Братец дАртуа, – проговорила королева, – как вы меня напугали!
– Добрый день, ваше величество, – поздоровался молодой принц. – Как ваше величество изволили провести ночь?
– Благодарю, братец, скверно.
– А утро?
Прекрасно.
– Это самое главное. Я только что сомневался, что все прошло успешно, поскольку встретил короля, который подарил меня восхитительной улыбкой. Вот что значит доверие!
Королева расхохоталась. Граф дАртуа, не знавший, в чем дело, тоже рассмеялся, но по другой причине.
– Думаю, что я все же очень легкомыслен, – заявил он, – так как не расспросил мадемуазель де Таверне о том, что она намерена сегодня делать.
Королева перевела взгляд на зеркало, благодаря которому могла видеть все, что происходит в комнате.
Леонар как раз закончил работу, и она, скинув пеньюар из индийского муслина, облачилась в утреннее платье. Дверь отворилась.
– Погодите-ка, – обратилась она к графу д'Артуа, – вы хотели справиться насчет Андреа? Пожалуйста.
В будуар вошла Андреа, держа за руку смуглого мужчину с печатью благородства и печали в черных глазах: у него была суровая наружность солдата и умное лицо, напоминающее чем-то портреты кисти Куапеля[31] или Гейнсборо[32].
Филипп де Таверне был одет в темно-серый камзол с серебряной вышивкой, однако серый цвет казался черным, а серебро – сталью: белый галстук и светлое жабо, резко выделяющиеся на темном фоне одежды, а также пудра на волосах подчеркивали мужественные черты Филиппа и его смуглоту.
Он приблизился, не выпуская из одной руки руку сестры, в другой изящно держа шляпу.
– Ваше величество, – сказала Андреа, присев в почтительном реверансе, – вот мой брат.
Филипп отвесил серьезный неторопливый поклон.
Когда он поднял голову, королева все еще гляделась в зеркало. Правда, она видела при этом происходящее не хуже, чем если бы смотрела прямо в лицо Филиппу.
– Добрый день, господин де Таверне, – проговорила королева.
С этими словами она повернулась.
Она сияла тою королевской красотой, которая приводила в смущение друзей монаршей власти и обожателей женщин, толпившихся вокруг ее трона, она была величественно прекрасна и – да простит нам читатель подобную инверсию! – прекрасно величественна.
Увидев, что она улыбается, ощутив на себе ясный взгляд ее гордых и вместе с тем мягких глаз, Филипп побледнел; по всему его облику было видно, что он очень взволнован.
– Кажется, господин де Таверне, – продолжала королева, – вы впервые наносите нам визит. Благодарю.
– Ваше величество изволили забыть, что это я должен благодарить, – ответил Филипп.
– Сколько лет, – сказала королева, – сколько времени прошло с тех пор, как мы с вами виделись в последний раз, – лучшего времени жизни, увы!
– Для меня – да, сударыня, но не для вашего величества: для вас все дни прекрасны.
– Значит, вам так понравилась Америка, господин де Таверне, что вы предпочли остаться там, когда все вернулись?
– Сударыня, – ответил Филипп, – господину де Лафайету, когда он покидал Новый Свет, понадобился надежный офицер, на которого он мог бы возложить командование вспомогательными войсками. Господин де Лафайет предложил мою кандидатуру генералу Вашингтону, и тот изволил назначить меня на эту должность.
– Кажется, – продолжала королева, – из Нового Света, о котором вы говорите, мы вернулись героями?
– Ваше величество, разумеется, имели в виду не меня, – улыбнувшись, ответил Филипп.
– А почему бы и нет? – осведомилась королева и, повернувшись к графу д'Артуа, заметила: – Взгляните-ка, братец, какой бравый и воинственный вид у господина де Таверне.
Филипп, увидев, что ему дают случай представиться графу д'Артуа, с которым он не был знаком, шагнул вперед, испрашивая тем самым у принца позволения поздороваться с ним.
Граф сделал знак рукой, и Филипп поклонился.
– Какой прекрасный офицер и благородный дворянин! – воскликнул молодой принц. – Счастлив с вами познакомиться. Что вы намереваетесь делать во Франции?
Филипп взглянул на сестру и проговорил:
– Ваше высочество, интересы моей сестры для меня выше моих собственных: что она захочет, то я и стану делать.
– Но есть ведь еще, если не ошибаюсь, и господин де Таверне-отец? – спросил принц.
– Да, ваше высочество, наш отец, к счастью, еще жив, – ответил Филипп.
– Но это неважно, – с живостью вмешалась королева. – Предпочитаю, чтобы Андреа была под покровительством брата, а он – под вашим, граф. Вы ведь возьмете господина де Таверне под свое крыло, не так ли?
Граф д'Артуа в знак согласия кивнул.
– Знаете, граф, – продолжала королева, – нас с ним связывают весьма тесные узы.
– Весьма тесные узы, сестрица? О, расскажите, прошу вас.
– Господин де Таверне был первым французом, которого я увидела по прибытии во Францию, а я искренне обещала себе сделать счастливым первого француза, которого встречу.
Филипп почувствовал, как лицо его заливается краской. Он кусал губы, чтобы оставаться невозмутимым.
Андреа взглянула на него и опустила голову.
Марию Антуанетту удивил взгляд, которым обменялись брат с сестрою, но откуда ей было догадаться, сколько скрытого горя таилось в этом взгляде!
Мария Антуанетта ничего не знала о событиях, которые были предметом первой части этой истории.
Явную печаль, которую королева заметила во взгляде Филиппа, она приписала иной причине. В 1774 году в дофину влюбилось столько людей, что почему бы и г-ну де Таверне было не подвергнуться этому охватившему французов поветрию страсти к дочери Марии Терезии?
Никаких причин считать подобное предположение невероятным не было, это подтверждало и зеркало, отразившее прекрасную королеву и супругу, бывшую когда-то очаровательной девушкой.
Поэтому Мария Антуанетта и отнесла вздох Филиппа на счет какого-нибудь признания в этом роде, сделанного братом сестре. Королева улыбнулась брату и обласкала сестру самым любезным взглядом: она не вполне догадалась обо всем, но и не совсем ошиблась, а в подобном невинном кокетстве нет вреда. Королева всегда оставалась женщиной и гордилась тем, что вызывала любовь. Некоторые люди всегда стремятся завоевать симпатии окружающих, причем это не самые лишенные благородства люди на свете.
Но увы! Придет миг, бедная королева, когда эту улыбку, за которую тебя упрекают те, кто любит, ты будешь вотще слать тем, кто тебя разлюбит.
Пока королева советовалась с Андреа относительно отделки охотничьего наряда, граф д'Артуа подошел к Филиппу.
– А что, – полюбопытствовал он, – господин Вашингтон и вправду дельный генерал?
– Это великий человек, ваше высочество.
– А как там показали себя французы?
– Так, что англичанам пришлось несладко.
– Ну, ладно. Вы поборник новых идей, мой дорогой господин Филипп де Таверне, но скажите, приходилось ли вам задумываться над одной вещью?
– Какой, ваше высочество? Должен признаться, что там, на траве военных лагерей, среди саванн и на берегах Великих озер, у меня было время поразмыслить много над чем.
– Задумывались ли вы над тем, что, ведя в Америке войну, вы вели ее не против индейцев или англичан?
– Тогда против кого же, ваше высочество?
– Против самих себя.
– Да, ваше высочество, не стану лгать, это вполне вероятно.
– Так вы признаете?..
– Я признаю, что у события, благодаря которому была спасена монархия, могут быть скверные последствия.
– Да, и притом смертельные для тех, кто по счастливой случайности уцелел.
– Совершенно верно, ваше высочество.
– Потому-то я, не в пример прочим, полагаю, что победы господина Вашингтона и маркиза де Лафайета не такая уж удача. Я утверждаю это из эгоизма, но – уж поверьте! – не только из собственного эгоизма.
– Понимаю, ваше высочество.
– А знаете, почему я стану поддерживать вас изо всех сил?
– Какова бы ни была причина этого, я чрезвычайно признателен вашему королевскому высочеству.
– А потому, дорогой мой господин де Таверне, что вы не из тех, кому трубят славу на каждом перекрестке, вы честно несли свою службу, но фанфары вас не привлекают. В Париже вас не знают, поэтому я вас и люблю, но только… ах, господин де Таверне, но только я эгоист, понимаете ли.
Принц с улыбкой поцеловал королеве руку, поклонился Андреа приветливо и с большим почтением, нежели обычно кланялся дамам, отворил дверь и исчез.
Королева, резко прервав разговор, который вела с Андреа, повернулась к Филиппу и спросила:
– Вы уже виделись с отцом, сударь?
– Идя сюда, я встретился с ним у вас в прихожей – сестра предупредила его.
– Но почему же вы не повидались с ним раньше?
– Я послал к нему своего слугу, сударыня, с моими скудными пожитками, но господин де Таверне отправил мальчишку назад и передал через него, чтобы я сначала явился к королю или к вашему величеству.
– И вы послушались?
– С радостью, государыня: таким образом я смог обнять сестру.
– Какая чудная погода! – вдруг радостно вскричала королева. – Госпожа де Мизери, завтра лед растает, велите сейчас же закладывать сани.
Первая камеристка вышла, чтобы сделать необходимые распоряжения.
– И мой шоколад сюда! – крикнула ей вдогонку королева.
– Ваше величество не будут завтракать? – спросила г-жа де Мизери. – Ох, а вчера ваше величество не поужинали.
– Вот тут вы ошибаетесь, моя дорогая Мизери, вчера мы отужинали, спросите у мадемуазель де Таверне.
– И превосходно, – подтвердила Андреа.
– Но это не помешает мне выпить шоколад, – добавила королева. – Скорее, скорее, милая Мизери, я хочу на солнце: на Швейцарском пруду должно быть много народу.
– Ваше величество решили покататься на коньках? – спросил Филипп.
– Ах, вы будете смеяться над нами, господин американец, – воскликнула королева. – Вы же преодолевали громадные озера, в которых больше лье, чем в нашем пруду шагов.
– Сударыня, – отозвался Филипп, – здесь холод и расстояния вас забавляют, а там они убивают.
– А, вот и шоколад. Андреа, возьмите чашечку тоже.
Андреа зарделась от удовольствия и поклонилась.
– Вот видите, господин де Таверне, я все та же, этикет внушает мне такой же ужас, как и прежде. А вы, господин Филипп, изменились с тех пор?
Эти слова проникли в самое сердце молодого человека: своими сожалениями женщины часто ранят, словно кинжалом, тех, кому они небезразличны.
– Нет, государыня, – отрывисто ответил он, – я не изменился, по крайней мере в душе.
– Ну, раз душа у вас осталась та же, – игриво сказала королева, – а была она доброй, мы вознаградим вас за это по-своему. Госпожа де Мизери, чашку для господина де Таверне.
– О ваше величество, – взволнованно воскликнул Филипп, – это такая честь для бедного безвестного солдата вроде меня…
– Вы – старый друг, и все тут, – ответила королева. – Сегодня в голову мне ударили все ароматы юности, сегодня я свободна, счастлива, горда и сумасбродна!.. Сегодняшний день напомнил о моих первых проделках в милом Трианоне, о наших с Андреа шалостях. Ах, мои розы, земляника, вербена, мои птицы, которых я старалась запомнить, гуляя по саду, мои милые садовники, чьи добрые лица всегда означали появление нового цветка или вкусного плода, господин де Жюсье и этот оригинал Руссо, которого уже нет в живых! Сегодня… Говорю вам, сегодняшний день сводит меня с ума! Но что с вами, Андреа, почему вы так покраснели? А что с вами, господин Филипп, вы так бледны?
На лицах брата и сестры и в самом деле отразилась боль, причиненная жестокими воспоминаниями.
Однако с первыми же словами королевы они призвали на помощь все свое мужество.
– Я обожгла себе нёбо, – ответила Андреа, – простите меня, государыня.
– А я, государыня, – объяснил Филипп, – никакие могу привыкнуть к мысли, что ваше величество оказали мне честь, словно знатному сеньору.
– Ну полно, полно, – перебила Мария Антуанетта, сама наливая шоколад в чашку Филиппа, – вы же солдат, и, следовательно, к огню вам не привыкать. Проявите поэтому доблесть и обжигайтесь шоколадом, мне ждать некогда.
И королева расхохоталась. Однако Филипп воспринял все совершенно серьезно, словно деревенский житель, с тою лишь разницей, что он сделал из героизма то, что тот сделал бы от смущения.
Это не укрылось от взгляда королевы, и она захохотала пуще прежнего.
– У вас замечательный характер, – заметила она.
С этими словами королева встала.
Горничные тут же подали ей премилую шляпку, горностаевую накидку и перчатки.
Столь же проворно был завершен и туалет Андреа.
Филипп взял шляпу под мышку и последовал за дамами.
– Господин де Таверне, я не хочу, чтобы вы уходили, – заявила королева, – и из политических соображений намерена похитить вас, нашего американца. Станьте с правой стороны, господин де Таверне.
Филипп послушно сделал то, что ему велели. Андреа заняла место слева от королевы.
Когда они стали спускаться по главной лестнице, когда барабаны загремели поход, когда звуки рожков королевского конвоя и стук берущегося на караул оружия прокатились по дворцу вплоть до вестибюлей, вся эта королевская пышность, это всеобщее почтение и преклонение, которое встречало королеву, а заодно и Таверне, короче, весь этот триумф закружил голову и без того смущенного Филиппа.
Пот, как при лихорадке, выступил у него на лбу, шаг молодого человека стал нетвердым. И если бы не ледяной вихрь, остудивший его глаза и губы, он, несомненно, потерял бы сознание.
Для гордого сердца Филиппа, проведшего столько мрачных и печальных дней в изгнании, такой возврат к радостям жизни был слишком внезапным.
Когда королева, блистая красотой, проходила по залам, а перед нею склонялись головы и поднималось вверх оружие, среди придворных можно было заметить невысокого старичка, который был столь озабочен, что позабыл об этикете.
Он стоял с высоко поднятой головой, устремив взор на королеву и Таверне, вместо того чтобы согнуться в поклоне и опустить глаза.
Королева скрылась, и старичок, нарушив стройную шеренгу придворных, пробился вперед и побежал настолько быстро, насколько позволяли ему затянутые в белые лосины ножки семидесятилетнего человека.
Кто не знает этот прямоугольный водоем, сине-зеленый и переливчатый летом, белый и неровный зимой, который до сих пор носит название Швейцарского пруда?
Аллеи, обсаженные липами, которые радостно протягивают солнцу свои коричневатые ветви, окаймляют берега пруда; в аллеях этих полно гуляющих всех возрастов и рангов, пришедших полюбоваться на сани и конькобежцев.
Туалеты дам представляют собою пеструю смесь несколько церемонной роскоши старого двора и несколько прихотливой непринужденности новой моды.
Высокие прически, накидки, оттеняющие молодые лица, матерчатые в большинстве своем шапочки, меховые плащи и шелковые платья с громадными воланами причудливо сочетаются с красными камзолами, небесно-голубыми рединготами, желтыми ливреями и длинными белыми сюртуками.
Синие и красные ливреи лакеев просвечивают сквозь эту толпу, словно васильки и маки на волнующемся поле ржи или клевера.
Порою в толпе раздаются восхищенные возгласы. Это отчаянный конькобежец Сен-Жорж выписал столь безукоризненный круг, что никакой геометр не нашел бы в нем заметного изъяна.
Если берега пруда сплошь усеяны зрителями, не ощущающими холода в толпе, и выглядят издали, как разноцветный ковер, над которым в морозном воздухе клубится пар от дыхания множества людей, то сам пруд, похожий на толстое ледяное зеркало, выглядит более разнообразно и живо.
Там, по льду, летят сани, запряженные тремя здоровенными собаками на манер русской тройки.
Псы, одетые в бархатные попоны с гербами и с развевающимися плюмажами на головах, напоминают чудовищных животных, сошедших с бесовских фантазий Калло[33] или колдовских наваждений Гойи.
Их кучер, г-н де Лозен, непринужденно свесившись набок с саней, устланных тигровой шкурой, пытается отдышаться, но тщетно: ветер бьет ему прямо в лицо.
Тут и там видны неторопливо едущие сани – они ищут уединения. Дама в маске, которую она надела явно для того, чтобы предохранить себя от стужи, садится в одни из таких саней, а красивый конькобежец в широком бархатном плаще с петлицами, отороченными золотом, нагнулся к задку саней и толкает их, стараясь разогнать побыстрее.
Дама в маске и конькобежец в бархатном плаще обмениваются чуть слышными словами, но кто станет осуждать их за это тайное свидание под сводом небес, на виду у всего Версаля?
Другие не слышат, что они говорят, но это и не важно – главное, они их видят, а тем двоим не важно, что их видят, – главное, их никто не слышит. Несомненно, они живут среди всех этих людей своею жизнью, проносятся сквозь толпу, словно две перелетные птицы. Куда спешат они? В тот неведомый мир, который пытается найти любой, называя его счастьем.
Внезапно среди скользящих по льду сильфов возникает движение, поднимается суматоха.
Это на берегу Швейцарского пруда появилась королева, и каждый, узнав ее, готовится уступить ей место, но она показывает рукой, чтобы все продолжали развлекаться.
Раздается крик: «Да здравствует королева!» – и конькобежцы, и сани, словно повинуясь единому порыву, окружают место, где остановилась августейшая особа.
К ней приковано всеобщее внимание.
Мужчины с помощью хитроумных маневров начинают приближаться к королеве, женщины почтительно и скромно оправляют свои наряды, и всякий старается затесаться в кучку дворян и офицеров высоких рангов, которые подходят приветствовать ее величество.
Но один из участников этого представления выделяется своим странным поведением: вместо того чтобы подойти к королеве, он, узнав ее туалет и окружение, оставляет сани и бросается в поперечную аллею, где и исчезает вместе со своей свитой.
Граф д'Артуа, относящийся к числу самых изящных и искусных конькобежцев, в числе первых преодолел расстояние, отделявшее его от невестки, и, наклонившись, чтобы поцеловать ей руку, негромко заметил:
– Видите, как мой братец, граф Прованский, вас избегает?
С этими словами он указал на его королевское высочество, который быстрыми шагами огибал пруд, направляясь к своей карете.
– Он не желает выслушивать мои упреки, – ответила королева.
– О, что касается упреков, то они должны относиться, скорее, ко мне. Он боится вас вовсе не из-за них.
– Ну, значит, ему совестно, – весело предположила королева.
– Дело и не в этом, сестрица.
– Так в чем же?
– Сейчас объясню. Он только что узнал, что сегодня вечером приезжает славный победитель господин де Сюфрен[34], и желает, чтобы вы оставались в неведении относительно столь важной новости.
Королева огляделась и заметила несколько любопытствующих, чье почтение к ней не простиралось настолько, чтобы заставить их отойти за пределы слышимости.
– Господин де Таверне, – попросила она, – будьте так любезны, займитесь моими санками, прошу вас. И если ваш отец здесь, обнимите его, я отпускаю вас на четверть часа.
Молодой человек поклонился и начал пробиваться сквозь толпу, чтобы выполнить распоряжение королевы.
Толпа тоже все поняла – порою она обладает превосходным инстинктом – и отступила назад, так что королева и граф д'Артуа смогли говорить свободнее.
– Братец, объясните мне, – попросила королева, – какая графу Прованскому польза от того, что я не буду знать о приезде господина де Сюфрена?
– О сестрица, возможно ли, чтобы вы, женщина, королева и его враг, не разгадали бы тотчас же этого коварного политического хода? Господин де Сюфрен приезжает, но никому при дворе об этом не известно. Господин де Сюфрен – герой индийских морей и имеет поэтому право на пышный прием в Версале. Итак, господин де Сюфрен приезжает; король об этом не знает и по неведению, а следственно, невольно ничего не предпринимает; вы, сестрица, – тоже. Граф же Прованский, зная о его прибытии, принимает мореплавателя, улыбается ему, обласкивает его, сочиняет для него четверостишия и таким образом, вертясь вокруг героя Индии, становится героем Франции.
– Теперь ясно, – проговорила королева.
– Еще бы, черт возьми! – заметил граф.
– Вы забыли лишь об одном, мой милый сплетник.
– О чем же?
– Откуда вы узнали о столь тонких планах нашего брата и деверя?
– Откуда, откуда – да оттуда, откуда я узнаю обо всем. Это просто: заметив, что граф Прованский старается вызнать все, что я делаю, я стал платить людям, чтобы они сообщали мне обо всем, что делает он. Это небесполезно и для меня, и для вас, сестрица.
– Благодарю за союзничество, братец, но что же король?
– Он предупрежден.
– Вами?
– Отнюдь: морским министром, которого я к нему послал. Вы же понимаете, что все это меня не касается: я слишком вздорен, распутен и глуп, чтобы заниматься столь важными материями.
– А морской министр тоже не знал о прибытии господина де Сюфрена во Францию?
– Господи, сестрица, будучи четырнадцать лет дофиной, а потом королевой Франции, вы должны были узнать министров достаточно хорошо, чтобы понять: эти господа всегда не в курсе самых важных событий. Я предупредил его, и он в восторге.
– Я думаю!
– Вы же понимаете, милая сестрица, что теперь этот человек будет признателен мне всю жизнь, а в его признательности я очень нуждаюсь.
– Почему?
– Чтобы он дал мне в долг.
– Вечно он все испортит! – рассмеялась королева.
– Сестрица, – с серьезным видом сказал граф д'Артуа, – вам скоро понадобятся деньги, слово сына короля Франции! Я готов отдать вам половину суммы, которую добуду.
– Ох, братец, осторожней! – воскликнула Мария Антуанетта. – Сейчас я ни в чем не нуждаюсь.
– Проклятье! Лучше не тяните с согласием на мое предложение.
– Почему же?
– Потому что, если вы будете медлить, я не смогу сдержать обещание.
– Что ж, в таком случае я тоже постараюсь вызнать какую-нибудь государственную тайну.
– Смотрите, сестрица, вы замерзли, у вас щеки побелели, – предупредил принц.
– А вот и господин де Таверне с моими санками.
– Так я вам больше не нужен, сестрица?
Нет.
– В таком случае прогоните меня, прошу вас.
– Зачем? Уж не думаете ли вы, что чем-нибудь меня стесняете?
– О нет, напротив, это мне нужна свобода.
– Тогда прощайте.
– До свидания, милая сестрица.
– Когда?
– Сегодня вечером.
– А что намечается на вечер?
– Пока ничего, но будет намечено.
– А что будет намечено?
– На королевскую игру соберется весь свет.
– Это почему же?
– Потому что сегодня вечером министр приведет господина де Сюфрена.
– Прекрасно, значит, до вечера.
Молодой принц откланялся со свойственной ему милой учтивостью и скрылся в толпе.
Когда Филипп де Таверне отошел от королевы и занялся ее санями, его отец не спускал с него глаз.
Но вскоре его настороженный взгляд вернулся к королеве. Оживленная беседа Марии Антуанетты с деверем вселяла в него известное беспокойство, так как нарушила ее непринужденный разговор с его сыном.
Поэтому, когда Филипп, закончив готовить сани к отъезду и желая выполнить наказ королевы, подошел к отцу, которого не видел десять лет, чтобы его обнять, старик лишь дружески махнул ему рукой и проговорил:
– Потом, потом. Когда королева тебя отпустит, тогда и поговорим.
Филипп ушел, и барон с удовольствием увидел, что граф д'Артуа откланивается.
Королева села в сани, посадила рядом с собою Андреа, но, завидя двух рослых гайдуков, приготовившихся толкать ледовый экипаж, сказала:
– Нет, нет, так я не хочу. Вы умеете кататься на коньках, господин де Таверне?
– Умел когда-то, государыня, – ответил Филипп.
– Дайте кавалеру коньки, – приказала королева и, повернувшись к нему, добавила: – Не знаю почему, но мне кажется, что вы катаетесь не хуже Сен-Жоржа.
– В свое время, – заметила Андреа, – Филипп катался весьма недурно.
– А теперь не имеете соперников, не так ли, господин де Таверне?
– Коль скоро ваше величество так в меня верит, я буду стараться изо всех сил.
Когда Филипп произносил эти слова, у него на ногах уже были остро наточенные коньки.
Он встал за санями, толкнул их одной рукой, и катание началось.
Спектакль был действительно достоин внимания.
Сен-Жорж, король гимнастов, изящный мулат, бывший в ту пору в большой моде, человек, не имевший равных во всем, что касалось физических упражнений, угадал соперника в молодом человеке, который осмелился проехать по льду мимо него.
Он тут же принялся раскатывать вокруг королевских санок с такими почтительными и полными очарования поклонами, что ни один придворный не смог бы выглядеть столь же обворожительно даже на версальском паркете. Он описывал вокруг саней быстрые безукоризненные круги, один за другим, так что поворачивал всякий раз прямо перед санями; после этого они его обгоняли, но он делал очередной мощный толчок и по плавной дуге наверстывал упущенное расстояние.
Повторить подобный маневр был никто не в силах, все следили за Сен-Жоржем, не скрывая восхищения и даже изумления.
Однако Филипп не удержался и отважно вступил в предложенную ему игру: он так разогнал сани, что Сен-Жорж дважды завершил свой круг не впереди, а позади них. Сани мчались с такой быстротой, что послышались крики испуга, и Филипп обратился к королеве:
– Если ваше величество желает, я остановлюсь или хотя бы поеду медленнее.
– Нет, нет! – воскликнула королева с той пылкостью, которую вкладывала как в работу, так и в развлечения. – Мне не страшно, можете еще быстрее, если угодно.
– О, тем лучше, благодарю за позволение, государыня. Я держу вас крепко, положитесь на меня.
И он вновь схватившись сильной рукой за спинку саней, толкнул их столь мощно, что они задрожали.
Казалось, он вот-вот поднимет сани на вытянутой руке. Но тут Филипп пустил в ход вторую руку, что считал до этого излишним, и в его стальной хватке сани стали походить на детскую игрушку.
Теперь он пересекал каждый круг Сен-Жоржа еще более широким кругом. Сани двигались, словно ловкий человек круто поворачивая то туда, то сюда, как будто были поставлены на такие же коньки, какими Сен-Жорж бороздил лед. Несмотря на большой вес и размеры, сани королевы скользили на полозьях, как живые, они летали и кружились не хуже заправского танцора.
Сен-Жорж, выписывавший свои кривые более изящно и точно, вскоре забеспокоился. Он катался уже почти час: Филипп заметив, что соперник весь покрыт испариной и ноги у него начинают дрожать, решил победить Сен-Жоржа за счет своей выносливости.
Он сменил тактику: отказавшись от поворотов, заставлявших его всякий раз приподнимать сани, он изо всех сил пустил их по прямой.
Сани полетели стрелою.
Сен-Жорж одним размашистым шагом уже почти настиг его, однако Филипп улучил миг и, оттолкнувшись несколько раз подряд, послал сани по еще нетронутому льду с такой стремительностью, что соперник остался позади.
Сен-Жорж бросился догонять, но Филипп, искусно скользя на носках коньков, собрал все силы, поистине геркулесовым рывком развернул сани и покатил в обратном направлении, тогда как Сен-Жорж, которому не удалось повторить сей неожиданный маневр, проехал по инерции дальше и остался далеко позади.
Возгласы всеобщего одобрения заставили Филиппа покраснеть от смущения.
Однако к его удивлению, королева, похлопав в ладоши, повернулась к нему и, задыхаясь от восторга, воскликнула:
– Победа господин де Таверне, победа уже ваша! Теперь помилосердствуйте, а то вы меня убьете!
Услышав этот приказ или, вернее, просьбу королевы, Филипп напряг мускулы ног, и сани резко встали, словно арабский скакун в песках пустыни.
– А теперь отдохните, – сказала королева, на дрожащих ногах вылезая из саней. – Никогда бы не поверила, что можно так захмелеть от скорости, я чуть не сошла с ума.
Не в силах сдержать трепета, она оперлась на руку Филиппа. Удивленный ропот, донесшийся со стороны раззолоченной пестрой толпы, дал ей понять, что она вновь погрешила против этикета; в глазах завистников и рабов прегрешение это было огромным.
Что же до Филиппа, то он, потрясенный столь неслыханной честью, испытывал больший трепет и стыд, чем если бы государыня выбранила его при всем народе.
Он опустил глаза, сердце его, казалось, вот-вот вырвется из груди.
Сильное волнение – из-за быстрой езды, разумеется, – овладело и королевой. Она тут же отдернула руку, оперлась о плечо мадемуазель де Таверне и заявила, что хочет сесть.
Ей подали складной стул.
– Извините меня, господин де Таверне, – обратилась она к Филиппу, после чего порывисто воскликнула: – Господи, какое несчастье постоянно находиться среди любопытных… и дураков, – добавила она совсем тихо.
Дворяне и придворные дамы, окружив королеву, пожирали глазами Филиппа, который, чтобы скрыть смущение, принялся отвязывать коньки.
Сняв их, он отошел в сторону и уступил место придворным. Королева несколько минут сидела задумавшись, потом подняла голову и проговорила:
– Нет, если сидеть без движения, недолго и замерзнуть. Нужно покататься еще.
С этими словами она снова села в сани.
Филипп ждал приказа, но тщетно.
Тогда к саням подскочили десятка два дворян.
– Нет, господа, благодарю вас. Меня повезут гайдуки.
Когда слуга заняли свои места, королева приказала:
– Потихоньку, только потихоньку.
И, закрыв глаза, отдалась своим мыслям.
Сани неспешно удалились, сопровождаемые толпой алчущих, любопытных и завистников.
Оставшись один, Филипп утер пот со лба.
Он принялся искать взглядом Сен-Жоржа, чтобы утешить его каким-нибудь искренним комплиментом.
Но тот, получив записку от герцога Орлеанского, своего покровителя, покинул поле битвы.
Слегка опечаленный, усталый и несколько напуганный происшедшим, Филипп стоял и провожал взглядом удаляющиеся сани, но вдруг почувствовал, что кто-то тронул его за рукав.
Он обернулся и увидел отца.
Маленький старичок, весь сморщенный, словно персонаж Гофмана, и закутанный в меха, словно самоед, толкнул сына локтем, чтобы не вынимать рук из муфты, которая висела у него на шее.
Взгляд его, блестевший то ли от холода, то ли от радости, показался Филиппу горящим.
– Не хотите ли обнять меня, сын мой? – осведомился он.
Старик произнес эти слова тоном, каким отец греческого атлета мог бы поблагодарить сына за одержанную на арене победу.
– От всего сердца, дорогой отец! – ответил Филипп.
Однако было слышно, что выражение, с каким были сказаны эти слова, никак не соответствует их содержанию.
– Но полно, полно. А теперь, когда мы обнялись, пойдемте, и поскорее.
И старичок поспешил вперед.
– Куда вы меня ведете, сударь? – спросил Филипп.
– Туда – куда ж еще, черт возьми!
– Туда?
– Нуда, поближе к королеве.
– О нет, отец, благодарю вас.
– Как это нет? Что значит благодарю? Вы с ума сошли? Видали его – он не хочет подойти к королеве!
– Нет-нет, это невозможно, и не помышляйте об этом, дорогой отец.
– Что значит невозможно? Невозможно подойти к королеве, которая вас ждет?
– Меня? Ждет?
– Ну разумеется, ждет и даже жаждет.
– Королева меня жаждет?
И молодой человек пристально посмотрел на барона.
– Ей-богу, отец, мне кажется, вы забываетесь, – холодно проговорил он.
– Удивительный человек, честное слово! – воскликнул старик, выпрямившись и топнув ногою. – Ну вот что, Филипп, доставьте мне удовольствие и напомните, откуда вы приехали.
– Сударь, – печально ответил Филипп, – одного я никак не возьму в толк, и это меня весьма тревожит.
– Что?
– То ли вы смеетесь надо мною, то ли…
– Толи?..
– То ли, простите, сходите с ума.
Старик схватил сына за руку столь резко и сильно, что тот поморщился от боли.
– Послушайте, господин Филипп, – проговорил старик. – Америка очень далеко от Франции, это мне известно…
– Да, отец, очень далеко, – подтвердил Филипп. – Но я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Объясните, прошу вас.
– Это страна, где нет ни короля, ни королевы.
– Ни подданных.
– Очень хорошо: ни подданных, господин философ. Я этого не отрицаю, но этот вопрос меня не интересует, он мне совершенно безразличен. Но мне не безразлично, меня беспокоит и даже унижает кое-что, чего я тоже никак не возьму в толк.
– Что же это, отец? Как бы там ни было, я полагаю, что мы с вами толкуем о разных вещах.
– Я никак не пойму, глупец вы или нет, сын мой. Для такого молодца, как вы, это совершенно непозволительно. Взгляните, да взгляните же вон туда!
– Смотрю, сударь.
– Видите? Королева обернулась – и это уже в третий раз. Да, сударь, королева обернулась три – нет, постойте! – уже четыре раза. Кого она ищет, как вы думаете, господин глупец, господин пуританин, господин из Америки?
И старичок закусил, но не зубами, а деснами, серую замшевую перчатку, которая сидела у него на руке как влитая.
– Сударь, даже если она кого-то ищет, что само по себе сомнительно, что дает вам право утверждать, будто она ищет меня?
– Господи! – воскликнул старик и снова топнул ногой. – Он говорит: «Даже если»! Да в этом человеке нет ни капли моей крови, никакой он не Таверне!
– У меня действительно не ваша кровь, – согласился Филипп и, возведя глаза к небу, шепотом добавил: – И слава Богу.
– Сударь, – не унимался старик, – говорю вам: королеве нужны вы, королева ищет вас.
– У вас неплохое зрение, отец, – сухо парировал Филипп.
– Послушай, – начал старик уже мягче, пытаясь сдержать раздражение. – Послушай, позволь, я тебе все объясню. Я понимаю, у тебя есть свои причины, зато у меня есть опыт. Скажи, милый мой Филипп, мужчина ты или нет?
Филипп молча пожал плечами.
Поняв, что ответа ему не дождаться, старик скорее из чувства презрения, чем по необходимости, решил взглянуть сыну в глаза и увидел полную достоинства, непроницаемую сдержанность и необоримую волю, так, увы, ярко горевшие в них.
Подавив в себе неудовольствие, барон ласково провел муфтой по красному кончику своего носа и сладко, словно Орфей на Фессалийских скалах, пропел:
– Филипп, друг мой, ну послушай же меня.
– Последние четверть часа я, кажется, только это и делаю, – ответил молодой человек.
«О, – подумал старик, – я свалю тебя с высоты твоего величия, господин американец. И у тебя есть слабая сторона, колосс, дай только мне вцепиться в нее моими старыми когтями, и ты увидишь».
После этого он спросил:
– Неужели ты ничего не заметил?
– А что я должен был заметить?
– Ну раз не заметил, это делает честь твоей наивности.
– Да говорите же, сударь.
– Все очень просто. Ты вернулся из Америки, куда уехал в то время, когда здесь был один король и ни одной королевы, если не считать таковой госпожу Дюбарри, не очень-то достойную этого титула. Теперь ты возвратился, увидел королеву и считаешь, что ее нужно чтить.
– Естественно.
– Бедное дитя! – заметил старик, пытаясь с помощью муфты скрыть душивший его смех.
– Как! – удивился Филипп. – Вы, сударь, недовольны тем, что я чту королевскую власть, – это вы-то, Таверне де Мезон-Руж, один из знатнейших дворян Франции?
– Погоди, я говорю не о королевской власти, а о королеве.
– Но разве тут есть разница?
– Проклятье! Что такое королевская власть, милый мой? Это корона, и прикасаться к ней нельзя, черт возьми! А что такое королева? Это женщина. А женщина – это совсем другое дело, к ней можно и прикоснуться.
– Прикоснуться? – побагровев от гнева и негодования, воскликнул Филипп и сделал столь величественный жест, что у любой женщины он вызвал бы приязнь, а у любой королевы – даже восхищение.
– Ты так не считаешь? – с бесстыдной улыбкой свирепо прошипел барон. – Что ж, полюбопытствуй у господина де Куаньи, или у господина де Лозена, или у господина де Водрейля[35].
– Замолчите! Замолчите, отец! – глухо отозвался Филипп. – Я не могу трижды проткнуть вас шпагой за это тройное кощунство, но, клянусь вам, я проткну себя, немедленно и безжалостно.
Таверне отступил назад, сделал пируэт, какие любил выделывать тридцатилетний Ришелье, и, помахав в воздухе муфтой, проговорил:
– Ну и глуп же этот парень! Рысак оказался ослом, орел – гусем, петух – каплуном. Спокойной ночи, ты меня порадовал. Я-то думал, что по старости могу претендовать лишь на роль Кассандра, а я, оказывается, Валер, Адонис, Аполлон[36].
И старик снова крутанулся на каблуках. Филипп помрачнел и остановил отца на середине пируэта.
– Вы сказали все это в шутку, не правда ли, отец? – заговорил он. – Ведь столь благородный дворянин, как вы, не станет распространять клевету, измышленную врагами не только о женщине и о королеве, но и о самой королевской власти.
– Он еще сомневается! Вот тупица! – вскричал барон.
– Стало быть, вы сказали бы это и перед лицом Господа?
– Так оно и есть.
– Господа, к которому вас приближает каждый прожитый день?
Филипп продолжил разговор, только что прерванный им самим с таким презрением, – со стороны барона это был успех, и старик подошел к сыну.
– Мне кажется, – заметил он, – что я еще хоть немного, но дворянин, сударь, и поэтому не лгу… иногда.
Это «иногда» было смехотворно, но Филипп не засмеялся.
– Значит, вы полагаете, у королевы есть любовники? – осведомился он.
– Это не новость.
– Те, кого вы назвали?
– Есть и другие. Откуда мне знать? Расспросите в городе и при дворе. Нужно вернуться из Америки, чтобы не знать, о чем все говорят.
– Кто говорит? Гнусные памфлетисты?
– Не причисляете ли вы и меня, случаем, к газетчикам?
– Нет, и очень плохо, что такие люди, как вы, повторяют подобные низости, которые без этого сами растаяли бы без следа, словно ядовитые испарения, затмевающие порою яркое солнце. А вы и вам подобные, повторяя клевету, продлеваете срок ее жизни. О, сударь, будьте же благочестивы, не повторяйте подобные мерзости!
– И тем не менее я стою на своем.
– Но почему же? – топнув ногой, вскричал молодой человек.
– Да потому, – отвечал старик, схватив сына за руку и глядя ему в лицо с демонической усмешкой, – что хочу доказать тебе, что я был прав, когда говорил: «Филипп, королева оборачивается, Филипп, королева ищет, Филипп, королева жаждет, беги же, Филипп, королева ждет!»
– Силы небесные! – закрыв лицо руками, вскричал Филипп, – замолчите, отец, вы сводите меня с ума!
– Ей-богу, Филипп, я тебя не понимаю, – отозвался старик. – Разве любить – это преступление? Это просто-напросто значит иметь сердце, а разве в глазах этой женщины, в ее голосе, в ее поведении не чувствуется, какое у нее сердце? Говорю тебе, она любит, любит, но ведь ты – философ, пуританин, квакер, ты – человек из Америки и никого не любишь. Что ж, пусть она смотрит, оборачивается, ждет; оскорбляй же ее, презирай, отталкивай, Филипп, то есть Иосиф де Таверне![37]
С убийственной иронией произнеся эти слова и видя произведенный ими эффект, старик счел за нужное удалиться, словно искуситель, впервые намекнувший человеку на возможность совершить преступление.
Филипп остался один. Сердце его сжималось, в голове царил сумбур. Он даже не заметил, что уже полчаса не двигается с места и что королева, сделав круг по льду пруда, вернулась, смотрит на него и кричит, окруженная кортежем:
– Вы хорошо отдохнули, господин де Таверне? Идите же сюда, только вы умеете катать королеву по-королевски. Посторонитесь, господа.
Ничего не замечая вокруг, потрясенный и хмельной от радости Филипп подбежал к ней.
Он положил ладони на спинку саней и почувствовал, что пылает: королева беспечно откинулась назад, и волосы ее прикоснулись к пальцам офицера.
Вопреки обычаям двора Людовик XVI и граф д'Артуа хранили полное молчание.
Никто не знал, в котором часу и как должен прибыть г-н де Сюфрен.
На вечер король назначил игру.
В семь вечера он вышел вместе со всей августейшей семьей. Королева появилась, держа за руку свою старшую, семилетнюю дочь.
Собрание было многолюдным и блестящим.
Пока шли приготовления и все занимали места, граф д'Артуа тихонько подошел к королеве и сказал:
– Сестрица, посмотрите хорошенько вокруг.
– Ну, смотрю.
– И что вы видите?
Королева обвела глазами зал, вглядываясь в скопления придворных, проникая взором в незаполненные его места: всюду друзья, всюду люди, готовые служить, и среди них Андреа с братом.
– Вижу приятные лица, главным образом – друзей.
– Не смотрите на тех, кто здесь, сестрица, взгляните-ка лучше, кого нет.
– Вот это верно! – вскричала королева.
Граф д'Артуа рассмеялся.
– Опять его нет, – продолжала королева. – Неужто он так и будет от меня бегать?
– Нет, – ответил граф д'Артуа, – просто шутка продолжается. Наш братец отправился встречать байи де Сюфрена к заставе.
– Если так, то я не понимаю, чему вы смеетесь, братец мой.
– Не понимаете?
– Конечно, нет. Ведь если наш братец ждет байи де Сюфрена у заставы, значит, он хитрее нас: он увидит его первым и, следовательно, поздравит с возвращением раньше всех.
– Да полно вам, сестрица, – улыбнувшись, ответил молодой принц. – Слишком уж вы низкого мнения о нашей с вами дипломатии. Граф Прованский отправился встречать командора к заставе Фонтенбло, это верно, однако наш человек поджидает его на почтовой станции в Вильжюифе.
– Да ну?
– И в результате, – продолжал граф д'Артуа, – наш сеньор так и будет торчать в одиночестве у заставы, а господин де Сюфрен по приказу короля минует Париж и направится прямиком в Версаль, где поджидаем его мы.
– Прекрасно придумано!
– Неплохо, я собою доволен. Можете играть спокойно, сестрица.
В зале для игры собралось человек сто самых высокопоставленных особ: Конде, Пантьевр, де ла Гремуйль, принцессы крови.
Однако то, что граф д'Артуа рассмешил королеву, заметил один король и, чтобы показать себя тоже участником заговора, послал им полный скрытого значения взгляд.
Как мы уже говорили, новость о прибытии командора де Сюфрена осталась в тайне, и тем не менее над головами собравшихся витало что-то вроде предчувствия.
Каждый ощущал, что нечто тайное вскоре станет явным, что вот-вот обнаружится какая-то новость. Предвкушение чего-то захватило всех обитателей этого мирка, где любое малейшее событие приобретало значительность, стоило только властелину неодобрительно нахмуриться или растянуть губы в улыбке.
Король, имевший обыкновение делать ставку не более одного шестиливрового экю, чтобы умерить азарт принцев и придворных вельмож, не обратил внимания на то, что на этот раз выложил на стол все золото, которое у него было при себе.
Заметив это, королева решила отвлечь внимание присутствующих и с напускным жаром принялась за игру.
Филипп, тоже приглашенный к столу и сидевший напротив сестры, полностью отдался во власть небывалого, ошеломляющего ощущения, которое вызвала в нем эта неожиданная милость.
Тем не менее он все время мысленно возвращался к словам отца. Филипп спрашивал себя: быть может, отец, на памяти которого было несколько фаворитов, лучше него разбирается во временах и нравах?
Он недоумевал: а вдруг его пуританство, следствие чуть ли не религиозного обожания, – просто нелепость, которую он вывез из дальних стран?
Неужто королева, такая поэтичная, прекрасная и добрая к нему, – просто бездушная кокетка, желающая лишь присовокупить к своим воспоминаниям еще одну разбуженную ею страсть и напоминающая тем самым энтомолога, что помещает под стекло еще одно насекомое или бабочку, ничуть не заботясь о муках создания, сердце которого проткнуто булавкой.
А между тем королеву никак нельзя было отнести к женщинам заурядным или пошлым. Взгляд ее всегда что-либо означает, она никогда не бросает его, не оценив предварительно его силу.
«Куаньи, Водрейль, – размышлял Филипп, – любят королеву и любимы ею. Ну почему же, почему клевета эта столь мрачна, почему ни единый луч света не промелькнет в пучине, что зовется женским сердцем, пучине еще более глубокой от того, что это сердце королевы?»
На все лады повторяя про себя эти два имени, Филипп взглянул на дальний конец стола, где по капризу случая сидели рядом гг. де Куаньи и де Водрейль, казавшиеся беззаботными, если уже не забывчивыми, и не смотревшие в сторону королевы.
Глядя на них, молодой человек решил: невозможно, чтобы эти люди любили и пребывали в таком спокойствии, невозможно, чтобы они были любимы и вместе с тем столь забывчивы. О, если королева полюбит его, он обезумеет от счастья, а если после этого забудет – он покончит с собой от отчаяния.
С гг. де Куаньи и де Водрейля Филипп перевел взгляд на Марию Антуанетту.
Все еще витая в облаках, он вопрошал ее ясный лоб, властный рот, величественный взор; наслаждаясь красотой женщины, он пытался проникнуть в тайну королевы.
«О нет, это клевета, клевета, – думал он. – Это лишь неясные слухи, поддерживаемые корыстолюбцами, ненавистниками или интриганами!»
Филипп все еще предавался подобным размышлениям, когда часы в кордегардии пробили без четверти восемь. В ту же секунду послышался громкий шум.
В зале раздались чьи-то торопливые шаги. Приклады ружей ударили в пол. Гомон голосов, проникший сквозь приоткрытую дверь, привлек внимание короля, который обернулся, чтобы лучше слышать, и сделал знак королеве.
Та поняла и немедленно объявила, что игра закончена.
Игроки, собирая лежавшие перед ними монеты, пытались разгадать намерения королевы.
Мария Антуанетта направилась в большой зал для приемов. Король последовал за нею.
Адъютант г-на де Кастри, морского министра, подошел к королю и что-то шепнул ему на ухо.
– Прекрасно, – ответил тот, – ступайте. Затем повернулся к королеве и добавил:
– Все идет как надо.
Собравшиеся обменивались вопросительными взглядами, недоумевая, что означают эти слова.
Внезапно в зал вошел маршал де Кастри и громко обратился к королю:
– Ваше величество, не соблаговолите ли вы принять господина байи де Сюфрена, прибывшего из Тулона?
Когда прозвучало это имя, радостно и торжественно произнесенное в полный голос, зал загудел.
– Конечно, сударь, – ответил король, – с радостью.
Г-н де Кастри вышел.
Собравшиеся как один подались вперед, к двери, за которой скрылся г-н де Кастри.
Чтобы объяснить, почему г-н де Сюфрен пользовался у французов такой симпатией, почему король, королева и принцы крови стремились встретить его первыми, достаточно будет нескольких слов. Имя Сюфрена принадлежит всей Франции, так же как имена Тюренна, Катина и Жана Барта[38].
За время войны с Англией, вернее, за ее последний период, предшествовавший заключению мира, г-н командор де Сюфрен одержал победу в семи крупных морских сражениях, взял Тринкомали[39] и Гваделор[40], укрепил французские владения, очистил от англичан моря и убедил набоба Хайдара Али[41] в том, что Франция – первая держава в Европе. С профессией моряка он сочетал дипломатию тонкого и честного негоцианта, отвагу и тактическое учение солдата с ловкостью мудрого администратора. Смелый, неутомимый и гордый, когда речь шла о французском флаге, он так измучил англичан на суше и на море, что этим надменным мореплавателям ни разу не удалось завершить дело победой или напасть на Сюфрена, когда лев показывал зубы.
После баталии – а в них Сюфрен не щадил жизни не хуже любого матроса – он всегда был полон человечности, благородства и сочувствия. Это был тип подлинного моряка, несколько позабытый после Жана Барта и Дюге-Труэна[42] и вновь нашедший свое воплощение в Сюфрене.
Мы не беремся описать суматоху и энтузиазм, которые вызвало его появление в Версале среди дворян, присутствовавших на приеме.
Сюфрен был пятидесятишестилетний низенький толстяк с огненным взглядом, благородными и приятными манерами, проворный, несмотря на тучность, и величественный, несмотря на мягкость, он гордо нес свою прическу, вернее, пышную гриву: как человек, привычный ко всякого рода неудобствам, он нашел способ как следует одеться и причесаться еще в почтовой карете.
На нем был голубой, шитый золотом кафтан, красный камзол и голубые штаны. Его могучий подбородок покоился на воротнике военного покроя, словно пьедестал для его громадной головы.
Едва он появился в кордегардии, кто-то тут же доложил об этом г-ну де Кастри, нетерпеливо расхаживавшему взад и вперед, и тот выкрикнул:
– Господин де Сюфрен!
Схватив мушкетоны, караул выстроился, словно для встречи короля; когда же байи прошел, солдаты образовали позади него эскорт в виде колонны по четыре.
Сюфрен пожал руку г-ну де Кастри и потянулся вперед, желая его поцеловать.
Но морской министр легонько оттолкнул героя.
– Нет, нет, сударь, – проговорил он, – я не хочу лишать удовольствия поцеловать вас первым кое-кого, кто достоин этого более, чем я.
И он повел г-на де Сюфрена прямо к Людовику XVI.
– Господин байи! – просияв, воскликнул король. Моряк увидел его, и Людовик продолжал: – Добро пожаловать в Версаль! Вы принесли сюда славу, принесли все, что герои дарят своим современникам. О будущем я не говорю, оно принадлежит вам. Поцелуйте меня, господин байи!
Г-н Сюфрен преклонил было колени, но король поднял его и расцеловал столь сердечно, что по собравшимся пробежала дрожь радости и триумфа.
Забыв на секунду о короле, все разразились приветственными кликами.
Король повернулся к королеве.
– Сударыня, – проговорил он, – это господин де Сюфрен, победитель при Тринкемали и Гваделоре, бич наших соседей-англичан, мой собственный Жан Барт.
– Сударь, – обратилась к моряку королева, – расхваливать вас я не стану. Знайте лишь одно: всякий раз, что вы стреляли из пушек во славу Франции, сердце мое замирало от восхищения и признательности.
Едва королева договорила, как подошел граф д'Артуа со своим сыном, герцогом Ангулемским.
– Сын мой, – сказал он, – вы видите перед собой героя. Посмотрите хорошенько, нынче это большая редкость.
– Ваше высочество, – ответил отцу юный принц, – только недавно я читал о великих людях у Плутарха, но ни одного из них не видел. Благодарю вас за то, что вы показали мне господина де Сюфрена.
По шепоту, пробежавшему вокруг, мальчик мог понять, что слова его запомнятся надолго.
Король взял г-на де Сюфрена под руку и собрался отвести к себе в кабинет, чтобы побеседовать о маршрутах его путешествий.
Однако г-н де Сюфрен оказал почтительное сопротивление.
– Государь, – попросил он, – вы ко мне так добры, что, быть может, позволите…
– О, у вас есть просьба, господин де Сюфрен? – воскликнул король.
– Государь, один из моих офицеров совершил столь серьезный дисциплинарный проступок, что, по моему мнению, только ваше величество может быть ему судьей.
– Надеюсь, господин де Сюфрен, – заметил король, – что ваша первая просьба будет о снисхождении, а не о наказании.
– Я так ему и сказал, ваше величество, но судить вам.
– Я слушаю.
– В последнем сражении офицер, о котором я имел честь говорить вашему величеству, находился на «Строгом».
– Ах, это то самое судно, что спустило флаг? – нахмурившись, осведомился король.
– Государь, командир «Строгого» действительно спустил флаг, – поклонившись, ответил г-н де Сюфрен, – и сэр Хьюз, английский адмирал, уже послал шлюпку, чтобы захватить приз, однако лейтенант, командовавший батареями на нижней палубе, заметив, что огонь прекратился, и получив приказ не стрелять, поднялся на верхнюю палубу и увидел, что флаг спущен и командир готов к сдаче корабля. Прошу меня извинить, государь, но при виде этой картины его французская кровь вскипела. Он взял лежавший неподалеку флаг, схватил молоток и, приказав возобновить огонь, прибил флаг под вымпелом. Благодаря этому, государь, «Строгий» был сохранен для вашего величества.
– Прекрасный поступок! – воскликнул король.
– Очень смело! – поддержала королева.
– Да, государь, да, сударыня, но это – серьезное нарушение дисциплины. Командир отдал приказ, и лейтенант обязан был повиноваться. Я прошу вас простить этого офицера, государь, тем более что он – мой племянник.
– Ваш племянник! – воскликнул король. – Но вы мне об этом не говорили.
– Вам, государь, не говорил, но имел честь доложить господину морскому министру и попросил его ничего не сообщать вашему величеству, пока я не добьюсь помилования для виновного.
– Согласен, согласен, – вскричал король. – И заранее обещаю свое покровительство любому нарушителю дисциплины, который будет таким образом спасать честь короля и Франции. Но вы должны представить мне этого офицера, господин байи.
– Он здесь, – ответил г-н де Сюфрен, – и раз ваше величество позволяет…
Он обернулся и приказал:
– Подойдите сюда, господин де Шарни.
Королева вздрогнула. Это имя вызвало у нее в памяти воспоминание слишком недавнее, чтобы оно могло стереться из памяти.
От группы людей, сопровождавших г-на де Сюфрена, отделился молодой офицер и предстал перед королем.
Королева, в восторге от прекрасного поступка молодого офицера, хотела было подойти к нему сама.
Но, услыхав его имя, увидев, кого г-н де Сюфрен представляет королю, она остановилась, побледнела и что-то пробормотала.
Мадемуазель де Таверне тоже побледнела и с беспокойством взглянула на королеву.
Что же касается г-на де Шарни, то он, ничего не замечая, ни на кого не глядя, с выражением почтения на лице поклонился королю, который протянул ему руку для поцелуя. Затем, держась скромно и даже трепетно под взорами собравшихся, он вернулся в кружок офицеров, которые бросились к нему с шумными поздравлениями и объятиями.
В последовавшие после этого несколько секунд всеобщего молчания и растроганности король сиял, королева нерешительно улыбалась, г-н де Шарни стоял, потупя взор, а Филипп, от которого не укрылось волнение королевы, всем своим видом выражал тревогу и недоумение.
– Пойдемте же, господин де Сюфрен, – проговорил наконец король, – пойдемте побеседуем. Я умираю от желания послушать ваши рассказы и доказать, что я много думал о вас.
– Вы столь добры, государь…
– О, вы увидите мои карты, господин байи, увидите, с какою тщательностью я наносил на них каждый этап вашей экспедиции, предвиденный или угаданный мною. Пойдемте же.
Однако сделав вместе с г-ном де Сюфреном несколько шагов, король внезапно повернулся к королеве.
– Кстати, сударыня, – сказал он, – как вам известно, я заказал стопушечный корабль и теперь изменил свое мнение относительно его названия. Вместо того чтобы назвать его, как мы с вами решили, не лучше ли…
Мария Антуанетта, уже пришедшая в себя, схватила мысль короля на лету.
– Ну, разумеется, – ответила она, – мы назовем его «Сюфрен», и я вместе с господином байи окрещу его.
И тут вырвались наружу сдерживаемые доселе крики:
– Да здравствует король! Да здравствует королева!
– И да здравствует «Сюфрен»! – исключительно тонко добавил король: в его присутствии никто не мог воскликнуть: «Да здравствует господин Сюфрен!» – тогда как даже самым ревностным блюстителем этикета ничто не мешало кричать: «Да здравствует корабль его величества!»
– Да здравствует «Сюфрен»! – с энтузиазмом подхватили собравшиеся.
Король знаком поблагодарил всех за то, что его мысль была столь хорошо понята, и увлек байи за собой.
Как только король ушел, все присутствовавшие в зале принцы и принцессы столпились вокруг королевы.
Уходя, байи де Сюфрен знаком велел племяннику подождать, и тот, выразив поклоном свое согласие, остался стоять там, где мы его видели.
Королева, уже не раз обменявшаяся с Андреа многозначительным взглядом, не теряла молодого человека из виду и, глядя на него, всякий раз мысленно повторяла:
«Это он, нечего и сомневаться».
У мадемуазель же де Таверне был такой вид, что у королевы пропали последние сомнения. Девушка как будто хотела сказать:
«О Боже, государыня, это он, конечно, он!»
Как мы уже говорили, Филипп заметил озабоченность королевы; он если и не понимал истинную причину, то по крайней мере смутно о чем-то догадывался.
Тот, кто любит, никогда не заблуждается относительно выражения лица того, кого он любит.
Филипп догадался, что королеву взволновало какое-то странное таинственное происшествие, непонятное для всех, за исключением ее самой и Андреа. А королева вправду растерялась и пыталась скрыться за своим веером – это она-то, способная заставить кого угодно опустить взгляд.
Пока молодой человек терялся в догадках, не зная, чему следует приписать подобную озабоченность ее величества, пока он вглядывался в лица гг. де Куаньи и де Водрейля, чтобы удостовериться, что они не имеют никакого отношения к тайне, а непринужденно беседуют с графом Хагой, явившимся с визитом в Версаль, в гостиную, где все в этот миг находились, вошел человек в роскошной кардинальской мантии, за которым следовала кучка офицеров и прелатов.
Завидя его с другого конца зала, королева тотчас же отвернулась, даже не давая себе труда скрыть, что брови ее сошлись к переносице: в вошедшем она узнала г-на Луи де Рогана.
Не обращая ни на кого внимания, прелат пересек зал, приблизился к королеве и склонился перед нею в поклоне – скорее как светский человек, здоровающийся с женщиной, нежели как подданный, приветствующий королеву.
Затем он сделал ее величеству галантный комплимент, но та, едва повернув голову, процедила несколько вежливых ледяных слов и продолжала беседу с г-жой де Ламбаль и г-жой де Полиньяк.
Принц Луи, казалось, не заметил скверного приема, оказанного ему королевой. Еще раз поклонившись, он неторопливо повернулся и с изяществом истого придворного обратился к принцессам, теткам короля, беседа с которыми длилась долго, поскольку по принципу маятника, принятому при дворе, здесь он был принят столь же благожелательно, сколь холодно у королевы.
Кардинал Луи де Роган был представительным мужчиной в расцвете сил, с благородными манерами и мягким, умным лицом. Его тонко очерченный рот выражал осмотрительность, руки были прекрасны; слегка полысевшая голова выдавала в нем или сластолюбца, или ученого, однако на самом деле принц де Роган был и тем, и другим одновременно.
Это был любимец женщин, предпочитавших, чтобы за ними ухаживали изящно и без лишнего шума; о его щедрости ходили легенды. Ему же, однако, удалось убедить всех, что при миллионе шестистах тысячах ливров дохода он – бедняк.
Король любил его за ученость, королева же, напротив, ненавидела.
Истинные причины этой ненависти до конца известны не были, но поговаривали о них двояко.
Во-первых, будучи послом в Вене, принц Луи якобы написал королю Людовику XV несколько весьма ироничных писем, касавшихся Марии Терезии, чего Мария Антуанетта не могла ему простить.
Второй, более вероятной и по-человечески более объяснимой причиной ее ненависти было то, что посол написал, опять-таки Людовику XV, письмо по поводу бракосочетания юной эрцгерцогини и дофина, содержащее некоторые подробности, весьма неприятные для самолюбия новобрачной, которая в ту пору была очень тоща, причем король прочел это письмо вслух на одном из ужинов у г-жи Дюбарри.
Понятно, что подобные нападки задели Марию Антуанетту за живое, и она, будучи не в состоянии публично признать себя их мишенью, решила рано или поздно отомстить их автору.
Под всем этим имелась, разумеется, и политическая подоплека.
В свое время г-н де Роган сменил в венском посольстве г-на де Бретейля.
Г-н де Бретейль, слишком слабый для того, чтобы бороться с принцем в открытую, прибегнул к средству, зовущемуся в дипломатии ловкостью. Он достал копии, а может быть, даже оригиналы писем прелата, бывшего в то время послом, и обратился к дофине, которая, взвесив действительную пользу, приносимую этим дипломатом, и некоторую его враждебность по отношению к австрийской императорской фамилии, стала на сторону г-на де Бретейля и решила в один прекрасный день погубить принца де Рогана.
Среди придворных ходили глухие слухи об этой ненависти, что делало положение кардинала весьма щекотливым.
Потому-то при встречах королева всякий раз оказывала ему ледяной прием, который мы только что попытались описать.
Однако независимо от того, истинным или напускным было выказываемое им пренебрежение к Марии Антуанетте, кардинал, повинуясь какому-то непреоборимому чувству, в действительности все прощал своей врагине и не упускал ни малейшей возможности приблизиться к ней, а средств у него для это хватало: принц Луи де Роган был первым придворным духовником.
Он никогда не жаловался и никому ничего не рассказывал. Узкий кружок друзей, среди которых выделялся немецкий офицер барон фон Планта, служил ему утешением после королевских немилостей, а придворные дамы, в своей суровости к кардиналу не вполне следовавшие примеру королевы, похвастаться столь счастливым результатом, увы, не могли.
Итак, кардинал скользнул, словно тень, по веселой картине, развернувшейся в воображении королевы, поэтому, едва он ушел, как Мария Антуанетта успокоилась и обратилась к принцессе де Ламбаль:
– Вы знаете, мне кажется, что поступок этого молодого офицера, племянника господина байи, – один из самых замечательных в этой войне. Как, кстати, его зовут?
– По-моему, господин де Шарни, – ответила принцесса.
С этими словами она повернулась к Андреа и осведомилась:
– Не так ли, мадемуазель де Таверне?
– Да, ваша светлость, Шарни, – ответила Андреа.
– Нужно, – продолжала королева, – чтобы господин де Шарни сам рассказал нам этот эпизод, не упуская ни малейшей подробности. Пусть его найдут. Он еще здесь?
Один из офицеров поспешил к дверям, чтобы выполнить поручение королевы.
В тот же миг она огляделась и, заметив Филиппа, со свойственным ей нетерпением проговорила:
– Господин де Таверне, пойдите же, посмотрите, где он.
Поиски оказались несложными.
Секунду спустя появился г-н де Шарни, шедший между посланцами королевы.
Окружавшие королеву придворные расступились, и она смогла внимательно разглядеть молодого человека, для чего раньше ей не представлялось случая.
Лет двадцати семи – двадцати восьми, он был строен, широкоплеч, с изящными ступнями. Его тонкое, мягкое лицо выражало необычайную внутреннюю силу всякий раз, как он начинал пристально всматриваться во что-то большими голубыми глазами.
Для человека, только что вернувшегося с войны в Индии, он был поразительно белокож – в такой же степени, в какой Филипп был смугл; над галстуком виднелась сильная, прекрасной формы шея, еще более белая, нежели сам галстук.
Подойдя к кучке придворных, среди которых стояла королева, он ничем не выдал, что знаком с мадемуазель де Таверне или с самой Марией Антуанеттой.
Учтиво отвечая на расспросы окружавших его офицеров, он, казалось, совершенно забыл, что с ним только что говорил король, а королева смотрит на него.
Мария Антуанетта, тонко чувствовавшая все, что касалось движений человеческой души, не могла не заметить его вежливость и сдержанность.
Г-ну де Шарни хотелось скрыть свое удивление при виде дамы из экипажа не только от других. Он искренне желал сделать все возможное, чтобы она не догадалась, что ее узнали.
Поэтому г-н де Шарни поднял свой естественный и в меру скромный взгляд лишь тогда, когда королева сама обратилась к нему.
– Господин де Шарни, – проговорила она, – эти дамы испытывают желание – вполне объяснимое, поскольку я тоже его разделяю, – как можно подробнее узнать о вашем приключении на корабле. Расскажите, прошу вас.
– Государыня, – в наступившей тишине ответил молодой моряк, – я умоляю ваше величество, и не из скромности, а из человечности, не настаивать на рассказе о том, что сделал я как лейтенант «Строгого». Десяток офицеров, моих товарищей, намеревались сделать то же самое, я лишь опередил их – вот и вся моя заслуга. Что же касается подробностей, которым придал значение его величество – нет, государыня, они ни к чему, и вы поймете это вашим великодушным королевским сердцем.
Дело в том, что бывший командир «Строгого», смелый офицер, в тот день просто потерял голову. Увы, государыня, вы, должно быть, слышали, что даже самые отважные не всегда бывают на высоте положения. Ему нужно было всего десять минут, чтобы взять себя в руки, наша решимость не сдаваться дала ему эту передышку, и к нему вернулась отвага. С этого момента он был смелее нас всех, вот почему я и умоляю ваше величество не переоценивать моих заслуг и не губить тем самым несчастного, который целыми днями терзается из-за своей минутной слабости.
– Хорошо, хорошо, – сказала королева, тронутая и обрадованная благосклонным ропотом, который вызвали слова молодого офицера у слушателей, – насколько я могу судить, вы порядочный человек, господин де Шарни.
При этих словах офицер поднял голову, и юношеский румянец окрасил его лицо. Взгляд молодого человека с некоторым испугом скользнул с королевы на Андреа. Он опасался этой благородной и столь отважной в своем благородстве женщины.
И действительно, для господина де Шарни испытания еще не закончились.
– Да будет вам всем известно, – продолжала королева, – что господин де Шарни, этот недавно прибывший к нам молодой и никому не знакомый офицер, был хорошо нам знаком и раньше и заслуживает внимания и восхищения всякой женщины.
Все поняли, что королева собирается рассказать какую-то историю, из которой можно будет либо почерпнуть сведения о небольшом скандале, либо узнать небольшой секрет. Круг около королевы сомкнулся, все, затаив дыхание, приготовились слушать.
– Вообразите себе, сударыни, – начала королева, – что, оказывается, господин де Шарни столь же снисходителен к дамам, сколь безжалостен к англичанам. Мне рассказали о нем одну историю, которая, говорю прямо, делает ему честь в моих глазах.
– О, сударыня!.. – пролепетал молодой офицер.
Слова королевы, сказанные в присутствии того, кого они касались, имели своей целью усугубить любопытство аудитории.
По собравшимся пробежала дрожь нетерпения.
Шарни, чей лоб покрылся испариной, готов был отдать год жизни за то, чтобы снова очутиться в Индии.
– Вот как было дело, – продолжала королева. – Две знакомые мне дамы опаздывали домой, и в этот миг путь им преградила толпа. Они подвергались серьезной опасности. В это время случайно или, вернее, к счастью мимо проходил господин де Шарни. Он раздвинул толпу и, не зная, кто эти дамы, поскольку выяснить это было трудно, взял их под свою защиту и отвез довольно далеко… кажется, лье за десять от Парижа.
– О, ваше величество преувеличивает, – возразил, смеясь, Шарни, успокоенный оборотом, который принял рассказ.
– Ладно, пусть пять лье, и не будем больше об этом, – внезапно вмешался в разговор граф д'Артуа.
– Не возражаю, брат мой, – согласилась королева. – Но самое приятное заключается в том, что господин де Шарни даже не пытался узнать, как зовут дам, которым он оказал услугу, а просто высадил их там, где они указали, и уехал, ни разу не обернувшись, так что они воспользовались его защитой безо всякого для себя беспокойства.
Послышались возгласы восхищения, десятка два дам в один голос осыпали Шарни комплиментами.
– Прекрасно, не правда ли? – заключила королева. – Рыцарь Круглого Стола не смог бы поступить благороднее.
– Восхитительно! – хором воскликнули присутствующие.
– Господин де Шарни, – снова заговорила королева, – король, без сомнения, отблагодарит господина де Сюфрена, вашего дядюшку, а я со своей стороны хотела бы что-нибудь сделать для племянника этого великого человека.
И она протянула ему руку.
Пока Шарни, побледневший от радости, прижимал ее к губам, Филипп, побледневший от горя, спрятался за широкой занавеской гостиной.
Но тут голос графа д'Артуа прервал эту сцену, столь любопытную для наблюдателя.
– О, брат мой, граф Прованский, – громко проговорил он, – входите же, входите! Какую сцену вы пропустили – прием господина де Сюфрена. Этот миг не забудет ни одно французское сердце! Но какого дьявола вы опоздали – это вы-то, такой любитель точности?
Граф Прованский, поджав губы, рассеянно приветствовал королеву и отделался от брата какой-то пустой фразой.
Затем он вполголоса спросил у г-на де Фавра, капитана его охраны:
– Каким образом он оказался в Версале?
– Эх, ваше высочество, – ответил тот, – я уже целый час ничего не могу понять.
Теперь, когда мы познакомили наших читателей с главными персонажами этой истории или же просто напомнили о них, теперь, когда мы провели читателей и в домик графа д'Артуа, и во дворец Людовика XIV в Версале, теперь мы возвратимся в дом на улице Сен-Клод, на пятый этаж которого приходила инкогнито королева Франции в сопровождении Андреа де Таверне.
Как только королева ушла, г-жа де Ламотт принялась, как нам известно, радостно считать и пересчитывать сто луидоров, так волшебно свалившихся на нее с неба.
На столе лежали пятьдесят хорошеньких двойных луидоров, по сорок восемь ливров в каждом; поблескивая в свете ламп, они, казалось, своим аристократизмом унижали эту убогую лачугу.
Полюбовавшись на деньги, г-жа де Ламмот решила, что их должен увидеть еще кто-нибудь. Само по себе обладание ими было для нее ничто, если оно ни в ком не возбуждало зависть.
Ей давно уже претило, что горничная – свидетельница ее нищеты, и теперь ей захотелось сделать ее свидетельницей своего нежданного богатства.
И вот, направив свет лампы так, что золото заблестело во всей своей красе, она окликнула г-жу Клотильду, сидевшую в прихожей:
– Клотильда!
Горничная вошла в комнату.
– Подойдите и взгляните сюда, – приказала г-жа де Ламотт.
– О, сударыня! – всплеснув руками и вытянув шею, воскликнула старуха.
– Вы, кажется, беспокоились о своем жалованье? – осведомилась графиня.
– Что вы, сударыня, у меня и в мыслях такого не было. Господи, я просто спрашивала у вас, госпожа графиня, когда вы сможете мне заплатить. Ничего удивительного, ведь я не получаю от вас денег уже три месяца.
– Как вы считаете, теперь у меня есть из чего вам заплатить?
– Господи Иисусе! Имей я столько денег, я считала бы себя обеспеченной на всю жизнь!
Г-жа де Ламотт пожала плечами и с нескрываемым презрением посмотрела на старуху.
– К счастью, – сказала она, – кое-кто еще помнит имя, которое я ношу. А вот те, кому следовало бы об этом помнить, забыли.
– На что же вы истратите такую кучу денег? – спросила г-жа Клотильда.
– На все!
– По-моему, сударыня, самое главное – это прежде всего как следует устроить мне кухню. Раз у вас теперь есть деньги, вы ведь дадите обед, верно?
– Тс-с! – прислушалась г-жа де Ламотт. – Кто-то стучит!
– Вы ошибаетесь, сударыня, – щадя по обыкновению свои ноги, возразила старуха.
– А я говорю – стучат.
– Уверяю вас, сударыня…
– Пойдите посмотрите.
– Но я ничего не слышала.
– Вот-вот, как в прошлый раз: тогда вы тоже ничего не слышали. Что ж, по-вашему, эти дамы удалились, не входя сюда?
Сей довод подействовал на г-жу Клотильду, и она направилась к двери.
– А теперь слышите? – вскричала г-жа де Ламотт.
– И верно, – согласилась старуха. – Иду, иду.
Г-жа де Ламотт поспешно сгребла со стола монеты и бросила их в ящик.
Закрывая его, она пробормотала:
– Неужто провидение посылает мне еще сотню луидоров? Слова эти были произнесены с такой алчностью и вместе с тем столь скептически, что даже Вольтер улыбнулся бы, их услышав.
Тем временем дверь на лестницу отворилась, и в первой комнатушке послышались мужские шаги.
Г-жа Клотильда обменялась с мужчиной несколькими фразами, но о чем шла речь, графиня не расслышала.
Затем дверь затворилась, шаги на лестнице затихли, и старуха вернулась в комнату с письмом в руке.
– Прошу вас, – проговорила она, протягивая его хозяйке. Графиня внимательно рассмотрела почерк на конверте, сам конверт и печать, после чего подняла голову и спросила:
– Это был слуга?
– Да, сударыня.
– В какой ливрее?
– Ливреи на нем не было.
– Значит, обычный серокафтанник?
– Да.
– Этот герб уже попадался мне на глаза, – еще раз взглянув на печать, заметила г-жа де Ламотт.
Затем, поднеся печать к свету, она продолжала:
– Девять золотых ромбов на красном поле… У кого же такой герб?
Порывшись несколько секунд в памяти, графиня наконец сдалась.
– Посмотрим-ка, что в письме, – пробормотала она. Осторожно, чтобы не повредить печать, она вскрыла конверт и прочла:
«Сударыня, особа, к которой вы обращались, может увидеться с вами завтра вечером, если вы соблаговолите отпереть ей дверь».
– И это все?
Графиня снова напрягла память.
– Писала-то я многим, – проронила она. – Но все-таки кому же? Да всем на свете. Интересно, кто это мне ответил: мужчина или женщина? По почерку не узнать… нет… истинно секретарский почерк. Слог? Слог покровителя – вялый и старомодный.
Она повторила:
– «Особа, к которой вы обращались»… Этими словами меня хотят унизить. Писала явно женщина.
Графиня принялась читать дальше:
– «…может увидеться с вами завтра вечером, если вы соблаговолите отпереть ей дверь». Женщина написала бы: «Будет ждать вас завтра вечером». Нет, это мужчина. Но лучше бы это была какая-нибудь из прежних знатных дам… Подписи нет… Но у кого же на гербе девять золотых ромбов на красном поле? Ах! – внезапно воскликнула она. – Да что это я, совсем спятила? Это же герб Роганов, черт возьми! Нуда, я писала господину де Гемене[43] и господину де Рогану, и один из них мне ответил. Все ясно… Однако гербовый щит не поделен на четыре поля, значит, письмо от кардинала… Ах, этот кардинал де Роган! Этот рыцарь, дамский угодник и честолюбец придет к госпоже де Ламотт, если та отопрет ему дверь! Прекрасно, он может не беспокоиться, дверь будет отперта… Когда это? Ах, да, завтра вечером.
И графиня размечталась.
– Даму-благотворительницу с ее сотней луидоров милостыни можно принять и в убогой комнатушке. Она может мерзнуть на моем ледяном полу и мучиться на моих стульях, жестких, словно решетка святого Лаврентия[44], только что без огня. Но князь церкви, завсегдатай будуаров, покоритель сердец? Нет, нет, раз ко мне приходит подобный благотворитель, нужно здешнее убожество превратить в роскошь, да в такую, какую и не у всякого богача отыщешь.
Затем, повернувшись к горничной, как раз закончившей стелить постель, она приказала:
– Завтра, госпожа Клотильда, не забудьте разбудить меня пораньше.
И графиня сделала старухе знак удалиться – по-видимому, для того, чтобы та не мешала ей размышлять.
Г-жа Клотильда раздула огонь, совсем уже было погасший под слоем пепла, от чего комната стала еще более неприглядной, закрыла за собой дверь и удалилась в пристройку, где помещалась ее постель.
А Жанна де Валуа, вместо того чтобы спать, всю ночь строила планы. Она что-то записывала карандашом при свете ночника и лишь около трех утра, вполне уверенная в завтрашнем дне, позволила себе погрузиться в сон, из которого г-жа Клотильда, спавшая не намного больше своей хозяйки, послушно вырвала ее на рассвете.
К восьми утра графиня завершила свой туалет, надев изящное шелковое платье и со вкусом причесавшись.
Обувшись, как знатная дама и в то же время как хорошенькая женщина, наведя на левой щеке мушку и надев на запястье вышитую сумочку, она послала за креслом на колесиках туда, где обычно ожидает транспорт этого рода, то есть на улицу Понт-о-Шу.
Она предпочла бы портшез, но за ним нужно было идти слишком далеко.
Здоровенный овернец, подкативший к дому кресло, получил приказ доставить графиню на Королевскую площадь, где под южной аркадой, в первом этаже заброшенного особняка, помещался сьер Фенгре, мебельщик и обойщик, продававший и сдававший внаем по сходной цене подержанную мебель.
Овернец резво покатил кресло с улицы Сен-Клод к Королевской площади.
Минут через десять графиня высадилась у магазина сьера Фенгре, где, не переставая восхищаться, принялась выбирать мебель среди хаоса, который мы попробуем описать.
Представьте себе помещение футов пятидесяти длиной, тридцати шириной и семнадцати высотой, стены которого увешаны коврами времен правления Генриха IV и Людовика XIII, с потолка среди множества прочих вещей свисают жирандоли XVII века, соседствующие с чучелами ящериц, и церковные паникадила – рядом с чучелами летучих рыб.
На полу лежат груды ковров и циновок, стоят шкафы на четырехугольных ножках, украшенные витыми колоннами, дубовые резные буфеты, консоли времен Людовика XV на золоченых лапах, диваны, обитые розовой камкой или плюшем; канапе, поместительные кожаные кресла, какие любил Сюлли[45], шкафчики черного дерева с резными филенками, обрамленными медными полуваликами; столы работы Буля со столешницами, покрытыми эмалью или фарфором; доски для триктрака, разукрашенные туалеты; комоды с маркетри, изображающими музыкальные инструменты и цветы.
Кровати из розового дерева или дубовые, на постаментах и под балдахинами, занавеси из самых разных тканей, любых фасонов и расцветок, струящиеся, переплетающиеся, гармонирующие друг с другом или режущие глаз в полутьме магазина.
Клавесины, спинеты, арфы, систры на небольшом столике; большая собака из розовой в цветочек материи с эмалевыми глазами.
Всякого рода белье, платья, бархатные камзолы; стальные, серебряные и перламутровые эфесы шпаг.
Канделябры, старинные портреты, гризайли, гравюры в рамках, разнообразные подделки под Берне[46], бывшего в ту пору в моде, – того самого Берне, которому столь любезно и тонко сказала как-то королева:
– Право, господин Берне, во Франции никто, кроме вас, не умеет делать погоду дождливой или ясной.
Все это великолепие прельщало взоры и, соответственно, смущало умы владельцев весьма скромных состояний, заходивших в магазин сьера Фенгре на Королевской площади.
Все товары здесь были не новыми, о чем честно возвещала вывеска, но, находясь вместе, выгодно оттеняли друг друга и в итоге стоили гораздо больше, нежели могли того желать самые гордые из покупателей.
Г-жа де Ламотт, попав в эту сокровищницу, сразу поняла, чего ей не хватает на улице Сен-Клод.
Ей не хватало гостиной, чтобы поставить туда диван и кресла.
Столовой, чтобы разместить в ней буфеты, горки и поставцы.
Будуара для кретоновых занавесок, маленьких одноногих столиков и ширм.
Но главное, чего ей недоставало, будь даже у нее гостиная, столовая и будуар, – это денег, чтобы купить мебель для новой квартиры.
Однако с парижскими мебельщиками можно было договориться во все времена, и нам не доводилось слышать, чтобы молодая хорошенькая женщина умерла на пороге двери, которую так и не смогла заставить себя открыть.
В Париже то, что не покупают, берут внаем; именно жители меблированных комнат ввели в обиход поговорку: «Узреть – значит иметь».
Г-жа де Ламотт, в надежде взять мебель внаем и приняв для этого необходимые меры, принялась разглядывать гарнитур, обитый желтым шелком и с золочеными ручками, который ей сразу пришелся по душе. Она была брюнеткой.
Однако разместить на пятом этаже дома на улице Сен-Клод этот гарнитур из шести предметов было просто немыслимо.
Для него следовало снять четвертый этаж, куда входили прихожая, столовая, небольшая гостиная и спальня.
Она полагала, что милостыню от кардиналов можно принимать лишь на четвертом этаже, а от благотворительного общества – на пятом; то есть, находясь в роскоши, – от тех, кто делает это напоказ, а находясь в нищете, – от людей с предрассудками, не любящими давать тем, кто в этом нуждается.
Приняв такое решение, графиня обратила взор в темный угол магазина – туда, где находилось главное великолепие: хрусталь, позолота и стекло.
Там, держа в руке колпак, с нетерпеливой и несколько насмешливой улыбкой на лице стоял парижский буржуа и крутил на сомкнутых указательных пальцах ключ.
Этот достойный надзиратель за подержанными вещами был никто иной, как г-н Фенгре, которому приказчики уже доложили о визите красивой дамы, приехавшей в кресле.
Сами приказчики трудились во дворе; одеты они были в облегающее короткое платье из грубой шерсти и камлота и довольно веселенькие чулки. Они с помощью совсем уж старой мебели реставрировали не такую старую или, другими словами, потрошили старые диваны, кресла и подушки, чтобы добытым конским волосом и пером набить их преемников.
Один чесал конский волос, щедро смешивал его с паклей и заталкивал все это в ремонтируемую мебель.
Другой мыл хорошо сохранившиеся кресла.
Третий гладил куски материи, вымытые ароматическим мылом.
Вот таким манером и делалась прекрасная мебель, которой так восхищалась г-жа де Ламотт.
Г-н Фенгре, заметив, что его клиентка может обратить внимание на действия приказчиков и сделать из них неблагоприятные для него выводы, затворил застекленную дверь, выходившую во двор, чтобы пыль не попала в глаза г-же…
– Госпоже?.. – и он умолк.
Это был вопрос.
– Госпоже графине де Ламотт-Валуа, – беззаботно ответила графиня.
Услыхав столь звучное имя, г-н Фенгре разнял указательные пальцы, сунул ключ в карман и подошел поближе.
– О, – проговорил он, – вы, сударыня, ничего здесь для себя не найдете. У меня есть кое-что получше: новехонькое, красивое, чудесное. Хоть вы и оказались на Королевской площади, сударыня, вам не следует думать, что в магазине Фенгре нет мебели, которая может сравниться с той, какой располагает королевский мебельщик. Оставьте все это, сударыня, прошу вас, и давайте пройдем в другой магазин.
Жанна зарделась.
Все, что она здесь увидела, показалось ей столь прекрасным, что она даже не мечтала добыть себе хоть что-нибудь.
Вне всякого сомнения польщенная благоприятным мнением о ней г-на Фенгре, она даже невольно испугалась, что он, быть может, несколько ошибся.
Она выбранила себя за гордыню и пожалела, что не представилась простою горожанкой.
Однако быстрый ум умеет извлечь выгоду даже из собственной оплошности.
– Нет, сударь, – возразила она, – новая мебель мне не нужна.
– Сударыня, по-видимому, желает обставить квартиру кому-нибудь из друзей?
– Вот именно, сударь, квартиру друга. Вы же понимаете, что для квартиры друга…
– Безусловно. Выбирайте, сударыня, – ответил Фенгре, хитрый, как любой парижский торговец, которому самолюбие отнюдь не мешает продавать подержанные вещи наряду с новыми, если на них тоже можно неплохо заработать.
– Ну, к примеру, этот гарнитур с золотыми ручками, – проговорила графиня.
– Но он невелик, сударыня, в нем только десять предметов.
– Комната тоже невелика, – отозвалась графиня.
– Он совсем новый, сами видите, сударыня.
– Новый… для нашего случая.
– Разумеется, – рассмеялся г-н Фенгре. – Но как бы там ни было, он стоит восемьсот ливров.
Цена заставила графиню вздрогнуть: ну разве возможно признаться, что наследница рода Валуа довольствуется подержанной мебелью, но не может заплатить за нее восемьсот ливров.
Она решила сделать вид, что у нее скверное настроение.
– Но я не собираюсь ничего покупать, сударь! – воскликнула она. – Откуда вы взяли, что я хочу купить это старье? Речь идет о том, чтобы взять что-нибудь внаем, и к тому же…
Фенгре поморщился: посетительница постепенно теряла для него интерес. Она не собиралась покупать новую или даже подержанную мебель, а хотела лишь взять внаем.
– Значит, вы желаете этот гарнитур с золотыми ручками, – вымолвил он, – Вы возьмете его на год?
– Нет, на месяц. Мне нужно обставить квартиру для человека, приехавшего из провинции.
– На месяц будет стоить сто ливров, – сообщил г-н Фенгре.
– Вы, должно быть, шутить изволите, сударь? Ведь если так, то через восемь месяцев мебель уже станет моей.
– Согласен, госпожа графиня.
– И что же?
– Ну, раз она станет вашей, стало быть, не будет уже моею, и мне придется ее ремонтировать, освежать – ведь все это стоит денег.
Г-жа де Ламотт задумалась.
«Сто ливров в месяц – это слишком много, – размышляла она. – Однако будем рассуждать: или через месяц это окажется для меня дорого и я верну мебель, оставив о себе у мебельщика выгодное мнение, или через месяц я смогу заказать новую мебель. Я рассчитывала истратить пятьсот-шестьсот ливров. Не будем мелочиться из-за какой-то сотни экю».
– Я беру этот гарнитур с золотыми ручками для гостиной и подходящие к нему занавески, – наконец заявила она.
– Слушаюсь, сударыня.
– А ковры?
– Вот, прошу вас.
– А что вы предложите мне для другой комнаты?
– Пожалуйста: зеленые банкетки, дубовый шкаф, стол с гнутыми ножками и зеленые камчатые занавески.
– Хорошо. А для спальни?
– Эту широкую, удобную кровать с прекрасным бельем, вот это бархатное стеганое одеяло, шитое розовым и серебром, вот эти голубые занавески и каминный прибор – несколько в готическом стиле, но зато с богатой позолотой.
– Что в будуар?
– Вот кружева из Мехельна, извольте взглянуть, сударыня. А вот комод с изящным маркетри, такая же шифоньерка, обитый гобеленом диван, стулья с той же обивкой, красивый каминный прибор из спальни госпожи де Помпадур в Шуази.
– И сколько за все это?
– На месяц?
– Да.
– Четыреста ливров.
– Послушайте, сьер Фенгре, не принимайте меня, пожалуйста, за какую-нибудь гризетку. Знатным людям, вроде меня, так просто пыль в глаза не пустишь. Сами подумайте: четыреста ливров в месяц – это четыре тысячи восемьсот ливров в год, а за такие деньги я могу обставить целый особняк.
Г-н Фенгре почесал в ухе.
– Вы отбиваете у меня охоту приходить к вам на Королевскую площадь.
– Я в отчаянии, сударыня.
– Так докажите это. Завею эту мебель я хочу дать вам сто экю, не больше.
Эти слова Жанна произнесла столь властно, что мебельщик снова подумал о будущем.
– Согласен, сударыня, – уступил он.
– И при одном условии, сьер Фенгре.
– Каком же, сударыня?
– Все должно быть привезено и расставлено в квартире, которую я вам укажу, к трем часам пополудни.
– Но уже десять, сударыня! Послушайте – как раз бьет десять.
– Ну, так да или нет?
– Куда нужно везти, сударыня?
– На удину Сен-Клод, на Болоте.
– Это что в двух шагах отсюда?
– Совершенно верно.
Мебельщик отворил дверь во двор и крикнул:
– Сильвен! Ландри! Реми!
Трое приказчиков подбежали, довольные поводом прервать работу и поглазеть на красивую даму.
– Беритесь-ка за носилки и тележки, судари мои! Реми, грузите гарнитур с золотыми ручками. Вы, Сильвен, прихожую на тележку, а вы, Ландри, – малый осторожный, поэтому повезете спальню… Теперь благоволите заплатить, сударыня, а я напишу расписку.
– Вот шесть двойных луидоров, – сказала графиня, – и один простой. С вас еще сдача.
– Прошу вас: два шестиливровых экю, сударыня.
– Которые я отдам одному из этих господ, если дело будет сделано как надо, – отозвалась графиня.
После этого, сообщив свой адрес, она снова села в кресло на колесиках.
Через час она уже сняла четвертый этаж, а через два гостиная, прихожая и спальня были полностью обставлены.
Минут через десять шесть ливров перекочевали к гг. Ландри, Реми и Сильвену.
Когда во вновь обставленной квартире были вымыты окна и разожжен огонь, Жанна занялась своим туалетом и часа два наслаждалась, ступая по пушистым коврам, греясь в тепле среди завешенных штофом стен и вдыхая аромат нескольких гвоздик, купавших свои стебли в японской вазе, а головки – в нагретом воздухе комнаты.
Г-н Фенгре не забыл ни о позолоченных бра со свечами, ни о люстрах, висевших по обеим сторонам окна и снабженных стеклянными подвесками, которые в сиянии восковых свечей переливались всеми цветами радуги.
Камин, свечи, благоуханные розы… Жанна использовала все, что могла, для украшения рая, предназначенного ею для приема его высокопреосвященства.
Она позаботилась даже о том, чтобы через кокетливо приоткрытую дверь спальни виднелось приятное красноватое пламя в камине, отблески которого выхватывали из темноты ножки кресел, деревянную спинку кровати и подставку для дров г-жи де Помпадур в виде химер, на коей покоились когда-то очаровательные ножки маркизы.
Однако этим кокетство Жанны не ограничилось.
Если огонь в камине освещал ее таинственную комнату, а ароматы говорили о присутствии в ней женщины, то сама женщина обладала породой, красотой, умом и вкусом, достойным его высокопреосвященства.
Жанна оделась с изысканностью, которая явно озадачила бы г-на де Ламотта, ее отсутствующего супруга. Но она чувствовала себя достойной квартиры и мебели, взятой внаем у сьера Фенгре.
Жанна перекусила, но слегка, чтобы сохранить ясность мысли и интересную бледность, после чего пришла в спальню и расположилась в глубоком кресле, стоявшем у камина.
С книгою в руках, положив ноги в домашних туфлях на скамеечку, она ждала, прислушиваясь одновременно и к тиканью часов, и к отдаленному шуму карет, изредка нарушавшему спокойствие пустынного Болота.
Она ждала. Часы прозвонили девять, затем десять и одиннадцать.
Никто не появлялся ни в карете, ни пешком.
Одиннадцать! Для галантного прелата – самое время, укрепив свою потребность в милосердии ужином в ближайшем предместье, приехать на улицу Сен-Клод и порадоваться, что такой дешевой ценою он может проявить человеколюбие и благочестие.
На церкви Жен-мироносиц заунывно пробило полночь.
Ни прелата, ни кареты; свечи догорали, и некоторые из них уже покрыли своим прозрачным воском чашечки подсвечников из позолоченной меди.
Поленья, которые время от времени со вздохом подбрасывались в камин, превратились сначала в угли, потом в золу. В обеих комнатах сделалось душно, словно в Африке.
Сидевшая наготове старуха-служанка ворчала, оплакивая свой чепец с кокетливыми лентами: когда она клевала носом перед свечой в прихожей, ленты эти серьезно пострадали – какая от пламени, какая от растопленного воска.
В половине первого Жанна в ярости вскочила с кресла, которое на протяжении вечера покидала неоднократно, чтобы отворить окно и бросить взгляд в глубину улицы.
Однако в квартале царила безмятежность, как до сотворения мира.
Жанна разделась, отказалась поужинать и отправила старуху прочь, поскольку ее расспросы уже начали ей докучать.
Оставшись одна среди шелковых драпировок, она отдернула красивый полог и улеглась в свою превосходную постель, но, несмотря на все это, заснула не скорее, чем накануне: в прошлую ночь надежда рождала в ней беззаботность.
Между тем, привыкнув стойко справляться с ударами судьбы, Жанна отыскала оправдания для кардинала.
Прежде всего он был главным раздавателем милостыни и имел поэтому тысячу всяких непростых дел, куда более важных, чем визит на улицу Сен-Клод.
А потом, он ведь не был знаком с крошкой Валуа – оправдание для Жанны весьма утешительное. Вот если г-н де Роган нарушит слово после первого визита, тогда она, разумеется, будет безутешна.
Однако эта придуманная Жанной причина нуждалась в подтверждении своей справедливости.
Не долго думая, Жанна, одетая в белый пеньюар, соскочила с кровати, зажгла в ночнике свечи и принялась разглядывать себя в зеркале.
После тщательного осмотра она улыбнулась, задула свечи и снова легла. Оправдание было вполне веским.
На следующее утро Жанна, отнюдь не упав духом, начала приводить в порядок себя и свою квартиру.
Зеркало сказало ей, что г-н де Роган явится, как бы мало он ни был о ней наслышан.
И вот, когда пробило семь и в гостиной уже ярко пылал камин, на улицу Сен-Клод въехала карета.
Жанна не успела даже почувствовать нетерпение и еще ни разу не подбегала к окну.
Из кареты вылез мужчина, укутанный в толстый редингот, затем двери дома за ним затворились, и карета отъехала в соседний переулок дожидаться возвращения хозяина.
Вскоре послышался звонок. Сердце г-жи Ламотт оглушительно застучало.
Однако, не желая поддаться безрассудному чувству, Жанна приказала сердцу умолкнуть, поправила на столе вышитую скатерть, на клавесине – ноты новой арии, а на каминной полке – газету.
Спустя несколько секунд появилась г-жа Клотильда и объявила:
– Человек, который позавчера вам писал.
– Проси, – отозвалась Жанна.
Красивый мужчина в чуть поскрипывающих башмаках, разодетый в шелк и бархат, с высоко поднятой головой и казавшийся в маленькой комнате чуть не десяти локтей росту, легким шагом вошел к гостиную. Жанна поднялась ему навстречу. Ее неприятно поразило то обстоятельство, что он пожелал сохранить инкогнито.
Поэтому, решив воспользоваться преимуществом решившейся на что-то женщины, она спросила, присев в реверансе, более уместном не для протеже, но для покровительницы:
– С кем имею честь говорить?
Принц бросил взгляд на дверь гостиной, за которой скрылась старуха, и ответил:
– Я — кардинал де Роган.
На это г-жа де Ламотт, заставив себя зардеться и изобразить смирение и конфуз, сделала глубокий реверанс, словно находилась перед королем.
Затем, вместо того чтобы сесть на стул, как того требовал этикет, она придвинула кресло и преспокойно опустилась в него.
Кардинал, увидев, что церемониться здесь ни к чему, положил шляпу на стол и, встретив взгляд Жанны, осведомился:
– Так это верно, мадемуазель?
– Сударыня, – поправила Жанна.
– Прошу прощения, я позабыл. Так это верно, сударыня?
– Мой муж – граф де Ламотт, ваше высокопреосвященство.
– Прекрасно, сударыня, он, кажется, королевский гвардеец?
– Да, монсеньор.
– А вы, сударыня, урожденная Валуа.
– Совершенно верно, монсеньор. Валуа.
– Славное имя! – положив ногу на ногу, заметил кардинал. – Но теперь оно редко, род этот угас.
Жанна угадала сомнения де Рогана.
– Вовсе не угас, монсеньор, – возразила она. – Его ношу я, а также мой брат, барон де Валуа.
– Это признано?
– Ни в каком признании нет необходимости, монсеньор. Богат мой брат или беден, он все равно останется тем, кем родился, – бароном де Валуа.
– Расскажите о себе поподробнее, сударыня, вы пробудили во мне любопытство. Обожаю геральдику!
Просто и небрежно Жанна рассказала кардиналу все, что уже известно читателям.
Кардинал слушал, не сводя с нее взгляда.
Он не трудился скрывать свои впечатления. Да и к чему: кардинал не верил в то, что Жанна знатна, он просто разглядывал хорошенькую, но бедную женщину.
Жанна, замечавшая все, догадалась, насколько низко расценивает ее будущий покровитель.
– Выходит, – небрежно проговорил г-н де Роган, – вы и в самом деле претерпели множество несчастий?
– Я не жалуюсь, монсеньор.
– В сущности, ваши трудности были мне расписаны в слишком черных красках.
Кардинал обвел взглядом комнату.
– Жилье у вас удобное и вполне прилично обставлено.
– Для гризетки – несомненно, – сухо ответила Жанна, горя желанием поскорее приступить к делу. – В этом вы правы, монсеньор.
Кардинал заерзал в кресле.
– Как! – воскликнул он. – И вы утверждаете, что это – меблировка для комнаты гризетки?
– Не думаю, монсеньор, что вы назовете ее достойной принцессы, – отчеканила Жанна.
– А вы и есть принцесса, – заметил кардинал с тою неуловимой иронией, какая, не делая их слова оскорбительными, свойственна лишь очень умным или знатным людям.
– Я — урожденная Валуа, монсеньор, так же, как вы – Роган. Это все, что я могу сказать, – ответила Жанна.
Эти слова были произнесены с таким спокойным величием человека, оскорбленного в своем горе, с таким достоинством женщины, которая считает, что ее недооценивают, прозвучали столь естественно и в то же время благородно, что принц не почувствовал обиды, но как мужчина смутился.
– Сударыня, – проговорил он, – я совершенно забыл, что мне следовало начать с извинений. Я писал, что приеду вчера, но был занят в Версале на приеме в честь господина де Сюфрена. Поэтому мне и пришлось отказать себе в удовольствии посетить вас.
– Ваше высокопреосвященство и так оказали мне большую честь, вспомнив обо мне сегодня. Господин граф де Ламотт, мой муж, будет весьма сожалеть о своем изгнании, где его удерживает нищета, что лишило его возможности насладиться обществом столь прославленной особы.
Слово «муж» привлекло внимание кардинала.
– Так вы живете одна, сударыня? – поинтересовался он.
– Совершенно одна, монсеньор.
– Это, должно быть, приятно для молодой и хорошенькой женщины.
– Эго, монсеньор, естественно для женщины, которая чувствует себя не на месте нигде, кроме света, недоступного ей из-за ее бедности.
Кардинал прикусил язык.
– Кажется, – заговорил он снова, – знатоки по части генеалогии не ставят под сомнение вашу родословную?
– А что толку? – презрительно откликнулась Жанна, очаровательно тряхнув завитыми и напудренными локонами на висках.
Кардинал пододвинул свое кресло – словно для того, чтобы его ноги оказались поближе к огню.
– Сударыня, – сказал он, – я хотел да и теперь хочу знать, чем бы я мог быть вам полезен.
– Ничем, монсеньор.
– Как это ничем?
– Ваше высокопреосвященство и так слишком ко мне добры.
– Давайте же говорить откровенно.
– Я и так откровенна дальше некуда, монсеньор.
– Но вы ведь только что жаловались, – возразил кардинал и обвел глазами комнату, словно желая напомнить Жанне ее слова насчет меблировки комнаты для гризетки.
– Совершенно верно, жаловалась.
– Так как же, сударыня?
– Я вижу, ваше высокопреосвященство желает подать мне милостыню, не так ли?
– Но сударыня!..
– Так оно и есть. Раньше я брала милостыню, но теперь не стану.
– Что вы хотите этим сказать?
– Ваше высокопреосвященство, я унижалась слишком долго, у меня нет более сил.
– Сударыня, вы употребили не то слово. Когда человек в несчастье, это вовсе не позорно…
– С моим-то именем? Послушайте, а вы стали бы просить милостыню, вы, господин де Роган?
– Обо мне речи нет, – смущенно и вместе с тем высокомерно отозвался кардинал.
– Ваше высокопреосвященство, мне известны лишь два способа просить милостыню: в карете или на паперти, в золоте и бархате или в рубище. Еще недавно я и не ожидала, что вы окажете мне честь своим визитом, я считала, что обо мне все забыли.
– Ах, так вы знали, что это я вам написал? – спросил кардинал.
– Я же видела ваш герб на печати, которою было запечатано письмо, что вы соблаговолили мне написать.
– И между тем вы сделали вид, что не узнали меня.
– Это потому, что вы не соизволили приказать, чтобы о вас доложили как следует.
– Что ж, ваша гордость мне по душе, – признался кардинал, вглядываясь в бойкие глаза и надменное лицо Жанны.
– Я говорила о том, – продолжала та, – что еще до встречи с вами приняла решение отказаться от жалких завес, под которыми прячется моя нищета, которые прикрывают наготу моего имени, и, одевшись в рубище, идти, подобно всем нищим христианам, просить подаяние и рассчитывать уже не на свою гордость, а на милосердие прохожих.
– Неужели у вас уже нет средств к существованию, сударыня?
Жанна промолчала.
– У вас ведь есть где-то земля, ее можно заложить. Или семейные драгоценности – вот эти, к примеру?
И кардинал указал на шкатулку, которую молодая женщина вертела в своих нежных белых пальцах.
– Эти? – переспросила она.
– Весьма оригинальная вещица, честное слово. Вы позволите? – взяв в руки шкатулку, кардинал с изумлением воскликнул: – О, да тут портрет?
– А вам известен его оригинал? – осведомилась Жанна.
– Но это же Мария Терезия.
– Мария Терезия?
– Да, императрица Австрийская.
– Не может быть! – воскликнула Жанна. – Вы в этом уверены, сударь?
Вместо ответа кардинал принялся разглядывать коробочку.
– Откуда она у вас? – поинтересовался он.
– От одной дамы, которая была тут позавчера.
– Здесь, у вас?
– Да, у меня.
– От дамы, говорите?
Кардинал с новым вниманием взглянул на шкатулку.
– Точнее, ваше высокопреосвященство, дам было две, – поправилась графиня.
– И одна из них оставила вам эту коробочку? – недоверчиво спросил де Роган.
– Нет, мне ее никто не давал.
– Тогда каким же образом она очутилась у вас в руках?
– Дама забыла эту коробочку здесь.
Кардинал задумался, да так глубоко, что заинтригованная графиня де Валуа решила, что ей следует быть начеку.
Наконец кардинал поднял голову и, внимательно глядя на графиню, проговорил:
– А как имя этой дамы? Простите, что задаю вам этот вопрос; мне самому неловко, словно я какой-нибудь судья.
– Действительно, монсеньор, вопрос странный, – заметила г-жа де Ламотт.
– Нескромный – быть может, но странный…
– Странный, повторяю вам. Знай я имя дамы, оставившей здесь эту шкатулку…
– Ну-ну?
– Я уже отослала бы ее обратно. Дама, естественно, дорожит этой вещью, а мне не хотелось бы платить ей неблагодарностью за ее любезный визит, заставляя ждать целых два дня.
– Так вы ее не знаете…
– Нет, мне известно лишь одно: она – одна из руководительниц благотворительного общества.
– В Париже?
– Нет, в Версале.
– В Версале? Руководительница благотворительного общества?
– Ваше высокопреосвященство! Я ничего не имею против женщин, которые оказывают помощь, не унижая человека, и одна из этих дам-благотворительниц, узнав о моем положении, уходя, оставила у меня на камине сотню луидоров.
– Сотню луидоров? – воскликнул кардинал, но, заметив, что Жанна недовольно поморщилась, и не желая ее обидеть, добавил: – Простите, сударыня, меня не удивляет, что вам дали такую сумму, вы заслуживаете всяческого внимания людей, занимающихся благотворительностью, а ваше положение просто повелевает им прийти к вам на помощь. Меня лишь удивило, что вы назвали эту даму руководительницей благотворительного общества – ведь они, как правило, оказывают вспомоществование в меньших размерах. Не могли бы вы описать мне эту даму, графиня?
– Это непросто, – ответила Жанна, чтобы сильнее разжечь любопытство собеседника.
– Почему непросто? Ведь она же была здесь?
– Быть-то была, но, по-видимому, не хотела, чтобы ее узнали, и прятала лицо под большим капюшоном. К тому же она была вся закутана в меха. Впрочем…
Графиня сделала вид, будто пытается что-то вспомнить.
– Впрочем? – подхватил кардинал.
– Кажется, я заметила… Но не могу сказать наверное, ваше высокопреосвященство.
– Что вы заметили?
– Голубые глаза.
– А рот?
– Небольшой, но губы несколько пухлые, особенно нижняя.
– Она была высока или же среднего роста?
– Среднего роста.
– Руки?
– Безупречные.
Шея?
– Длинная и худая.
– Лицо?
– Суровое и благородное.
Выговор?
– Она говорила с легким акцентом. Но вы, похоже, знаете, кто это, монсеньор?
– Откуда, графиня? – с живостью возразил прелат.
– Я чувствую это по тому, как вы меня расспрашиваете, и даже по расположению, которое испытывают друг к другу люди, занимающиеся благотворительностью.
– Нет, сударыня, я не знаю, кто это.
– Но у вас, наверное, есть какие-нибудь предположения?
– Откуда же им взяться?
– Вас мог навести на мысль портрет.
– Ах, да, – мгновенно отозвался кардинал, боясь, что может дать пищу для подозрений, – конечно, портрет…
– Так что же говорит вам портрет, ваше высокопреосвященство?
– Мне кажется, что это портрет…
– Императрицы Марии Терезии, не так ли?
– Похоже, что так.
– И вы думаете?..
– Я думаю, что вам нанесла визит какая-то немецкая дама – быть может, из тех, что основали богадельню…
– В Версале?
– Да, сударыня, в Версале.
И кардинал умолк.
Однако было заметно, что он все еще сомневается: присутствие в доме графини этой шкатулки лишь усугубило его недоверчивость.
Но вот чего Жанна никак не могла понять и чему тщетно искала объяснений: у принца явно была какая-то задняя мысль, причем для нее невыгодная. Она не ошибалась: кардинал подозревал, что ему расставили ловушку.
В самом деле, любой мог знать об интересе, который он питал к делам королевы, – такие слухи ходили среди придворных и ни для кого уже не были секретом; мы рассказывали, сколько стараний употребляли враги кардинала, чтобы поддерживать враждебность между королевой и ее главным раздавателем милостыни.
Как могла эта коробочка, которой королева часто пользовалась и которую он столько раз видел у нее в руках, оказаться у этой нищенки Жанны?
Неужто королева и вправду посетила ее убогое жилье?
А если так, то узнала ее Жанна или нет? Быть может, графиня по какой-то причине скрывает оказанную ей честь?
Прелат пребывал в сомнении.
Он начал сомневаться еще накануне. Имя Валуа заставило его насторожиться, и не зря: оказывается, речь шла не просто о бедной нищенке, а о принцессе, которую поддерживает королева, сама принося ей вспомоществование.
Неужели благотворительность Марии Антуанетты простирается до таких пределов?
Пока кардинал размышлял таким образом, Жанна, которая наблюдала за ним и видела, какие чувства его обуревают, терзалась страшными муками. И действительно: для людей с нечистой совестью нет горшей муки, чем видеть сомнения человека, которого они стараются убедить в своей правдивости.
Молчание тяготило обоих собеседников. Первым его нарушил кардинал:
– А вы обратили внимание на даму, сопровождавшую вашу благодетельницу? Можете описать, как она выглядит?
– Ее я рассмотрела прекрасно, – ответила графиня. – Она высока, хороша собой, с решительным выражением лица, прекрасной кожей и округлыми формами.
– А первая дама никак к ней не обращалась?
– Один раз, но только по имени.
– И что же это за имя?
– Андреа.
– Андреа! – вздрогнув, воскликнул кардинал.
И это его движение тоже не ускользнуло от внимания графини де Ламотт.
Теперь кардиналу стало ясно, как себя держать: имя Андреа рассеяло все его сомнения.
Третьего дня он узнал, что королева ездила в Париж вместе с мадемуазель де Таверне. По Версалю прошел слух о ее опоздании, закрытых дверях и какой-то супружеской ссоре между августейшими супругами.
Кардинал перевел дух.
На улице Сен-Клод не было ни ловушки, ни заговора. Г-жа де Ламотт теперь показалась ему хорошенькой и чистой, словно ангел.
Тем не менее следовало подвергнуть ее еще одному испытанию. Принц был большой дипломат.
– Графиня, – сказал он, – меня, признаюсь, больше всего удивляет одно обстоятельство.
– Какое, монсеньор?
– Меня удивляет, что вы, с вашим происхождением и титулом, не обратились к королю.
– К королю?
– Нуда.
– Ваше высокопреосвященство, я посылала ему прошения раз двадцать.
– Безуспешно?
– Увы.
– Но ваши письма должны были дойти и до принцев царствующего дома. К примеру, герцог Орлеанский – человек весьма сострадательный и к тому же часто любит делать то, чего не делает король.
– Я обращалась к его высочеству герцогу Орлеанскому, но все без толку.
– Без толку? Это меня удивляет.
– Воля ваша, но если человек беден и никто не может замолвить за него словечко, все его прошения пропадают без следа в прихожей принцев.
– Но есть еще граф д'Артуа. Беспутные люди порой поступают даже достойнее, чем те, кто занимается благотворительностью.
– Его высочество граф д'Артуа поступил так же, как его высочество герцог Орлеанский и его величество король Франции.
– Но есть, наконец, тетушки короля. Уж они-то – или я сильно в них ошибаюсь – должны были ответить вам положительно.
– Нет, монсеньор.
– Нет, я не могу поверить, что и у принцессы Елизаветы, сестры короля, бесчувственное сердце.
– Вы правы, монсеньор. Когда я обратилась к ее королевскому высочеству, она пообещала меня принять, однако, не знаю уж почему, но, приняв моего мужа, она не соизволила сказать мне хоть что-то, а я ведь несколько раз нарочно попадалась ей на глаза.
– Как странно, ей-богу! – пробормотал кардинал. И вдруг, словно эта мысль только что пришла ему в голову, он воскликнул:
– Господи, мы же с вами совсем забыли!
– О чем?
– Об особе, к которой вам следовало обратиться в первую очередь.
– К кому же я должна была обратиться?
– К той, что повсюду расточает свои милости и никому не отказывает в помощи – к королеве!
– К королеве?
– Нуда, к королеве. Вы ее видели?
– Ни разу в жизни, – простосердечно ответила Жанна.
– Как! Вы не посылали прошения королеве?
– Никогда.
И не пытались добиться аудиенции?
– Пыталась, но у меня ничего не вышло.
– Вам следовало хотя бы как-нибудь попасться ей на глаза, чтобы она вас заметила и позвала ко двору. Это верный способ.
– Я никогда не пыталась им воспользоваться.
– Ей-богу, сударыня, вы говорите нечто невероятное.
– Просто я была в Версале только два раза в жизни и виделась там лишь с доктором Луи, лечившим моего бедного отца в Отель – Дьё, и с господином бароном де Таверне, которому меня рекомендовали.
– И что же сказал вам господин де Таверне? Он вполне мог устроить вам встречу с королевой.
– Он сказал мне, что я растяпа.
– То есть?
– Он заявил, что отстаивать перед королем свой титул все равно, что набиваться к нему в родственники, а бедных родственников никто не любит.
– В таком случае барон – эгоист и грубиян, – проронил принц.
Затем, вспомнив о визите Андреа к графине, он подумал: «Занятно: отец выставляет просительницу вон, а королева приводит к ней его дочь. Из этого что-нибудь да выйдет».
– Слово дворянина, – воскликнул он вслух, – я счастлив познакомиться с очаровательной просительницей, женщиной благороднейшего происхождения, которая в жизни не видела ни короля, ни королеву.
– Разве что на портретах, – улыбнувшись, заметила Жанна.
– Обещаю, – продолжал кардинал, убедившийся в том, что графиня действительно искренна и ни о чем не подозревает, – что если понадобится, я сам повезу вас в Версаль и сделаю так, чтобы перед вами раскрылись все двери.
– О, ваше высокопреосвященство, как вы добры! – вне себя от радости вскричала г-жа де Ламотт.
Кардинал пододвинулся к ней поближе.
– Немыслимо, – сказал он, – чтобы через короткое время все на свете не приняли в вас участия.
– Увы, монсеньор, – очаровательным вздохом отозвалась графиня, – неужели вы искренне в это верите?
– Несомненно.
– По-моему, вы мне льстите, монсеньор.
С этими словами г-жа де Ламотт пристально посмотрела на кардинала.
Столь разительная и скорая перемена удивила графиню, тем более что минут десять назад кардинал обращался с ней с поистине королевской небрежностью.
Взгляд Жанны, выпущенный, словно стрела из лука, то ли угодил де Рогану прямо в сердце, то ли просто затронул его чувственность. Во взгляде этом таилось пламя честолюбия или желания, но в любом случае пламя.
Знаток женщин, г-н де Роган вынужден был признать, что ему редко приходилось встречать столь обольстительные взоры.
«Силы небесные! – подумал он как истый придворный дипломат. – Это или нечто невероятное, или большая удача: я повстречал порядочную женщину с внешностью обманщицы, нищую, но протеже всемогущей покровительницы!»
– Ваше высокопреосвященство, – прервала его размышления сирена, – вы порою замолкаете, и это меня, простите, настораживает.
– Что же именно вас настораживает, графиня? – полюбопытствовал кардинал.
– А вот что, монсеньор: люди вроде вас могут позволить себе неучтивость по отношению к женщинам двух сортов.
– Боже, что у вас на уме, графиня? Право слово, вы меня пугаете.
И кардинал взял г-жу де Ламотт за руку.
– Да, к женщинам двух сортов – я это сказала и повторю еще раз, – настаивала графиня.
– Каких же?
– Либо к женщинам, которых слишком любят, либо к женщинам, к которым относятся с недостаточным уважением.
– Графиня, графиня, вы вгоняете меня в краску. Я позволил себе неучтивость по отношению к вам?
– Еще бы!
– Не надо так говорить, это ужасно!
– Но ваше высокопреосвященство, в самом деле: слишком любить меня вы не можете, а повода меня не уважать я, кажется, пока не дала.
Кардинал снова взял Жанну за руку.
– Ах, графиня, вы говорите со мною так, словно за что-то сердитесь.
– Нет, монсеньор, моего гнева вы пока не заслуживаете.
– И никогда не заслужу, сударыня, начиная с этого дня, когда я имел счастье вас увидеть и познакомиться с вами.
«Ах, хорошо бы взглянуть сейчас в зеркало!» – подумала графиня.
– И с этого дня, – продолжал кардинал, – я не оставлю вас своими заботами.
– Ах, полно вам, монсеньор! – сказала Жанна, однако свою руку из ладоней кардинала не вынула.
– Что вы хотите этим сказать?
– Не говорите мне о своем покровительстве.
– Боже сохрани, чтобы я когда-нибудь произнес слово «покровительство»! О сударыня, унижен буду я, а не вы.
– В таком случае, господин кардинал, давайте условимся об одной вещи, которая мне чрезвычайно польстит.
– Коли так, непременно условимся, сударыня.
– Давайте условимся, ваше высокопреосвященство, что вы нанесли визит вежливости графине де Ламотт-Валуа, и не более того.
– Но тогда и не менее, – галантно ответил кардинал. Он поднес пальцы Жанны к губам и запечатлел на них довольно долгий поцелуй. Графиня убрала руку.
– Ах, эта вежливость! – произнес кардинал со вкусом и отменной серьезностью.
Жанна снова протянула ему руку, которую на сей раз прелат поцеловал с большим почтением.
– Вот так-то лучше, ваше высокопреосвященство.
Кардинал поклонился.
– Сознавать, что я, – продолжала графиня, – занимаю местечко, пусть даже самое крошечное, в уме столь выдающегося и занятого человека, как вы, – клянусь вам, одна эта мысль будет служить мне утешением целый год.
– Год? Но это так мало, графиня. Будем надеяться, что дольше.
– Что ж, я не говорю «нет», господин кардинал, – с улыбкой отвечала Жанна.
Обращение «господин кардинал» было фамильярностью, которую г-жа де Ламотт допустила уже второй раз. Прелат, человек весьма гордый и ранимый, мог бы удивиться этому, однако дело уже зашло столь далеко, что он не только не удивился, но даже порадовался обмолвке как обещанию со стороны графини.
– Ах, доверьтесь же мне! – воскликнул он, пододвигаясь еще ближе. – Вот так будет лучше.
– Я вам верю, ибо чувствую, что ваше высокопреосвященство…
– А только что вы назвали меня «господин кардинал», графиня.
– Простите, ваше высокопреосвященство, придворный этикет мне незнаком. Я говорю, что верю вам, ибо вы можете понять мой отважный и дерзкий ум и чистое сердце. Несмотря на то, что я так страдала от нужды, столько боролась со злобными недругами, ваше высокопреосвященство способны увидеть по моим речам все, что во мне достойно уважения. А к остальному, надеюсь, ваше высокопреосвященство будете снисходительны.
– Итак, мы друзья, сударыня. Договорились?
– Мне очень бы этого хотелось.
Кардинал встал и подошел к г-же де Ламотт, но поскольку руки его для простой проповеди были разведены слишком широко, легкая и гибкая графиня ускользнула из их кольца.
– Дружба втроем! – проговорила она с неподражаемой смесью насмешки и невинности.
– Втроем?
– Ну разумеется. Неужели вы забыли, что где-то на свете есть бедный кавалерист, которого зовут граф де Ламотт?
– О сударыня, что за прискорбное воспоминание!
– Но я должна говорить вам о нем, поскольку сами вы этого делать не станете.
– Знаете, почему я не говорю о нем, графиня?
– Ну, скажите.
– Он сам станет напоминать о себе: о чужих мужьях не забывают, уж поверьте.
– Но ведь он будет напоминать лишь о себе?
– А люди будут говорить о вас, о нас.
– Каким образом?
– Скажут, к примеру: господин де Ламотт радуется или же огорчается, что господин кардинал де Роган три, четыре, пять раз в неделю приезжает к госпоже де Ламотт на улицу Сен-Клод.
– Да будет вам, господин кардинал! Три, четыре, пять раз в неделю?
– Дружба есть дружба, сударыня. Я сказал пять раз? Я ошибся. Я хотел сказать шесть или даже семь, не считая еще одного дня в високосный год.
Жанна рассмеялась.
Кардинал отметил, что она в первый раз изволила обратить внимание на его шутку, и почувствовал себя польщенным.
– Но вы сможете сделать так, чтобы разговоров не было? – спросила графиня. – Вы же понимаете, это невозможно.
– Смогу, – ответил де Роган.
– А как?
– О, это совсем нетрудно. Плохо ли, хорошо ли, но народ в Париже меня знает.
– Конечно, знает, притом хорошо, ваше высокопреосвященство.
– А вас, увы, нет.
– Ну так что ж?
– А теперь давайте поставим вопрос иначе.
– Иначе? То есть…
– Ну, смотрите. Если, к примеру…
– Продолжайте.
– Если из дому будете выходить вы, а не я?
– Чтобы я пришла к вам в особняк, монсеньор?
– К министру же вы пойдете?
– Министр – не мужчина, монсеньор.
– Вы просто восхитительны. Но речь идет не о моем особняке, у меня есть дом.
– Точнее, домик?
– Вовсе нет, дом, предназначенный для вас.
– Дом? Для меня? – воскликнула графиня. – И где же он? Мне о нем ничего не известно.
Кардинал, который было снова сел, поднялся с кресла.
– Завтра в десять утра вы получите адрес.
Графиня зарделась, и кардинал учтиво взял ее за руку. На этот раз поцелуй оказался почтительным, нежным и дерзким в одно и то же время.
Церемонию прощания собеседники завершили улыбкой, предвещающей скорую близость.
– Посветите его высокопреосвященству! – крикнула графиня.
Появилась старуха со свечой.
Прелат ушел.
«Кажется, первый шаг в свет недурен», – подумала Жанна.
«Ну – ну, – влезая в карету, думал кардинал, – я сделал сразу два дела. Эта женщина слишком умна, чтобы вести себя с королевой так же, как вела себя со мной».
16. Месмер и Сен-Мартен[47]
Были времена, когда весь Париж, свободный от каких бы то ни было дел, предавался сплошному досугу, увлекаясь вопросами, которые в наши дни составляют монополию богачей, считающихся никчемными, да ученых, считающихся бездельниками.
В 1784 году, до коего мы с вами добрались, моднейшим вопросом, повсюду витавшим в воздухе и, словно облако среди горных вершин, застревавшим в хоть сколько-нибудь образованных и возвышенных умах, был месмеризм – наука загадочная и почти не разъясненная ее создателями, которые, не испытывая потребности сделать свое детище достоянием народа с самого момента его рождения, позволили этой науке взять имя человека, так сказать, аристократический титул, вместо того чтобы назвать ее каким-нибудь ученым греческим словом, коими нынче скромные я застенчивые ученые вводят в обиход научные понятия.
Да и к чему в 1784 году было демократизировать науку? Разве народ, которым правили уже более полутора веков, не спрашивая его мнения[48], жаловался на что-либо в своем государстве? Отнюдь. Народ лишь представлял собою плодоносную пашню, дававшую урожай, тучную ниву, которую в положенный срок жали. Но хозяином этой пашни был король, а жнецами – знать.
Нынче все стало по-иному: Франция, похожая на громадные песочные часы, в течение девяти столетий отмеривала время монархии, а могучая власть Господа их переворачивала; теперь же часы эти будут отмеривать время народа.
В 1784 году имя человека еще служило рекомендацией. Сегодня же – напротив: успех определяется именем вещей.
Однако давайте оставим «сегодня» и бросим взгляд в день вчерашний. Ну что такое полвека с точки зрения вечности? Это даже меньше, чем отрезок времени, разделяющий вчера и сегодня.
Итак, доктор Месмер находился в то время в Париже, как мы узнали от самой Марии Антуанетты, когда она просила у короля разрешения нанести ему визит. Да будет нам позволено теперь сказать несколько слов о докторе Месмере, имя которого, знакомое нынче лишь немногим посвященным, не сходило в описываемую нами пору у людей с языка.
В 1777 году доктор Месмер привез из Германии, этой страны туманных грез, науку, над которой, так сказать, собрались тучи и блистали молнии. В свете этих молний ученый видел лишь тучи, образовавшие у него над головою мрачный свод, тогда как обыватель замечал лишь сами молнии.
Месмер дебютировал в Германии работой о воздействии планет на людей. Он пытался доказать, что небесные тела благодаря силам их взаимного притяжения оказывают воздействие на живые существа, и в особенности на их нервную систему, через посредство мельчайших флюидов, наполняющих вселенную. Однако эта его первая теория была довольно абстрактна. Чтобы ее уразуметь, следовало иметь представление о работах Галилея и Ньютона. Она представляла собою смесь астрономии с астрологическими бреднями и не могла быть понята не только простыми людьми, но и аристократами, которые, чтобы ее постичь, должны были бы организовать научное общество. Месмер бросил эту идею и занялся магнитами.
В то время магниты изучались весьма интенсивно, свойства притяжения и отталкивания делали их похожими на человеческие существа, поскольку как бы наделяли неживые минералы двумя главнейшими человеческими страстями – любовью и ненавистью. Потому-то магнитам и приписывали необычайные целебные свойства. И вот Месмер ввел магниты в свою первую теорию и попытался посмотреть, что из этого получится.
К несчастью, приехав в Вену, Месмер обнаружил, что у него уже есть соперник. Некий ученый по фамилии Галль[49] заявил, что Месмер похитил у него разработанный им метод. Тогда Месмер как человек изобретательный заявил в свой черед, что магнитами он заниматься больше не будет, так как они совершенно бесполезны, и отныне станет лечить с помощью не вещественного, а животного магнетизма.
В слове этом, прозвучавшем из его уст как новое, никакого открытия, в сущности, не заключалось: магнетизм был известен еще в древности, использовался в египетских ритуалах, а также греческими предсказателями, и его традиции тянулись в средние века, когда кое-что из этой науки применяли чародеи XIII, XIV и XV веков. Многие из них сгинули в пламени костров и стали мучениками этого странного вероучения.
Юрбен Грандье[50] был не кем иным, как магнетизером.
Месмер слышал немало разговоров о чудесах магнетизма. Жозеф Бальзамо, герой одной из наших книг, оставил следы своего пребывания в Германии, в частности в Страсбурге. Месмер принялся по крупицам собирать сведения об этой науке, разбросанные повсюду, точно огоньки, блуждающие ночью над берегом пруда, и создал в конце концов цельную теорию, которую назвал месмеризмом.
После этого он послал тезисы своего учения в Парижскую Академию наук, Лондонское Королевское общество и Берлинскую Академию. Две первые корпорации не ответили ему вовсе, а последняя обозвала сумасшедшим.
Тогда Месмер вспомнил некоего греческого философа, который отрицал движение и которого его противник посрамил, пройдя на его глазах несколько шагов. Он прибыл во Францию, принял от доктора Сторка и окулиста Венцеля семнадцатилетнюю девушку, страдающую заболеванием печени и темной водой[51] и после трехмесячного лечения болезнь была побеждена – слепая прозрела.
Это исцеление убедило многих, и среди них врача по имени Делон: из противника он превратился в апостола.
Начиная с этого времени слава Месмера стала расти; Академия высказалась против новоявленного целителя, однако двор его поддержал. Министерство начало переговоры с Месмером, предлагая ему облагодетельствовать человечество, открыв секрет своей науки. Месмер назначил свою цену. Поторговавшись, г-н де Бретейль[52] от имени короля посулил ему пожизненную пенсию в размере 20 000 ливров и, кроме того, 10000 ливров за то, что он обучит своему искусству трех человек, выбранных правительством. Однако Месмер, возмущенный скаредностью короля, отказался, взяв с собою нескольких больных, уехал на воды в Спа.
Но тут Месмер получил неожиданный удар. Делон, его ученик Делон, владевший секретом, который Месмер отказался продать за 30 000, открыл общедоступный кабинет, где стал лечить с помощью месмеризма.
Узнав эту страшную новость, Месмер стал кричать, что его обокрали, обжулили; он едва не сошел с ума. Но одному из взятых им с собою больных, г-ну де Бергасу, пришла в голову счастливая мысль отдать способ знаменитого профессора в руки своеобразного товарищества на вере. Он организовал комитет из ста человек с капиталом в 340 000 ливров, поставив условие, что Месмер раскроет пайщикам свой секрет. Месмер сообщил им все, что они просили, забрал деньги и вернулся в Париж.
Момент оказался благоприятным. В жизни народов случаются минуты, предшествующие серьезным преобразованиям, когда вся нация как бы останавливается перед неведомой преградой, колеблется, чувствуя, что дошла до края пропасти, хотя ее и не видит.
Во Франции как раз настала такая минута: внешне страна выглядела спокойной, но дух ее пребывал в смятении, люди как бы застыли в своем призрачном счастье, предвидя его скорый конец; так, человек, дойдя до края леса и увидав, что он редеет, угадывает близость опушки. Спокойствие, в котором не было ничего прочного и реального, утомляло; люди искали сильных впечатлений и встречали любые новшества с распростертыми объятиями. Все стали слишком легкомысленны, чтобы интересоваться, как прежде, вопросами управления государством или молинизма[53], и ссорились по поводу музыки, принимая сторону Глюка или Пиччини[54], страстно обсуждали «Энциклопедию»[55] и мемуары Бомарше.
Появление новой оперы занимало большее число умов, нежели мирный договор с Англией и признание республики Соединенных Штатов. Это было время, когда мыслящие люди, познавшие благодаря философам истину, а значит, и разочарование, устали от прозрения, позволяющего проникнуть в суть вещей, и шаг за шагом пытались преодолеть границы реального мира, чтобы вступить в мир грез и фантазий.
И действительно, если можно считать доказанным, что лишь ясные и понятные истины быстро становятся достоянием масс, не менее неоспоримо и то, что тайны обладают для всех людей могущественной притягательной силой. Вот и народ Франции неодолимо влекла к себе странная загадка месмерических флюидов, которые, по мнению адептов, возвращали больным здоровье, безумным – разум и делали из мудрецов безумцев.
Везде только и слышалось имя Месмера. Что он сделал? На ком теперь произвел свою чудесную операцию? Какому знатному вельможе вернул зрение или силу? Какой даме, изнуренной бессонными ночами, проведенными за игрой, привел в порядок расстроенные нервы? Какой молоденькой девушке открыл будущее, введя ее в магнетический транс?
Будущее! Великое слово всех времен, великая загадка для всех умов, разрешение всех проблем! Да и то сказать – какое тогда было настоящее?
Королевская власть без великолепия, дворянство без влияния, страна без торговли, народ без прав, общество без уверенности.
От королевской семьи, в тревоге и одиночестве восседающей на троне, до семьи простолюдина, чуть не умирающей с голоду в какой-нибудь трущобе, – везде нищета, бесславие и страх.
Позабыть о других и думать лишь о себе, почерпнуть из нового, странного, неведомого источника уверенность в долгой жизни без недугов, вырвать хоть что-нибудь у скупого неба – разве это не предмет чаяний, причем вполне объяснимых, любого человека, которому Месмер приоткрывал завесу будущего?
Вольтер умер, и во Франции не стало слышно взрывов веселья, остался разве что смех Бомарше, еще более горький, чем у его учителя. Умер Руссо, и во Франции не осталось больше религиозных философов. Руссо пытался поддержать Бога, но после его смерти никто более на это не отважился из страха оказаться раздавленным немыслимой тяжестью.
Когда-то французы серьезно занимались войной. Короли поддерживали в своих подданных национальный героизм, но теперь единственной войной, которую вела Франция, была американская, и к тому же король лично никак в ней не участвовал. Французы сражались за какое-то неведомое понятие, которое американцы называли независимостью – словом, весьма абстрактно понимаемым французами как свобода.
Да и эта далекая война, что велась, в сущности, другим народом и в другом мире, только что закончилась.
По зрелом размышлении людям казалось, что стоит и впрямь интересоваться лучше Месмером, этим немецким врачом, который уже второй раз привел Францию в волнение, нежели лордом Корнуолом[56] или же г-ном Вашингтоном – они ведь так далеко, что их, скорее всего, никто никогда и не увидит.
А Месмер был рядом: его можно увидеть, можно прикоснуться к нему и – самое могучее желание трех четвертей Парижа – ощутить его прикосновение.
И вот этот человек, которого со дня его появления в Париже никто не поддерживал, даже королева, всегда охотно помогавшая своим соотечественникам, и который, если бы не предательство доктора Делона, так и пребывал бы в безвестности, – этот человек поистине царил в умах всего города, оставив далеко позади короля, с которым он никогда не разговаривал, г-на де Лафайета[57], с которым еще не разговаривал, и г-на Неккера[58], с которым уже не разговаривал.
И как если бы уходящий век поставил своей задачей дать каждому уму то, к чему он склонен, сердцу – то к чему оно лежит, и телу – то, что ему требуется, лицом к лицу с материалистом Месмером встал спиритуалист Сен-Мартен, чье учение призвано было утешить тех, кому претил позитивизм немецкого врача.
Представьте себе атеиста с вероучением более добрым, чем сама религия, республиканца, преисполненного учтивого почтения к королям, дворянина, принадлежащего к привилегированным классам, но при этом нежно любящего народ, представьте, наконец, как этот человек, наделенный даром железной логики и пленительного красноречия, нападает на все существующие религии, которые называет безрассудными лишь по той причине, что они все подразумевают наличие Бога.
Вообразите Эпикура в белом пудреном парике, расшитом кафтане, блестящем камзоле, коротких атласных штанах, шелковых чулках и красных башмаках, Эпикура, не только опрокидывающего богов, в которых он не верит, но и сотрясающего правительства, которые считает культами, так как те никогда не могут согласиться друг с другом и почти всегда приводят человечество к несчастьям.
Он выступал против социального законодательства, ставя его под сомнение следующим тезисом: оно одинаково наказывает несхожие преступления, карает следствия, не разобравшись в причинах.
Теперь вообразите, что этот искуситель, называвший себя Неведомым философом, с целью объединить людей разного образа мыслей собрал воедино все, что можно найти привлекательного в обещаниях духовного рая, и вместо утверждения о равенстве всех людей, что само по себе нелепость, изобрел формулу, которая, казалось, вертелась на языке даже у тех, кто ее отрицал: «Все мыслящие люди – короли!»
А теперь представьте, что подобного рода нравственный принцип внезапно стал достоянием общества без надежд и руководителей, общества, напоминающего архипелаг, воды которого изобилуют подводными рифами, то бишь всевозможными идеями. И если вы вспомните, что в те времена женщины были нежны и безрассудны, мужчины жаждали власти, почестей и удовольствий, что короли позволили своим коронам покачнуться и на них впервые остановился любопытный и угрожающий взгляд кого-то, таящегося во мраке, – если вы вспомните все это, то вряд ли удивитесь количеству приверженцев, которых снискала себе доктрина, гласившая:
«Выберите среди вас душу, превосходящую другие в любви, милосердии, в могучем желании любить и приносить счастье. Когда же такой человек будет найден, склонитесь перед ним, смиритесь, уничижитесь, признайте себя существами низшими по сравнению с ним, чтобы дать пространство для неограниченной власти его души, миссия которой – восстановить в вас главный нравственный принцип, то есть равенство в страданиях, поскольку в силу своих способностей и окружения вы сейчас неравны».
Добавьте к этому, что неведомый философ окружил себя тайной и предпочитал глубокий мрак вдали от всяческих соглядатаев и прихлебателей для мирного обсуждения своей великой социальной теории, способной стать политикой всего мира.
– Слушайте меня, – говорил он, – верные друзья, преданные сердца, слушайте и постарайтесь понять, а возможно, даже не слушайте, потому что, если вам интересно и у вас есть желание меня понять, это удастся с большим трудом – ведь я не раскрываю своих тайн тем, кто сам не пытается приподнять над ними завесу.
– Я говорю вещи, которые, кажется, вовсе не хочу сказать, потому-то часто и складывается впечатление, что я хочу сказать вовсе не то, что говорю.
И Сен-Мартен был прав: его вправду окружали молчаливые, угрюмые и ревностные защитники его идей, непонятная религиозная мистика которых была непроницаема для постороннего взора.
Вот так, трудясь во славу души и материи, мечтая уничтожить Бога и религию Христа, эти двое разделили по убеждениям всех мыслящих людей, все избранные натуры Франции на два лагеря.
Вокруг ванны Месмера, откуда струилось благополучие, объединилась вся чувственность и изящный материализм вырождающейся нации, тогда как вокруг книги заблуждений и истин собрались натуры набожные, милосердные, любящие и жаждущие, вкусив химер, просветлиться.
А если учесть, что за пределами этих привилегированных сфер кипели и бурлили самые разные идеи, что слухи, вырвавшись наружу, превращались в раскаты грома, подобно отдаленным зарницам, превращающимся в молнии, нетрудно будет понять неопределенное состояние, в котором находились низшие слои общества, то есть буржуазия и народ, которых позже назовут третьим сословием: они угадывали только, что речь идет об их судьбах, и в своем нетерпении и смирении горели, словно новые Прометеи, желанием похитить священный огонь и с его помощью вдохнуть жизнь в мир, который будет принадлежать им и в котором они сами будут вершить свою судьбу.
Заговоры под видом бесед, союзы под видом кружков, общественные партии под видом кадрилей, другими словами, гражданская война и анархия – вот чем казалось все это человеку думающему, который еще не прозревал другой жизни для общества.
Увы! Сегодня, когда все покровы уже сорваны, когда нация Прометеев уж раз десять была опалена похищенным ею самою огнем, скажите: что мог предвидеть мыслящий человек в конце этого странного XVIII века? Или разрушение мира, или нечто похожее на то, что произошло между смертью Цезаря и восшествием на престол Августа.
Август отделил мир языческий от мира христианского, так же как Наполеон отделил мир феодальный от мира демократического.
Впрочем, довольно занимать читателя этим отступлением, которое, должно быть, показалось ему несколько затянутым, однако, ей-же-ей, трудно осветить нужную нам эпоху, не касаясь столь серьезных и жизненно важных вопросов.
Но попытку мы все же сделали. Это похоже на попытку ребенка, соскабливающего ноготком ржавчину с постамента античной статуи, чтобы прочитать на три четверти стершуюся надпись.
Вернемся же к тому, что видно на первый взгляд. Продолжая описывать действительность, мы сказали бы слишком много для романиста и слишком мало для историка.
Картина, которую мы попытались нарисовать в предыдущей главе, картина тех времен и личностей, занимающих умы общества, поможет читателю понять, почему публичные исцеления Месмера производили на парижан столь неотразимое впечатление.
Потому-то король Людовик XVI, если не из любопытства, то, по крайней мере, из уважения к новинке, поднявшей столько шума в славном городе Париже, разрешил королеве – при условии, как мы помним, что августейшую посетительницу будет сопровождать принцесса, – съездить посмотреть разок на то, что все уже видели.
Это произошло через два дня после того, как г-н кардинал де Роган нанес визит г-же де Ламотт.
Погода улучшилась: наступила оттепель. Целая армия метельщиков, гордых и довольных тем, что могут наконец покончить с зимой, с усердием солдат, копающих траншею, сгребала в канавы остатки грязного снега, превращавшегося на глазах в черные ручьи.
На синем прозрачном небе начали загораться первые звезды, когда г-жа де Ламотт, изящно одетая и производившая впечатление женщины состоятельной, приехав в экипаже, который г-жа Клотильда постаралась выбрать поновее, остановилась на Вандомской площади, перед величественным домом с ярко освещенными окнами по фасаду.
Это был дом доктора Месмера.
Кроме экипажа г-жи де Ламотт, перед зданием стояло множество других экипажей и портшезов, а также топталось несколько сотен зевак, ожидавших выхода излеченных и прибытия тех, кому еще предстояло излечиться.
Последние, почти все люди богатые и титулованные, прибывали в каретах с гербами, и лакеи помогали им выйти или даже выносили их на руках. Эти своего рода тюки, закутанные в меховые плащи и атласные шубы, все же не служили утешением для тех голодных и полуголодных людей, которые искали у дверей описанного нами дома доказательств того, что Господь делает человека больным или здоровым, невзирая на его генеалогическое древо.
Когда кто-нибудь из больных, бледный, едва шевеля руками и ногами, скрывался за внушительной дверью, по собравшимся пробегал шепоток, и редко когда эта любопытная и сообразительная толпа, любившая наблюдать у входа на бал или под портиками театра за жадными до развлечений аристократами, не узнавала в страдальце то герцога с парализованной рукой или ногой, то генерал-майора, которому отказали ноги – не столько из-за тягот военных походов, сколько из-за утомления, вызванного привалами у дам из Оперы или Итальянской комедии.
Изыскания, производимые толпой, само собой разумеется, относились не только к мужчинам.
Вот, к примеру, гайдуки тащат на руках женщину с поникшей головою и мутным взором, похожую на римскую матрону, несомую после трапезы верными фессалийцами. Дама сия страдает нервными болями или обессилена от излишеств и бессонных ночей, ее не в силах вернуть к жизни ни модные комедианты, ни бодрые ангелы, о которых так чудно умеет рассказывать г-жа Дюгазон[59], и поэтому она явилась к ванне Месмера искать то, чего не смогла найти в других местах.
Пусть читатель не думает, что мы преувеличиваем из желания выставить тогдашние нравы в как можно более дурном свете. Разумеется, следует признать, что в те времена они часто бывали не слишком целомудренны и у светских дам, и у девиц из театров. Одни, по принятому в Бретани обычаю, похищали у актерок их приятелей и кузенов, другие отбирали у светских дам их мужей и любовников.
Некоторые из этих дам пользовались не меньшей известностью, чем мужчины, и имена их довольно громогласно произносились в толпе, однако многие, чьи имена не были связаны ни с какими скандалами, избегая внимания публики, прибывали к Месмеру в атласных масках.
Дело в том, что на этот день приходилась середина поста, в Опере был назначен бал-маскарад, и многие дамы намеревались отправиться с Вандомской площади прямо в Пале-Рояль.
Под стоны, иронические и восхищенные восклицания и говор толпы г-жа де Ламотт твердым шагом прошла к дому; ее появление вызвало лишь одно замечание, несколько раз повторенное зеваками: – Ну уж эта-то не больна.
Однако не следует впадать в заблуждение: эта фраза отнюдь не означала, что появление г-жи де Ламотт не вызвало в толпе никаких пересудов.
Ведь если она была здорова, то с какой целью приехала к доктору Месмеру?
Знай толпа о событиях, которые мы недавно описали, она сразу бы поняла, что дело объясняется просто.
Г-жа де Ламотт много размышляла над своим разговором с кардиналом де Роганом. Ее особенно занимало то внимание, с которым он отнесся к шкатулке с портретом, забытой или, точнее, потерянной у нее в квартире.
А поскольку имя владелицы шкатулки скрывало тайну внезапной благожелательности кардинала, г-жа де Ламотт нашла два способа ее узнать.
Сначала она прибегла к наиболее простому. Она отправилась в Версаль, чтобы расспросить в благотворительном обществе о немецких дамах.
Но как и следовало ожидать, там она ничего не узнала. Дам из Германии в Версале было предостаточно – около двухсот: королева проявляла к своим соотечественницам нежную симпатию.
Все они были весьма милосердны, однако ни одной из них не пришло в голову организовать благотворительное общество.
Поэтому Жанна тщетно расспрашивала о дамах, посетивших ее, и столь же тщетно называла имя одной из них – Андреа. В Версале не знали дамы, носящей это имя, впрочем, мало похожее на немецкое.
Итак, здесь поиски ни к чему не привели.
Спросить же у г-на де Рогана имя, которое пришло ему в голову, означало, во-первых, насторожить его, а во-вторых, лишить себя удовольствия и заслуги самой преодолеть немыслимые препятствия и выяснить все, что нужно.
А поскольку и в появлении дам у Жанны, и в удивлении и недомолвках г-на де Рогана скрывалась некая тайна, то и разгадку ее следовало искать с помощью таинственных сил.
К тому же для самой Жанны в такой борьбе с неведомым было много привлекательного.
Уже в течение известного времени она слышала ходившие по Парижу толки о некоем ясновидце и чудотворце, который придумал способ избавлять человеческий организм от недугов и страданий, подобно Христу, изгонявшему бесов из одержимых.
Она знала, что человек этот не только излечивает болезни тела, но и умеет вырвать из человеческой души мучительную тайну, которая ее подтачивает. Под действием его могущественных заклинаний твердая воля такого рода посетителей сменялась рабской покорностью.
После того как ученый врач успокаивал самого возбужденного человека, погружая его в полное забытье, во время сна, который следовал за физическими страданиями, душа пациента, благодарная чародею за отдых, отдавалась в полное распоряжение своего нового хозяина. Отныне он управлял всеми ее движениями, мог внушить каждую свою мысль с помощью языка, имевшего по сравнению с обычным преимущество, а может, и недостаток: он никогда не лгал.
Более того, выйдя по приказу своего временного хозяина из служившего ей тюрьмою тела, душа эта отправлялась бродить по белу свету, смешивалась с другими душами, принималась безостановочно их выпытывать, безжалостно проникала в самую их глубину и, словно добрая охотничья собака, выгоняющая дичь из ее надежного убежища в кустах, в конце концов исторгала тайну человека, скрытую у него в сердце, преследовала ее, настигала и приносила к ногам хозяина. Все это очень напоминало картину, когда хорошо обученный охотничий сокол рыскает в облаках в поисках цапли, куропатки или жаворонка, исполняя по приказу сокольника свою кровавую службу.
Отсюда и огромное количество выведанных Месмером тайн.
Таким манером г-жа де Дюрас отыскала своего ребенка, похищенного у кормилицы, г-жа де Шантоне – английскую собачонку величиною с кулак, за которую готова была отдать всех детей на свете, а г-н де Водрейль – локон, который ценил в половину всего своего состояния.
Эти открытия были сделаны через посредство ясновидящих, подвергшихся магнетическому влиянию доктора Месмера.
В доме прославленного врача можно было выбрать тайну, наиболее подходящую для раскрытия своих сверхъестественных способностей к ясновидению; поэтому г-жа де Ламотт рассчитывала, побывав на сеансе, найти человека, с помощью которого она сможет обнаружить владелицу шкатулки, составлявшей предмет ее крайней озабоченности.
Вот почему она с такой поспешностью прошла в залу, где собирались больные.
С позволения читателя мы опишем эту залу как можно подробнее.
Итак, вперед!
В доме врача были две главные залы.
Пройдя через прихожие и непременно показав привратнику пропуск, вы попадали в гостиную с плотно закрытыми окнами, которые не пропускали свет и воздух днем, а ночью еще и шум.
Посреди гостиной, под люстрой, свечи в которой светили так слабо, что едва не гасли, стоял большой чан, закрытый крышкой.
Форма этого чана изяществом не отличалась. Он никак не был украшен, никакая драпировка не скрывала его голых металлических стенок.
Этот чан и назывался «ванной Месмера».
Но в чем же заключались ее свойства? Объяснить это несложно.
Ванна была почти до краев налита водой с растворенными в ней сернистыми соединениями, испарения которых собирались под крышкой и наполняли укрепленные там горлышком вниз бутылки.
Потоки испарений таинственным образом пересекались в ванне, чему больные и приписывали свое выздоровление.
К крышке было припаяно железное кольцо с привязанным к нему длинным шнуром, назначение коего мы поймем, бросив взгляд на больных.
Они, входившие недавно на наших глазах в особняк, теперь сидели, бледные и вялые, в расставленных вокруг ванны креслах.
Мужчины с женщинами вперемежку, безразличные, серьезные или встревоженные, ждали результата процедуры.
Вошедший в залу слуга, взяв за конец привязанный к крышке длинный шнур, принялся оборачивать его петлями вокруг недужных рук или ног пациентов, так что те, словно связанные единой цепью, могли одновременно ощущать воздействие содержащихся в ванне флюидов.
Более того, чтобы никоим образом не прерывать влияние животных флюидов, текущих в каждый организм, пациенты по рекомендации доктора позаботились о том, чтобы все время касаться друг друга или локтями, или плечами, или ногами, благодаря чему спасительная ванна посылала сразу всем свое тепло и целительную силу.
Сия медицинская церемония представляла собою и впрямь весьма любопытное зрелище; неудивительно поэтому, что она возбуждала в парижанах такое любопытство.
Итак, человек тридцать больных уселись вокруг ванны; такой же молчаливый, как и зрители, слуга, опутав их шнуром, отчего они стали походить на Лаокоона и его сыновей, которых сжимают своими кольцами змеи, неслышно удалился, указав предварительно пациентам на железные треугольники, помещавшиеся в специальных углублениях ванны и призванные служить для еще более непосредственного воздействия целительных месмерических флюидов.
Сеанс еще не начался, но по залу уже распространилось мягкое всепроникающее тепло, которое успокаивало несколько напряженные нервы пациентов. Медленно поднимаясь от пола к потолку, теплый воздух вскоре начал источать нежный аромат, и головы даже самых упрямых больных, отяжелев, склонились на грудь.
Едва пациенты успели всецело отдаться сладкой неге, как вдруг в этот теплый аромат мягким пламенем влилась пленительная и проникновенная мелодия, исполняемая невидимыми музыкантами.
Чистая, словно хрустальный источник, на берегу которого она родилась, музыка эта с непреодолимою силой подчиняла себе нервы пациента. Она напоминала таинственные и необъяснимые звуки, которыми природа зачаровывает даже животных, тихий стон ветра в гулких скалистых расселинах.
Вскоре к губной гармонике присоединился мелодичный хор, напоминающий огромный букет цветов, и его звуки, кружась, словно лепестки, стали тихо опускаться на головы присутствующих.
На оживившихся было лицах появилось явное удовольствие. Все органы чувств пациентов испытывали нежную ласку. Душа у каждого дрогнула и, выйдя из убежища, где она прячется от телесных недугов, свободно и радостно разлилась по всему организму, преобразившись и подчинив себе материю.
В этот миг каждый больной взял в руки железный треугольник, укрепленный на крышке ванны, и приложил его – кто к груди, кто к сердцу, кто к голове – туда, где помещалась его главная болезнь.
Представьте себе, как блаженство сменяет на лицах пациентов боль и тоску, вообразите себе это забытье, вызванное всепоглощающим наслаждением, нависшую над собравшимися тишину, лишь изредка прерываемую вздохами, и вы получите самое точное представление о сцене, которую мы попытались описать через три четверти столетия после того, как она происходила.
Теперь еще несколько слов об актерах, занятых в этой сцене.
Прежде всего они делились на две группы.
Одни из пациентов, которых мало заботил так называемый ложный стыд, предмет весьма трепетного отношения для людей средних, но всегда преодолеваемый натурами великими или совсем уж низкими, – так вот, одни из пациентов, истинные актеры, явились сюда только для того, чтобы излечиться, и старались изо всех сил достичь своей цели.
Другие – скептики или просто любопытные, не страдающие никакой хворью, – пришли в дом Месмера, как ходят в театр, желая то ли испытать, что чувствует человек, сидящий возле волшебной ванны, то ли изучить в качестве обычных зрителей новый способ лечения; эти последние лишь наблюдали за больными и даже здоровыми, пришедшими сюда, несмотря на отсутствие у них каких-либо недомоганий.
Среди первых, горячих поклонников Месмера, признавших его учение, возможно, просто из благодарности к нему, выделялась молодая женщина, рослая, с красивым лицом и одетая несколько вызывающе; уже поддавшись действию флюидов и часто прикладывая треугольник то к голове, то к надбрюшию, она закатила дивные глаза, словно у нее болело все тело, а руки у нее задрожали от легкого зуда, свидетельствующего о том, что магнетические флюиды проникли в организм.
Когда голова ее откинулась на спинку кресла, зрителям открылось побелевшее лицо, плотно сжатые губы и прекрасная шея, которая от быстрого прилива и отлива крови стала похожа на мраморную.
И тут несколько присутствующих из тех, кто удивленно и пристально следили за молодой женщиной, наклонив друг к другу головы, обменялись настолько странной мыслью, что приковали к себе внимание многих.
Среди этих многих находилась и г-жа де Ламотт, которая, не очень-то опасаясь быть узнанной, стояла, держа в руке маску, закрывающую ее лицо, когда она протискивалась сквозь толпу.
Впрочем, она выбрала такое место, что практически смогла избегнуть чьих бы то ни было взглядов.
Прислонившись к пилястру подле завешенной занавесом двери, она видела все, но сама была почти не видна.
Из всего, что открывалось ее взору, графиню более всего занимало лицо женщины, поддавшейся действию месмерических флюидов.
Лицо это поразило ее до такой степени, что несколько минут она простояла неподвижно, снедаемая единственным желанием – смотреть дальше и попробовать во всем разобраться.
О, пробормотала она, не отрывая глаз от прекрасной пациентки, – это, несомненно, та дама из благотворительного общества, что приходила ко мне в тот вечер и пробудила в его высокопреосвященстве такое внимание к моей особе.
Убедившись, что она не ошиблась, и горя желанием, чтобы случай помог ей в ее поисках, Жанна подошла поближе.
Однако в этот миг молодую женщину охватила такая судорога, что она закрыла глаза, сжала губы и только слабо взмахнула руками.
Следует заметить, что сейчас эти руки не выглядели точно так же, как те – узкие и прекрасные, белые, словно воск, которыми г-жа де Ламотт любовалась у себя в комнате несколько дней назад.
Приступ молодой женщины, словно электрический ток, передался и другим больным, чей мозг уже был насыщен звуками и ароматами. Всех охватило нервное возбуждение. Вскоре мужчины и женщины, следуя примеру своей молодой соратницы, начали вздыхать, что-то шептать и вскрикивать, задвигали руками, ногами и головами, без сопротивления отдаваясь припадку, который их ученый врач называл кризисом.
В этот миг в зале появился человек. Никто из присутствующих не видел и не мог объяснить, как он сюда попал.
Вышел ли он из стоявшего посреди зала сосуда, словно Феб? Или это был Аполлон вод, присутствовавший там в виде благоуханных паров, которые вдруг сгустились? Во всяком случае, он возник в зале совершенно неожиданно, и его лиловый камзол, свежий и опрятный, его красивое бледное лицо, умное и спокойное, не противоречили несколько волшебному характеру его появления.
Человек держал в руке длинный жезл, которым касался или, точнее, который окунал в знаменитую ванну.
По знаку его двери отворились, и два десятка дюжих слуг, вбежав в комнату, проворно и ловко подхватили больных, которые уже начали безвольно оседать в креслах, и меньше чем за минуту вынесли их в соседнюю залу.
В миг, когда закончился этот маневр, представивший для зрителей особенный интерес по причине блаженства, начертанного на лице описанной нами молодой женщины, г-жа де Ламотт, подойдя вместе с другими любопытствующими к двери во вторую залу, предназначенную для больных, вдруг услышала, как какой-то мужчина воскликнул:
– Но это же она, она!
Только г-жа де Ламотт приготовилась осведомиться у этого мужчины, кого он имеет в виду, как в первую залу вошли две женщины, державшие друг друга под руку и сопровождаемые на некотором расстоянии человеком, выглядевшим, как доверенный слуга, несмотря на свой буржуазный наряд.
Осанка дам, в особенности одной из них, настолько поразила графиню, что она шагнула им навстречу.
Внезапно громкий крик, вырвавшийся в другой зале из груди молодой женщины, которая все еще билась в припадке, привлек всех присутствующих туда.
И тут мужчина, только что издавший возглас: «Это она!» и оказавшийся подле г-жи де Ламотт, глухо и таинственно воскликнул:
– Но господа, взгляните же, это королева!
Услыхав эти слова, Жанна вздрогнула.
– Королева! – подхватили несколько испуганных и удивленных голосов.
– Королева у Месмера!
– Королева в кризисе! – твердили другие.
– О нет, это невозможно, – отозвался кто-то.
– Да посмотрите же, – спокойно проговорил неизвестный. – Разве вы не знаете, как выглядит королева?
– И вправду, – зашушукались собравшиеся, – сходство просто невероятное.
Г-жа де Ламотт снова надела маску, как и другие женщины, намеревавшиеся отправиться от Месмера на бал в Опере. Теперь она могла безболезненно задавать вопросы.
– Сударь, – обратилась она к возмутителю спокойствия, дородному мужчине с круглым румяным лицом и блестящими наблюдательными глазами, – мне кажется, вы сказали, что здесь присутствует королева?
– Да, сударыня, в этом нет никакого сомнения, – ответил тот.
– Где же она?
– Да вот та молодая женщина, что лежит на фиолетовых подушках и никак не может справиться с весьма сильным кризисом, и есть королева.
– Но на чем же, сударь, основывается ваша уверенность, что королева и есть эта женщина?
– А просто на том, сударыня, что эта женщина – королева, – бесстрастно ответствовал возмутитель спокойствия.
И, оставив собеседницу, он отправился распространять эту новость дальше.
Жанна отвернулась от довольно-таки отталкивающего зрелища, которое представляла собой припадочная. Но не успела она пройти и нескольких шагов в сторону двери, как оказалась лицом к лицу с двумя дамами, которые в ожидании, когда они смогут подойти поближе к бившейся в припадке женщине, не без интереса рассматривали ванну, треугольники и крышку.
Едва Жанна разглядела лицо старшей из дам, как из груди у нее тоже вырвался крик.
– В чем дело? – осведомилась дама.
Жанна поспешно сдернула с лица маску.
– Вы меня узнаете? – спросила она.
Дама хотела сделать какое-то движение, но удержалась.
– Нет, сударыня, – в некотором замешательстве ответила она.
– Ну а я вас узнала и сейчас это докажу.
Услышав подобные слова, дамы в испуге прижались друг к дружке.
Жанна извлекла из кармана шкатулку с портретом.
– Вы забыли это у меня, – проговорила она.
– Но даже если так, – заметила старшая из дам, – к чему столько волнений!
– Меня страшит опасность, которой подвергается здесь ваше величество.
– Объяснитесь же.
– Не раньше, чем вы наденете эту маску, сударыня.
С этими словами Жанна протянула королеве свою черную полумаску. Та заколебалась, считая, что шляпа достаточно надежно скрывает ее лицо.
– Умоляю вас, нельзя терять ни секунды! – продолжала настаивать Жанна.
– Наденьте, сударыня, наденьте, – шепнула королеве ее спутница.
Королева машинально прикрыла маской лицо.
– А теперь пойдемте, – сказала Жанна.
И она увлекла за собой обеих дам столь стремительно, что спустя несколько секунд они были уже на улице.
– Наконец-то, – переведя дух, бросила королева.
– Ваше величество никто не узнал?
– Думаю, нет.
– Тем лучше.
– Но объясните же в конце концов…
– Ваше величество, поверьте пока на слово вашей покорной слуге: вам действительно грозит серьезная опасность.
– Да в чем же эта опасность?
– Я буду счастлива все рассказать вашему величеству, если вы соизволите назначить мне часовую аудиенцию. Рассказ довольно длинный, а здесь вас могут заметить, узнать.
Заметив, что королева начинает проявлять признаки нетерпения, Жанна обратилась к принцессе Ламбаль:
– О, сударыня, заклинаю вас, поддержите меня, пусть ее величество уезжает, притом немедленно!
Принцесса сделала умоляющий жест.
– Поехали, раз уж вы так этого хотите, – согласилась королева.
Затем, повернувшись к г-же де Ламотт, она спросила:
– Вы просили у меня аудиенцию?
– Я питаю надежду, что ваше величество окажет мне честь и выслушает объяснения касательно моего поведения.
– Ладно, принесите мне эту шкатулку и спросите привратника Лорана – он будет предупрежден.
И, повернувшись в сторону улицы, королева крикнула по-немецки:
– Kommen sie da, Weber![60]
Мгновенно подъехала карета, и дамы скрылись в ее глубине.
Прислонившись к двери, г-жа де Ламотт следила за каретой, пока та не исчезла из виду.
– Что ж, – тихонько проговорила Жанна, – я все сделала правильно, а теперь следует… поразмыслить.
Тем временем мужчина, указавший собравшимся на мнимую королеву, подошел к одному из любопытствующих, отличавшемуся алчным взглядом и поношенной одеждой, и похлопал его по плечу.
– Для вас, журналистов, неплохая тема для статьи, – заявил он.
– Почему это? – удивился газетчик.
– Хотите, я в двух словах расскажу вам ее содержание?
– Охотно послушаю.
– Вот оно: «Опасно родиться в стране, королем которой управляет королева, любящая кризисы».
Газетчик расхохотался.
– А Бастилия? – осведомился он.
– Полно! Разве вам не известно, что существуют анаграммы, с помощью которых можно обойти королевскую цензуру? Скажите, разве какой-нибудь цензор запретит вам напечатать историю, где действуют принц Илу и принцесса Аттенаутна, а происходит все в стране под названием Цанфрия? Ну, что скажете?
– Отличная мысль! – вскричал воодушевленный газетчик.
– Уверяю вас, глава под названием: «Кризисы принцессы Аттенаутны у факира Ремсема» будет пользоваться большим успехом в гостиных.
– И я того же мнения.
– Ступайте же и напишите эту историю самыми лучшими своими чернилами.
Газетчик пожал незнакомцу руку.
– Разрешите, я пошлю вам несколько экземпляров? – спросил он. – Я сделаю это с большим удовольствием, если вы соизволите назвать свое имя.
– Ну, разумеется! Мысль превосходная, а в вашем исполнении она будет иметь стопроцентный успех. Каким тиражом вы обычно печатаете свои памфлеты?
– Две тысячи.
– В таком случае сделайте мне одолжение.
– С охотой.
– Возьмите эти пятьдесят луидоров и напечатайте шесть тысяч.
– Как, сударь! Вы мне льстите… Позвольте хотя бы знать имя столь щедрого покровителя литературы.
– Я скажу, когда через неделю пошлю к вам за тысячей экземпляров по два ливра за штуку, согласны?
– Я буду работать день и ночь, сударь.
– Но вещица должна быть забавной.
– Париж будет смеяться до слез, кроме одной особы.
– Которая будет смеяться до крови, не так ли?
– О, сударь, вы весьма остроумны!
– А вы очень любезны. Кстати, пометьте, что напечатано в Лондоне.
– Как обычно.
– Ваш покорный слуга, сударь.
И толстый незнакомец спровадил бумагомараку, который, положив в карман пятьдесят луидоров, упорхнул, словно вестник зла.
Оставшись в одиночестве, вернее, без собеседника, незнакомец еще раз глянул во вторую залу, где молодая женщина лежала после кризиса в полной прострации, а горничная, приставленная следить за дамами, находящимися в состоянии приступа, целомудренно оправляла ей несколько нескромно задравшиеся юбки.
Отметив про себя нежную красоту тонких и сладострастных черт, равно как и милое благородство безмятежного сна, незнакомец вернулся назад и пробормотал:
– Действительно, сходство потрясающее. Сотворивший это Господь имел определенный умысел. Он приговорил эту женщину даже раньше, чем ту, на которую она похожа.
Едва он закончил эту мрачную мысль, как молодая женщина медленно поднялась с подушек и, опираясь на руку соседки, которая пришла в себя раньше ее, принялась приводить в порядок свой, ставший весьма беспорядочным туалет.
Она слегка зарделась, увидев, с каким вниманием разглядывают ее присутствующие, с кокетливой учтивостью ответила на серьезные, но доброжелательные вопросы Месмера и, потянувшись своими круглыми ручками и хорошенькими ножками, словно проснувшаяся кошка, прошла через обе гостиные, не упуская ни одного насмешливого, завистливого или испуганного взгляда, которыми одаривали ее собравшиеся.
Однако вот что удивило молодую женщину до такой степени, что она не смогла сдержать улыбки: проходя мимо кучки людей, шептавшихся в дальнем углу гостиной, она была встречена не беглыми взглядами и пустыми любезностями, а столь почтительными поклонами, что подобной чопорности и строгости не постеснялся бы ни один придворный, приветствуя королеву.
И действительно, эта ошеломленная группка кланяющихся людей была поспешно составлена неутомимым незнакомцем, который, спрятавшись за их спинами, вполголоса сказал:
– Ничего, господа, ничего, это все же королева Франции – давайте ей поклонимся, да пониже.
Особа, оказавшаяся предметом подобного почтения, с некоторым беспокойством пересекла последнюю прихожую и вышла во двор.
Усталыми глазами она принялась искать наемный экипаж или портшез – не найдя ни того, ни другого, она несколько секунд поколебалась и уже ступила своей миниатюрной ножкой на мостовую, когда к ней приблизился рослый лакей.
– Ваша карета, сударыня, – объявил он.
– Но у меня нет кареты, – ответила молодая женщина.
– Вы приехали в наемном экипаже, сударыня?
– Да.
– С улицы Дофины?
– Да.
– Я отвезу вас домой, сударыня.
– Хорошо, отвезите, – весьма решительно согласилась особа, не долее нескольких секунд посвятив колебаниям, которые подобное предложение вызвало бы в любой женщине.
Лакей махнул рукой, тотчас же появилась приличная с виду карета, которая остановилась перед дамой у галереи.
Лакей опустил подножку и крикнул кучеру:
– На улицу Дофины!
Лошади понеслись стрелой. Доехав до Нового моста, юная дама, которой пришелся по вкусу такой аллюр, как выражается Лафонтен, пожалела, что живет не у Ботанического сада.
Карета остановилась. Подножка опустилась, и хорошо вышколенный лакей протянул руку за ключом, с помощью которого попадают к себе домой обитатели тридцати тысяч парижских домов, не похожих на особняки и не имеющих ни привратника, ни швейцара.
Лакей отпер замок, чтобы поберечь пальчики юной дамы, и после того, как она вошла в темный подъезд, поклонился и затворил дверь.
Карета тронулась с места и скрылась из виду.
– Ей-же-ей, – вскричала молодая женщина, – неплохое приключение. Со стороны господина де Месмера это очень любезно. Ах, как я устала! Он должен был это предвидеть, он – великий врач.
С этими словами она поднялась на третий этаж и оказалась на площадке, на которую выходили две двери. Женщина постучалась. Ей открыла старуха.
– Добрый вечер, матушка. Ужин готов?
– Готов и даже успел простыть.
– А он здесь?
– Пока нет, однако пришел какой-то господин.
– Какой еще господин?
– С которым вам необходимо сегодня вечером поговорить.
– Мне?
– Да, вам.
Диалог этот происходил в тесной прихожей с застекленной дверью, отделявшей от площадки просторную комнату, окна которой выходили на улицу.
Сквозь стекло в двери виднелась лампа, освещающая эту комнату, выглядевшую если уж не роскошно, то по крайней мере сносно.
Старые занавески из желтого шелка, местами выцветшие и потертые от времени, несколько стульев, обтянутых позеленевшим с краев плюшем, вместительный комод с дюжиной ящиков, инкрустированный столик и древний желтый диван составляли все великолепие этого жилища.
На каминной полке стояли часы, а по бокам – две голубые японские вазы с заметными трещинами.
Молодая женщина порывисто отворила дверь и подошла к дивану, на котором преспокойно сидел бодрый на вид мужчина, скорее полный, чем худой, и красивой белой рукою поигрывал богатым кружевным жабо.
Женщина не узнала ожидавшего ее мужчину, но читатель узнал бы его сразу: это был тот самый человек, что подбил зрителей приветствовать мнимую королеву и заплатил пятьдесят луидоров за памфлет.
Молодая женщина не успела начать разговор.
Странный субъект изобразил нечто вроде полупоклона и, устремив на хозяйку доброжелательный взгляд блестящих глаз, проговорил:
– Я знаю, что вы собираетесь спросить, но будет лучше, если я вам отвечу, сам задав несколько вопросов. Вы – мадемуазель Олива?
– Да, сударь.
– Очаровательная женщина, но очень нервная и влюбленная в методы доктора Месмера.
– Я как раз была у него.
– Прекрасно! Однако по вашим чудным глазам я вижу, что от этого вам не стало яснее, почему вы видите меня на своем диване, а как раз это-то вам и хочется узнать?
– Ваша догадка верна, сударь.
– Сделайте мне одолжение и сядьте – ведь если вы останетесь стоять, мне тоже придется встать, и говорить нам будет неудобно.
– Можете гордиться, сударь: манеры у вас весьма необычны, – заметила молодая женщина, которую мы отныне станем называть мадемуазель Оливой, поскольку она соизволит откликаться на это имя.
– Мадемуазель, я видел вас недавно у господина Месмера и нашел вас такой, какой и хотел найти.
– Сударь!
– О, не тревожьтесь, сударыня! Я не говорю, что нашел вас очаровательной, потому что вы решили бы, что я признаюсь вам в любви, а это в мои намерения не входит. Прошу вас, не отодвигайтесь от меня, иначе вы вынудите меня кричать, словно я глухой.
– Что же вам все-таки угодно? – наивно осведомилась Олива.
– Я знаю, – продолжал незнакомец, – что вы привыкли слышать, как вас называют красивой, но я придерживаюсь другого мнения и хочу предложить вам кое-что иное.
– Ей-богу, сударь, вы говорите со мною в таком тоне…
– Не пугайтесь, вы же еще меня не выслушали… Здесь у вас никто не прячется?
– Никто, сударь, но в конце концов…
– А раз никто не прячется, стало быть, мы можем говорить свободно. Что вы скажете, если мы заключим с вами небольшое соглашение?
– Соглашение? Видите ли…
– Опять вы не так поняли. Я же не говорю «вступим в связь», я говорю «заключим соглашение». Речь идет не о любви, а о делах.
– Что за дела вы имеете в виду? – спросила Олива, искренне изумившись и выдав тем самым свое любопытство.
– Чем вы занимаетесь каждый день?
– Но…
– Не бойтесь, я не собираюсь вас осуждать. Отвечайте то, что считаете нужным.
– Ничем не занимаюсь или по крайней мере стараюсь заниматься как можно меньше.
– Вы – ленивица.
– Однако!
– И прекрасно.
– Вы говорите, прекрасно?
– Ну конечно. Какое мне дело до того, ленивица вы или нет? Вы любите гулять?
– Очень.
– А бывать на спектаклях, балах?
– Еще бы!
– В общем, жить в свое удовольствие?
– Нуда.
– Если я предложу вам двадцать пять луидоров в месяц, вы мне откажете?
– Сударь!
– Дорогая мадемуазель Олива, в вас уже закрались сомнения. А мы ведь договорились, что вы не станете пугаться. Я сказал двадцать пять луидоров, но могу сказать и пятьдесят.
– Мне больше нравится число пятьдесят, но еще больше – право самой выбирать себе любовников.
– Проклятье! Да я же сказал, что не хочу быть вашим любовником. Поэтому приберегите-ка ваше остроумие для другого случая.
– Это мне нужно сказать: «Проклятье!» Что же я должна делать, чтобы заработать ваши пятьдесят луидоров?
– Разве мы сказали пятьдесят?
– Да.
– Пусть будет пятьдесят. Вы должны принимать меня у себя, по возможности улыбаться мне, давать мне руку, когда я этого пожелаю, ждать меня, когда я скажу вам ждать.
– Но у меня уже есть любовник, сударь.
– Ну так что же?
– Как это «ну так что же»?
– Прогоните его, черт возьми!
– О, Босира так просто не прогонишь.
– Может, вам помочь?
– Нет, я его люблю.
– Да ну?
– Немножко.
– Даже это – чересчур.
– Уж как есть, так есть.
– Ладно, так и быть, пусть остается.
– А у вас легкий характер, сударь.
– Долг платежом красен. Так условия вам подходят?
– Подходят, но вы должны мне все объяснить.
– Послушайте, милая, я сказал все, что хотел сказать.
– Честное слово?
– Честное слово. Но вы должны понять одно…
– Что именно?
– А вот что: если вдруг возникнет необходимость, то вам действительно придется стать моей любовницей.
– Ах, вот видите? Такая необходимость не должна возникнуть, сударь.
– Но ведь только для вида.
– Тогда ладно, пусть так.
– Значит, договорились.
– По рукам!
– Вот вам вперед за первый месяц.
Незнакомец протянул девушке монеты, даже не коснувшись кончиков ее пальцев. Поскольку она медлила, он сунул деньги в карман ее платья, даже не дотронувшись рукой до бедра – такого округлого и упругого, что какой-нибудь испанский знаток не проявил бы к нему подобного равнодушия.
Едва золото упало в карман платья, как два коротких удара в наружную дверь заставили Оливу подскочить к окну.
– Боже! – воскликнула она. – Уходите скорее, это он.
– Он? Кто он?
– Босир, мой любовник! Да шевелитесь же, сударь!
– Ах, вот как? Тем хуже.
– Что значит «тем хуже»? Да он разорвет вас на кусочки!
– Вот еще!
– Послушайте, как он барабанит в дверь, он сейчас ее сломает!
– Прикажите открыть. И вообще, какого черта вы не дадите ему ключ?
И, откинувшись на спинку дивана, незнакомец пробормотал:
– Надобно посмотреть, что это за бездельник.
Стук в дверь продолжался. Теперь он сопровождался страшными проклятиями, долетавшими не только до третьего этажа.
– Ступайте, матушка, отоприте, – в ярости вскричала Олива. – А если с вами, сударь, случится несчастье, тем хуже.
– Вот именно, тем хуже, – невозмутимо отозвался незнакомец, не двигаясь с дивана.
Олива, вся трепеща, вышла на площадку и стала прислушиваться.
Олива бросилась навстречу разъяренному бледному человеку в расстегнутом камзоле, который с вытянутыми вперед руками и изрыгая проклятия ворвался в комнату.
– Босир! Ну, послушайте же, Босир! – восклицала она голосом, недостаточно испуганным для того, чтобы составить превратное мнение о смелости этой женщины.
– Оставьте меня! – взревел вновь прибывший, грубо отталкивая Оливу.
Затем, распаляясь еще сильнее, он возопил:
– Так вот почему мне не отпирали! Здесь мужчина!
Как нам известно, незнакомец спокойно и неподвижно сидел на диване, и г-н Босир мог счесть, что он в нерешительности или даже напуган. Г-н Босир встал перед незнакомцем, злобно скрипя зубами.
– Надеюсь, вы мне что-нибудь скажете, сударь? – спросил он.
– А что вы хотите, чтобы я вам сказал, мой дорогой господин Босир? – осведомился незнакомец.
– Что вы здесь делаете? И вообще, кто вы такой?
– Я очень спокойный человек, а вы на меня так страшно таращитесь. И потом, я беседовал с мадемуазель с самыми добрыми намерениями.
– Ну конечно, с самыми добрыми, – подтвердила Олива.
– А вы помолчите, – рявкнул Босир.
– Ну-ну, – проговорил незнакомец, – не грубите барышне, она ни в чем не виновата. Если у вас скверное настроение…
– Вот именно, скверное.
– Он, должно быть, проигрался, – вполголоса заметила Олива.
– В пух и прах, будь я трижды проклят! – зарычал Босир.
– И теперь вы не прочь сами разделать кого-нибудь в пух и прах. Это понятно, дорогой господин Босир, – засмеялся незнакомец.
– Хватит ваших дурацких шуточек! Извольте убираться вон!
– О, господин Босир, помилосердствуйте!
– Клянусь всеми дьяволами преисподней, или вы уберетесь, или я разнесу этот диван и вас вместе с ним!
– А вы не говорили мне, мадемуазель, что господин Босир у вас с причудами. Подумать только, какой он сердитый!
Ввергнутый в отчаянье Босир комическим жестом выхватил шпагу из ножен, описав ею при этом круг не менее десяти футов в диаметре.
– Поднимайтесь, или я пришпилю вас к спинке дивана! – прошипел он.
– Нет-нет, все-таки он нелюбезен, – проговорил незнакомец и легким движением левой руки вытащил из ножен небольшую шпагу, лежавшую у него за спиной на диване.
Олива испустила душераздирающий вопль.
– Ах, сударыня, не нужно так кричать, – невозмутимо заметил мужчина, уже держа шпагу в руке, но не вставая с места. – Не кричите, иначе произойдут две вещи: во-первых, вы вконец оглушите господина Босира и он наткнется на мою шпагу, а во-вторых, вас услышит дозор, поднимется сюда, изобьет, и вы попадете в Сен-Лазар.
Олива смолкла, заменив крики выразительной пантомимой.
Сцена была любопытная. С одной стороны – г-н Босир, растерзанный, пьяный, трясущийся от ярости, который без складу и ладу наносил своему противнику удары, не достигавшие цели.
С другой стороны – незнакомец, который сидел на диване, положив одну руку на колено, а другой держа шпагу, и ловко и непринужденно парировал удары, смеясь при этом так, что испугался бы даже сам святой Георгий.
Шпага Босира непрерывно летала туда и сюда, умело отбиваемая его противником.
Босир начал уставать, задыхаться, и гнев его невольно сменился ужасом: он подумал, что если эта снисходительная шпага вдруг удлинится и перейдет в наступление, то с ним, Босиром, покончено. Его охватила неуверенность, он сник и лишь едва отбивал удары противника. А тот, мгновенно перейдя в третью позицию, выбил шпагу у него из руки, и та взвилась в воздух, как перышко.
Пролетев через всю комнату, она разбила стекло и упала на улицу.
Босир не знал, что и делать.
– Ах, господин Босир, берегитесь: вдруг ваша шпага упала острием вниз, а там как раз кто-нибудь проходил – вот вам и покойник, – заметил незнакомец.
Придя в себя, Босир бросился к двери и ринулся вниз, чтобы отыскать шпагу и избежать неприятностей с полицией.
Тем временем Олива схватила победителя за руку и заговорила:
– Ах, сударь, вы очень отважны, но господин Босир коварен, и потом, оставшись здесь, вы поставите меня в неловкое положение. Впрочем, когда вы уйдете, он меня поколотит, это точно.
– Тогда я остаюсь.
– Нет, нет, умоляю вас! Когда он меня колотит, я отвечаю ему той же монетой и всегда одерживаю верх, потому что не очень-то с ним церемонюсь. Уходите, прошу вас.
– Обратите внимание вот на что, красавица моя: если я пойду, то встречу его на улице или на лестнице, мы снова станем драться, а на лестнице довольно трудно двойной выпад парировать квартой или, скажем, терцией, как на диване.
– И что же?
– Или я убью сьера Босира, или он меня.
– Боже милостивый, и верно! Вот будет скандал-то!
– Лучше обойтись без скандала, поэтому я остаюсь.
– Ради всего святого, уходите! Пока он не пришел, вы можете подняться этажом выше. Он будет думать, что вы здесь, и больше нигде искать не станет. Как только он войдет в квартиру, вы услышите, как я запираю дверь на двойной поворот ключа. Он будет здесь, а ключ я положу в карман. После этого вы уходите, мне же придется смело принять бой, чтобы выиграть время.
– Вы – прелестная девушка. До скорого свидания.
– До какого свидания?
– Сегодня ночью, если позволите.
– Как – сегодня ночью? Да вы с ума сошли!
– Нуда, сегодня ночью. Ведь сегодня бал в Опере.
– Опомнитесь, уже полночь.
– Знаю, но мне плевать.
– Но ведь нужны маскарадные костюмы.
– Если вы выиграете бой, за ними сбегает Босир.
– Вы правы, – смеясь, ответила Олива.
– А вот десять луидоров на костюмы, – тоже засмеявшись, проговорил незнакомец.
– Прощайте! Благодарю вас!
И девушка подтолкнула его к лестнице.
– Слышите, он затворяет внизу дверь, – заметил незнакомец.
– Да, щелкнул замок. Прощайте, он поднимается.
– Но если вдруг вы потерпите поражение, как я об этом узнаю?
Олива на секунду задумалась.
– У вас есть слуги? – наконец спросила она.
– Есть, я поставлю одного у вас под окном.
– Очень хорошо. Пусть он смотрит вверх, пока ему на нос не упадет записка.
– Договорились. Прощайте.
Незнакомец поднялся на следующий этаж. Все пошло, как по маслу: на лестнице было темно, а Олива, громко переговариваясь с Босиром, заглушила звук шагов своего нового союзника.
– Да поднимайтесь же, бешеный! – кричала она Босиру, который шел по лестнице, серьезно раздумывая о моральном и физическом превосходстве этого нахала, вторгшегося в чужое жилье.
Наконец Босир достиг этажа, где ждала его Олива. Вложив шпагу в ножны, он обдумывал, что скажет своей любовнице.
Олива взяла его за плечи, втолкнула в прихожую и, как и обещала, дважды повернула ключ в замке.
Спускаясь по лестнице, незнакомец услышал, что битва началась: особенно громкими, словно удары медных тарелок в оркестре, были затрещины, которые живописно, хотя и вульгарно, зовутся оплеухами. Звуки оплеух сопровождались воплями и упреками. Метал громы и молнии Босир, металл звенел в голосе Оливы. Пусть читатель простит эту скверную игру слов, но она точно выражает нашу мысль.
– Кто бы мог подумать, – удаляясь, пробормотал Босир, – что эта женщина, так напуганная приходом любовника, сумеет оказать ему столь достойное сопротивление.
Незнакомец не стал терять времени, дожидаясь, когда сцена закончится.
– Они начали столь бойко, – проговорил он, – что развязка уже не за горами.
Он завернул за угол улочки Анжу-Дофин, где его ждала поставленная задом карета.
Незнакомец что-то сказал одному из своих людей, и тот занял позицию под окном Оливы, растворившись в густом мраке небольшой аркады у стены старого дома.
С этого места, глядя на освещенные окна, он по движению силуэтов на занавесках мог судить о том, что происходит внутри.
Тени эти, двигавшиеся сперва весьма оживленно, через некоторое время успокоились. Наконец в окне остался лишь один силуэт.
А за занавесками происходило вот что.
Сначала Босир удивился, что дверь запирают на замок.
Затем он изумился столь громким крикам мадемуазель Оливы.
И наконец он остолбенел, войдя в комнату и не увидев там своего грозного соперника.
Последовал обыск комнаты, угрозы, призывы: человек явно где-то спрятался, значит, испугался, а раз испугался, значит, победа за Босиром.
Олива заставила его прекратить поиски и отвечать на ее вопросы.
Босир, задетый ее резкостью, тоже перешел на крик.
Олива, не чувствуя более за собою никакой вины, поскольку улика исчезла – quia corpus delicti aberat1, как говорят юристы, – завопила так громко, что, желая ее утихомирить, Босир зажал или, вернее, попытался зажать ей рот рукой.
Но он просчитался: Олива истолковала этот жест примирения и убеждения по-своему. На его руку, летящую к ее лицу, она ответила своею рукой – не менее ловкой и проворной, чем шпага ушедшего незнакомца.
Ее рука, молниеносно сделав кварту и терцию, взвилась вверх и угодила Босиру прямо в щеку.
Босир ответил боковым ударом: его правая ладонь, прорвав оборону Оливы, с оглушительным звуком вошла в соприкосновение с правой щекой девушки, отчего та зарумянилась.
Именно эту часть беседы и услышал незнакомец, выходя из дома.
Как мы уже отмечали, подобного рода объяснения быстро ведут к развязке, однако, чтобы эта развязка не была лишена известного драматизма, к ней следует все же приготовиться.
На пощечину Босира Олива ответила весьма тяжелым и опасным метательным снарядом – фаянсовым кувшином, который Босир отразил замечательным мулине тростью; при этом было разбито несколько чашек, снесена свеча и задето плечо молодой женщины.
Придя в ярость, та бросилась на Босира и вцепилась ему в глотку. Несчастный был вынужден защищаться от взбешенной любовницы всеми доступными ему средствами.
Он порвал на ней платье. Оскорбленная Олива, горюя об утрате, выпустила из рук горло обидчика и швырнула того на середину комнаты. Он с пеной у рта вскочил на ноги.
Однако, поскольку доблесть врага измеряется тем, насколько хорошо он умеет защищаться, и обороняющийся враг вызывает уважение даже у победителя, Босир, питавший к Оливе глубокое почтение, решил продолжать переговоры с того места, где они были прерваны.
– Вы – злюка, вы меня разорили, – заявил он.
– Это вы меня разорили, – ответствовала Олива.
– Я ее разорил! Да у вас же ничего нет!
– Скажите лучше, уже ничего нет! Вы ведь продали, проели, пропили и проиграли все, что у меня было.
– Так вы еще попрекаете меня бедностью?
– А почему ж вы бедны? Это – порок.
– Сейчас вот я одним ударом избавлю вас от всех ваших пороков.
– Хотите опять драться?
И Олива взмахнула тяжеленными каминными щипцами, вид которых несколько охладил Босира.
– Еще не хватало, чтобы вы заводили себе любовников, – заметил он.
– А как назвать всех этих паршивок, что вьются вокруг вас в притонах, где вы проводите дни и ночи?
– Я играю, чтобы заработать на жизнь.
– У вас это здорово получается – мы умираем с голоду! До чего же вы изворотливы!
– Да и вы хороши: рыдаете, когда вам порвут платье, потому что не в состоянии купить себе новое. Тоже мне, проныра!
– Да уж половчее вас! – в бешенстве вскричала Олива. – И вот вам доказательство!
С этими словами она выхватила из кармана горсть золотых и швырнула их на пол.
Луидоры со звоном рассыпались по всей комнате: одни закатывались под диван и стулья, другие звякали где-то у самой двери, а третьи, упав плашмя, сверкали, словно огненные блестки. Когда Босир услышал, как сей металлический дождь стучит по мебели и по полу, он почувствовал нечто вроде головокружения, точнее, угрызений совести.
– Луидоры! Двойные луидоры! – изумленно воскликнул он.
Олива уже держала в руке еще одну горсть монет. Не долго думая, она швырнула их в лицо и растопыренные руки Босира. Тот был ослеплен.
– Так-так, – бормотал он, – она, оказывается, богата.
– Вот что приносит мне моя ловкость, – цинично ответила Олива и пнула ногой устилавшие пол золотые, которые Босир, встав на колени, уже принялся собирать.
– Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, – считал он, задыхаясь от радости.
– Негодяй! – проворчала Олива.
– Девятнадцать… Двадцать один, двадцать два.
– Подлец.
– Двадцать три, двадцать четыре… Двадцать шесть.
– Дрянь!
Босир покраснел – то ли услышал слова Оливы, то ли просто так – и встал.
– Стало быть, – с невероятно комичной серьезностью проговорил он, – вы экономите, лишая меня самого необходимого?
Смущенная Олива не нашлась, что ответить.
– Стало быть, – продолжал мошенник, – вы позволяете мне ходить в выцветших чулках, порыжелой шляпе и одежде с обтрепанной подкладкой, а сами храните в шкатулке деньги? Откуда они? От продажи того немногого, что я нажил, связав свою печальную судьбу с вашей.
– Вот плут! – тихонько прошептала Олива.
Она бросила на него полный презрения взгляд, но Босир не смутился.
– Я вам прощаю, – заявил он, – но не скупость, а бережливость.
– Вы ведь только что хотели меня убить?
– Я был прав тогда, прав и сейчас.
– Почему ж так, позвольте вас спросить?
– Потому что сейчас вы – настоящая хозяйка: вы носите деньги в дом.
– А я вам говорю, что вы – мерзавец!
– Но Олива! Крошка моя!
– И вы должны вернуть мне это золото.
– Помилуйте, дорогая!
– Вы мне его вернете, или я проткну вас вашей же шпагой!
– Олива!
– Так да или нет?
– Нет, Олива, я ни за что не соглашусь, чтобы ты проткнула меня!
– Не двигайтесь или умрете! Деньги!
– Оставьте их мне!
– Ах вы подлец! Низкая тварь! Он еще клянчит, он хочет извлечь выгоду из моего недостойного поведения! А еще называет себя мужчиной! Я презираю вас и всегда презирала – слышите вы? Когда давали – еще сильнее, чем когда брали.
– Если кто-то дает, – серьезно отозвался Босир, – значит, имеет такую возможность, потому что ему повезло. Я ведь тоже давал вам, Николь.
– Я не хочу, чтобы вы называли меня Николь.
– Простите, Олива. Я просто хотел сказать, что, когда мог, давал.
– Какая щедрость! Серебряные сережки, шесть луидоров, два шелковых платья и три вышитых платка!
– Для солдата это немало.
– Замолчите! Сережки вы у кого-то стянули и подарили мне, деньги взяли в долг, да так и не отдали, шелковые платья…
– Олива! Олива!
– Отдайте мне деньги.
– Что ты хочешь за них взамен?
– Вдвое больше.
– Пусть будет так, – без тени насмешки согласился пройдоха. – Я пойду играть на улицу Бюсси и верну тебе не вдвое, а впятеро больше.
И он шагнул к двери. Олива схватилась рукой за оборку его поношенного кафтана.
– Ну вот, порвала кафтан.
– Тем лучше, купите себе новый.
– Но это же шесть луидоров, Олива, целых шесть! Хорошо, что банкометы и понтеры на улице Бюсси не очень-то строги насчет одежды.
Олива хладнокровно взялась за другую оборку кафтана и оторвала. Босир взбесился.
– Тысяча чертей! – завопил он. – Нет, я тебя все-таки убью! Эта мерзавка меня раздела! Как я теперь выйду из дома?
– Выйдете, причем сейчас же.
– Без кафтана? Интересное дело!
– Наденете зимний плащ.
– Да он весь латаный-перелатаный!
– Если не хотите, можете не надевать, но выйти вам придется.
Ни за что!
Олива достала из кармана оставшиеся монеты, около сорока луидоров, и принялась подбрасывать их на сложенных ладонях.
Чуть не обезумев, Босир снова грохнулся на колени.
– Приказывай, – просипел он, – приказывай.
– Сбегаете на улицу Сены, в лавку «Капуцин-Маг», где продают домино для бала-маскарада.
– Дальше?
– Купите мне костюм, маску и чулки в тон.
– Ладно.
– Себе купите черный, мне – белый, атласный.
– Хорошо.
– На это вам дается двадцать минут.
– Мы идем на бал?
– Да.
– И ты поведешь меня на бульвар поужинать?
– Разумеется, но при одном условии.
– Каком?
– Что вы будете послушны.
– Конечно, конечно.
– Ступайте же, покажите свое усердие.
– Бегу!
– Как! Вы еще здесь?
– Но деньги…
– У вас есть двадцать пять луидоров.
– Какие двадцать пять луидоров? Откуда вы взяли?
– Те, что вы подобрали с пола.
– Олива, Олива, это нечестно.
– Что вы хотите сказать?
– Вы же мне их отдали.
– Я не говорила, что оставлю вас без денег. Но если я дам вам еще, вы не вернетесь. Ступайте, и возвращайтесь поскорее.
– Черт, а ведь она права, – пробормотал старый плут. Я и впрямь не собирался возвращаться.
– Двадцать пять минут, слышите? – прикрикнула Олива.
– Повинуюсь.
Именно в этот миг слуга, притаившийся в нише напротив окон, увидел, что один силуэт исчез. Это был г-н Босир: он выскочил из дома в кафтане без оборок, шпага волочилась за ним по мостовой, сорочка пузырем выбивалась из камзола, как носили во времена Людовика XIII.
Когда наш бездельник заворачивал за угол улицы Сены, Олива поспешно писала на клочке бумаги итог только разыгравшейся сцены.
«Мир подписан, дележ произошел, бал одобрен. В два мы будем в Опере. Я надену белое домино, на левое плечо завяжу голубую шелковую ленту».
Олива завернула в записку осколок фаянсового кувшина, высунулась в окно и бросила послание на улицу.
Слуга кинулся на добычу, поднял ее и убежал. Мы почти не сомневаемся, что не долее чем через полчаса г-н Босир вернется, сопровождаемый двумя мальчишками-портняжками, в руках у которых будут два домино стоимостью восемнадцать луидоров – наряды весьма изысканные, какие шьют в «Капуцине-Маге», у прекрасного портного, поставщика ее величества королевы и фрейлин.
Мы оставили г-жу де Ламотт у дверей особняка, следящей за быстро удаляющейся каретой королевы.
Когда карета исчезла из виду и грохот ее колес затих, Жанна в свой черед влезла в экипаж и отправилась домой – надеть домино и другую маску, а заодно проверить, не произошло ли чего новенького в ее обиталище.
Г-жа де Ламотт пообещала себе, что в эту счастливую ночь отдохнет от дневных переживаний. Будучи женщиной сильной, она решила раз в кои-то веки удариться, что называется, во все тяжкие и в одиночестве насладиться прелестями неожиданного.
Однако на первом же шагу по пути, столь соблазнительному для натур, наделенных богатым воображением, которое им долго приходилось сдерживать, она наткнулась на препятствие.
Дома, у привратника, ее поджидал слуга.
Это был человек из челяди принца де Рогана, принесший ей следующую записку от его высокопреосвященства.
«Графиня!
Вы, разумеется, не забыли, что мы с вами должны уладить кое-какие дела. Впрочем, ваша память, быть может, и коротка, но я никогда не забываю того, что мне понравилось.
Я буду иметь честь ожидать вас там, куда, если вы того пожелаете, отведет вас мой посланец».
Внизу вместо подписи стоял пастырский крест.
Г-жа де Ламотт была раздосадована этим препятствием, однако по секундном размышлении со свойственной ей решительностью отправилась в путь.
– Садитесь рядом с моим кучером, – предложила она слуге, – или скажите ему адрес.
Слуга влез на козлы, г-жа де Ламотт – в экипаж.
Не прошло и десяти минут, как графиня уже въезжала в недавно благоустроенный уголок Сент-Антуанского предместья, где среди высоких деревьев, древних, как само предместье, стоял, скрытый от посторонних глаз, один из тех прелестных домиков, что были построены при Людовике XV и соединяли в себе изящный внешний вид, свойственный домам XVI века, со всеми удобствами постройки XVIII века.
– А вот и маленький домик, – пробормотала графиня. – Что ж, со стороны родовитого принца это вполне естественно, но для урожденной Валуа унизительно. Вот так-то!
В этом восклицании – не то раздраженном, не то жалобном – обнаружилось все неутоленное честолюбие, все безумные притязания, что дремали до сих пор в душе молодой женщины.
Когда она переступала порог дома, решение уже было принято.
Следуя за лакеем, она попадала из комнаты в комнату, вернее, из неожиданности в неожиданность, пока наконец не дошла до обставленной со вкусом небольшой столовой.
Там, в одиночестве, поджидал ее кардинал.
Его высокопреосвященство листал какие-то брошюры, очень, впрочем, похожие на те памфлеты, что наводняли в то время Францию, стоило лишь ветру подуть со стороны Англии или Голландии.
Завидя графиню, он встал.
– А, вот и вы, – сказал кардинал. – Благодарю вас, графиня.
С этими словами он подошел к ней, намереваясь поцеловать ей руку.
Графиня с гордым и оскорбленным видом отступила назад.
– Что такое? – воскликнул кардинал. – Что с вами, сударыня?
– Вы не привыкли, ваше преосвященство, не правда ли, чтобы женщина, которой вы оказали честь и пригласили сюда, делала такое лицо?
– Но графиня…
– Мы находимся в вашем маленьком домике, не так ли, монсеньор? – окинув комнату презрительным взглядом, осведомилась графиня.
– Однако, сударыня…
– Я надеялась, монсеньор, что вы соблаговолите припомнить, при каких обстоятельствах я появилась на свет. Я надеялась, что монсеньор соблаговолит не упустить из виду, что если Господь и сделал меня бедной, то свойственную моему происхождению гордость он мне оставил.
– Полноте, графиня, я считал, что вы – женщина умная, – проговорил кардинал.
– Похоже, монсеньор, что умными вы считаете тех женщин, которым на все наплевать, которые смеются над всем, даже над собственным бесчестьем. Прошу меня извинить, монсеньор, но я привыкла называть подобных женщин иначе.
– Вы ошибаетесь, графиня: умной я называю женщину, которая слушает, когда с ней говорят, и не говорит, пока всего не выслушает.
– Что ж, я вас слушаю.
– Я хотел поговорить с вами кое о чем серьезном.
– И заставили меня прийти для этого в столовую?
– Ну да. А вам больше понравилось бы, если бы я пригласил вас в будуар?
– Кое-какая разница тут все-таки есть.
– И я того же мнения, графиня.
– Значит, речь идет о том, чтобы поужинать с вашим высокопреосвященством?
– И ни о чем более.
– Пусть монсеньор не сомневается: я прекрасно понимаю, какая мне оказана честь.
– Вы шутите, графиня?
– Нет, я смеюсь.
– Смеетесь?
– Конечно. А вы предпочли бы, чтобы я сердилась? Нет, сдается мне, у вас и в самом деле трудный характер, монсеньор.
– О, вы очаровательны, когда смеетесь, смейтесь всегда – ничего лучшего я не желаю. Но сейчас вы не смеетесь. Нет-нет, за этими хорошенькими губками, которые позволяют мне любоваться вашими зубами, таится гнев.
– Вовсе нет, монсеньор, да и столовая вселяет в меня уверенность.
– Что же, в добрый час!
– Надеюсь, вы хорошо поужинаете.
– Что значит, я хорошо поужинаю? А вы?
– Я не голодна.
– Как, сударыня! Вы отказываете мне в ужине?
– Не поняла.
– Вы меня гоните?
– Я не понимаю вас, монсеньор.
– Послушайте же, милая графиня.
– Слушаю.
– Будь вы не так разгневаны, я сказал бы, что сердитесь вы напрасно, поскольку от этого не становитесь менее очаровательны, но так как после каждого комплимента вы меня чуть ли не выставляете вон, я лучше воздержусь.
– Вы опасаетесь, что я выставлю вас вон? Извините, монсеньор, но вас, ей-богу, становится трудно понимать.
– Но все же так ясно!
– Простите, монсеньор, но у меня, видимо, помутился разум.
– Так вот, принимая меня в прошлый раз, вы испытывали крайнюю неловкость, так как полагали, что живете в условиях, мало подходящих для особы с вашим именем и титулом. Это вынудило меня сократить визит, а вас – вести себя со мной довольно холодно. Вот я и подумал, что поместить вас в свойственную вам среду и условия – все равно что выпустить на волю птичку, которую ученый посадил под колокол, где нет воздуха.
– И что же дальше? – с беспокойством спросила графиня, начиная кое-что понимать.
– А дальше, прелестная графиня, чтобы вы могли принимать меня свободно, а я мог приезжать к вам, не боясь скомпрометировать ни себя, ни вас…
Кардинал пристально посмотрел на графиню.
– Да? – проговорила она.
– В общем, я надеялся, что вы не откажетесь принять в подарок этот тесный домик. Обратите внимание, графиня, я не сказал «маленький домик».
– Я? В подарок? Вы дарите мне этот дом, ваше высокопреосвященство? – вскричала графиня, сердце которой застучало от гордости и алчности в одно и то же время.
– Это пустяк, графиня, совершеннейший пустяк, но предложи я что-нибудь более серьезное, вы бы отказались.
– Ни более серьезное, ни менее, монсеньор.
– Как вы сказали, сударыня?
– Я говорю, что не могу принять от вас подобный дар.
– Не можете? Но почему?
– Не могу, и все.
– О, не говорите так, графиня!
– Отчего же?
– Потому что я не хочу в это поверить.
– Ваше высокопреосвященство!
– Сударыня, дом ваш, ключи – вот здесь, на серебряном блюде. Я же поступаю с вами, как с победительницей! Неужели вы находите, что это унизительно?
Нет, но…
– Согласитесь, прошу вас.
– Монсеньор, я уже сказала.
– Но как же это возможно, сударыня? Вы пишете министрам, вымаливая у них пенсию, принимаете от неизвестных дам сто луидоров?
– О, ваше высокопреосвященство, это совсем другое. Тот, кто берет…
– Тот, кто берет, оказывает услугу дающему, – благородно ответил принц. – Послушайте, я дожидался вас в столовой, я не видел ни будуара, ни гостиных, ни спален, я лишь предполагаю, что все это здесь есть.
– О, монсеньор, простите, вы заставляете меня признать, что ваше высокопреосвященство – самый деликатный человек на свете.
И так долго сдерживавшая себя графиня покраснела, подумав, что скоро сможет сказать: «Мой дом».
Потом, заметив, что она зашла слишком далеко, графиня опомнилась и ответила на неопределенный жест, сделанный принцем:
– Монсеньор, я прошу вас угостить меня ужином.
Кардинал сбросил плащ, который до сих пор не снимал, пододвинул графине стул и, одетый в светскую одежду, которая ему очень шла, приступил к обязанностям дворецкого.
Через несколько минут ужин был на столе.
Когда в прихожей появились лакеи, Жанна прикрыла лицо полумаской.
– Это я должен прятать лицо, – проговорил кардинал. – Вы у себя дома, окружены своей челядью, а вот я здесь чужой.
Жанна расхохоталась, но маску не сняла. Несмотря на снедавшие ее радость и изумление, трапезе она отдала должное.
Как мы уже неоднократно отмечали, кардинал был человеком великодушным и по-настоящему умным.
Долгое пребывание при самых цивилизованных дворах Европы, дворах, управлявшихся королевами, приучило его к женщинам, которые в те поры осложняли, но часто и разрешали политические вопросы. Этот опыт, впитанный им, так сказать, с молоком матери и помноженный на собственную искушенность, а также все его достоинства, столь редкие теперь, да и тогда встречавшиеся нечасто, сделали из принца человека, которого было чрезвычайно трудно раскусить его соперникам-дипломатам и его женщинам-любовницам.
Приятные манеры и необычайная галантность служили ему непробиваемым щитом.
Вместе с тем кардинал считал, что он – гораздо выше Жанны. Эта высоко мнящая о себе провинциалка, которая под напускной гордостью не могла скрыть от него своей алчности, казалась ему добычей легкой, но вместе с тем и желанной, благодаря красоте, остроумию и еще чему-то, что гораздо чаще пленяет мужчин пресыщенных, нежели наивных. Быть может, на этот раз кардинал, разгадать которого было невероятно трудно, сам не выказал должной проницательности и ошибся, но факт остается фактом: хорошенькая Жанна не внушала ему никаких подозрений.
Это означало гибель для столь выдающегося человека. Он стал не только слабее обычного – он стал пигмеем: разница между Марией Терезией и Жанной де Ламотт была слишком велика, чтобы такой закаленный боец, как Роган, дал себе труд вступить в борьбу.
Однако, как только схватка началась, Жанна, почувствовав слабость соперника, старалась не показать свою действительную силу и изображала провинциальную кокетку, пустую бабенку, дабы сохранить у противника уверенность в силах и, следовательно, ослабить его атаки…
Кардинал, заметив кое-какие жесты, которых она не смогла сдержать, решил, что г-жа де Ламотт захмелела от только что полученного подарка. Так оно и было: подарок этот превосходил не только все надежды графини, но даже самые радужные ее мечты.
Кардинал забыл лишь одно: это он должен был стоять выше амбиций и гордыни такой женщины, как Жанна.
В графине же хмель скоро рассеялся под влиянием новых желаний, которые тут же заняли место прежних.
– Итак, – проговорил кардинал, наливая Жанне кипрского в небольшой хрустальный бокал, усыпанный золотыми звездами, – поскольку вы подписали со мною договор, перестаньте дуться, графиня.
Я на вас дуюсь? Нисколько.
– Стало быть, вы когда-нибудь примете меня здесь без особого отвращения?
– Я никогда не буду настолько неблагодарна, чтобы забыть, что здесь вы у себя дома, монсеньор.
– Дома? Что за глупости?
– Нет-нет, конечно, дома.
– Предупреждаю, со мной лучше не спорить.
– А что будет?
– Я навяжу вам другие условия.
– В таком случае берегитесь!
– Чего?
– Всего.
– Вот еще.
– Я у себя дома.
– И…
– И если найду ваши условия неприемлемыми, кликну своих людей.
Кардинал рассмеялся.
– Ну вот, видите? – осведомилась графиня.
– Ничего не вижу, – ответил кардинал.
– О нет, вы прекрасно видите, что потешаетесь надо мной.
– Почему это?
– Вы смеялись.
– По-моему, момент был подходящий.
– Конечно, подходящий: вы же прекрасно знали, что если я позову своих людей, никто не придет.
– Ах, черт!
– Фи, ваше высокопреосвященство!
– А что я такого сделал?
– Выбранились, сударь.
– Здесь я не кардинал, графиня, здесь я просто имею счастье находиться у вас в гостях.
И кардинал снова расхохотался.
«Ей-богу, – подумала графиня, – он – прекрасный человек».
– Кстати, – произнес де Роган, делая вид, что мысль только сейчас случайно пришла ему на ум, – что вы в прошлый раз говорили об этих дамах-благотворительницах – немках, кажется?
– О тех, что забыли шкатулку с портретом? – отозвалась Жанна, которая, повидавшись с королевой, мгновенно насторожилась и приготовилась к ответному удару.
– Да, о них.
– Монсеньор, – глядя на кардинала, ответила г-жа де Ламотт, – держу пари, что вы знаете их не хуже меня, даже лучше.
– Я? О графиня, вы меня обижаете. Разве вы сами не хотели узнать, кто они?
– Разумеется. По-моему, это вполне естественное желание – знать своих благодетелей.
– Если бы я знал, кто они, вы бы тоже знали это.
– Повторяю, господин кардинал, вы их знаете.
– Нет.
– Еще раз скажете «нет», и я назову вас лжецом.
– О, тогда я отомщу за оскорбление.
– Каким же образом, интересно знать?
– Я вас поцелую.
– Господин посол при Венском дворе! Господин друг императрицы Марии Терезии! Мне кажется, хотя сходство и не очень велико, вы должны были узнать портрет вашей приятельницы.
– Нуда! Это портрет Марии Терезии, графиня.
– Давайте, давайте, прикидывайтесь, что ничего не понимаете, господин дипломат!
– Так что ж из того, что я узнал Марию Терезию?
– Когда вы узнали на портрете Марию Терезию, у вас должны были появиться догадки относительно женщин, которым этот портрет принадлежит.
– Но почему вы считаете, что я должен это знать? – спросил встревоженный кардинал.
– Да потому что портрет матери – заметьте, матери, а не императрицы – обычно бывает у…
– Договаривайте же.
– Обычно бывает у дочери.
– Королева! – вскричал Луи де Роган столь убедительно, что Жанна ему поверила. – Королева! У вас была ее величество!
– Как! Неужели вы не догадались сами, сударь?
– О Боже, конечно, нет, – простодушно ответил кардинал. – В Венгрии есть обычай, по которому портреты царствующих особ переходят от семьи к семье. Вот я, например: я не сын, не дочь и даже не родственник Марии Терезии, а ее портрет у меня с собой.
– У вас, монсеньор?
– Взгляните, – холодно предложил кардинал. Достав из кармана табакерку, он продемонстрировал ее опешившей Жанне.
– Теперь вы видите, – добавил он, – что раз у меня, не имеющего чести принадлежать к императорской фамилии, есть этот портрет, значит, забыть у вас шкатулку с портретом мог кто угодно, и вовсе не обязательно член августейшего австрийского дома.
Жанна молчала. Способности к дипломатии у нее были, но вот практики пока не хватало.
– Стало быть, вы полагаете, – продолжал принц Луи, – что вам нанесла визит королева Мария Антуанетта?
– Вместе с другой дамой.
– Госпожой де Полиньяк?
– Не знаю.
– Госпожой де Ламбаль?
– Это была молодая женщина, очень красивая и очень серьезная.
– Быть может, мадемуазель де Таверне?
– Возможно. Я с нею не знакома.
– Но раз ее величество приходила к вам, стало быть, вы можете быть уверены, что она вам покровительствует. Это большой шаг вперед в вашей судьбе.
– Я тоже так полагаю, монсеньор.
– Ее величество была к вам добра, простите за нескромный вопрос?
– Но ведь это, по-моему, она и дала мне сто луидоров.
– Вот как! Ее величество не богата, особенно сейчас.
– Это лишь удваивает мою признательность.
– А она выказала к вам интерес?
– И довольно живой.
– Тогда все в порядке, – задумчиво проговорил прелат, позабыв на секунду о своей протеже ради ее покровительницы. – Теперь вам осталось лишь одно.
– Что же?
– Проникнуть в Версаль.
Графиня улыбнулась.
– Не буду скрывать, графиня, это – главная трудность.
Графиня снова улыбнулась, еще более многозначительно, чем в первый раз.
На этот раз улыбнулся и кардинал.
– Ей-богу, вы, провинциалы, не сомневаетесь ни в чем. Стоит вам увидеть, как в Версале открываются ворота и люди поднимаются по лестнице, как вы уже воображаете, что открыть эти ворота и подняться по этим лестницам может любой. Вы видели чудовищ из бронзы, мрамора и свинца, которые украшают парк и террасы в Версале?
– Конечно, монсеньор.
– Гиппогрифы, химеры, горгоны, вампиры и прочие злобные создания, их там сотни! Так вот представьте, что среди принцев с их благодеяниями встречаются твари раз в десять злее, чем эти неживые монстры, стоящие в саду среди цветов.
– Надеюсь, ваше высокопреосвященство поможет мне пройти между этими чудовищами, если они преградят мне путь.
– Я попробую, но это будет нелегко. И если вы произнесете мое имя, если вы после этих двух моих визитов откроете свой талисман, он станет бесполезным.
– По счастью, – отозвалась графиня, – с этой стороны я защищена покровительством самой королевы, и если я проникну в Версаль, то ключ для этого выберу подходящий.
– Какой ключ, графиня?
– Ах, господин кардинал, это мой секрет… Хотя нет, неправда: это был мой секрет – я не хочу ничего скрывать от своего милого покровителя.
– Однако все же есть какое-то «но», графиня?
– Увы, монсеньор, есть. Поскольку секрет принадлежит не мне, раскрыть его я не могу. Вам достаточно знать…
– Что же?
– Что завтра я еду в Версаль, буду там принята, и, надеюсь, принята хорошо, монсеньор.
Кардинал бросил взгляд на молодую женщину; ее самоуверенность показалась ему прямым следствием отменного ужина.
– Посмотрим, графиня, – смеясь, проговорил он, – как вам удастся туда проникнуть.
– Неужели ваше любопытство простирается до такой степени, что вы станете следить за мной?
– Вот именно.
– От своего я все равно не отступлюсь.
– Берегитесь, графиня: после всего сказанного проникнуть завтра в Версаль – уже дело вашей чести.
– Да, монсеньор, в малые покои.
– Поверьте, графиня, вы для меня – живая загадка.
– Одно из тех чудовищ, что населяют версальский парк?
– Скажите, как по-вашему: есть у меня вкус или нет?
– Разумеется, есть, монсеньор.
– Смотрите, я у ваших ног и целую вам руку. Неужели вы думаете, что я способен приложить губы к когтям или дотронуться до покрытого чешуей хвоста?
– Умоляю, монсеньор, не забывайте, – холодно ответила Жанна, – что я – не гризетка и не девица из Оперы. Когда я не принадлежу своему мужу, я принадлежу лишь себе самой и, считая себя равной любому мужчине в нашем королевстве, свободно и не раздумывая выберу, когда мне это будет угодно, того, кто мне понравится. Хоть капельку уважая меня, монсеньор, вы тем самым проявите уважение к знати, к которой мы оба с вами принадлежим.
Кардинал снова сел в кресло.
– Значит, вы хотите, чтобы я всерьез полюбил вас, – сказал он.
– Я этого не говорю, господин кардинал, просто мне самой хотелось бы вас полюбить. Поверьте, когда такой миг настанет – если он вообще настанет когда-нибудь, – вы это поймете без труда. А если не поймете, я сама дам вам знать, потому что считаю себя достаточно молодой и привлекательной, чтобы не бояться самой делать авансы. Порядочный мужчина меня не оттолкнет.
– Графиня, уверяю вас, если дело только за мной, вы меня полюбите, – заявил кардинал.
– Посмотрим.
– Мы с вами уже друзья, не правда ли?
– И большие.
– В самом деле? Тогда половина пути уже позади.
– Давайте не будем его мерить, а просто пойдем.
– Графиня, я обожал бы вас…
И кардинал вздохнул.
– Обожали бы, если?.. – удивленно подхватила Жанна.
– Если бы вы мне позволили, – поспешно закончил кардинал.
– Я, наверное, позволю, монсеньор, но лишь тогда, когда судьба будет улыбаться мне достаточно долго для того, чтобы вы не сочли возможным падать передо мною на колени и целовать мне руку столь торопливо, как сейчас.
– Что-что?
– Да, когда я не буду более зависеть от ваших благодеяний, вы не заподозрите, что ваши визиты мне нужны для какой-нибудь выгоды, и тогда ваши виды на меня станут более возвышенными. Я от этого лишь выиграю, монсеньор, да и вы внакладе не останетесь.
Графиня, которой было удобнее читать мораль сидя, снова поднялась с места.
– Вы делаете мое положение невыносимым, – пожаловался кардинал.
– Почему же?
– Вы не позволяете мне ухаживать за вами.
– Вовсе нет. Разве за женщиной можно ухаживать, лишь становясь на колени и демонстрируя проворство рук?
– Тогда скорее к делу, графиня. Что же вы мне позволите?
– Все, что не идет вразрез с моим вкусом и долгом.
– О, вы выбрали две самые неопределенные области.
– Не перебивайте, монсеньор, я хотела добавить к этому и третью область.
– Какую ж, о Господи?
– Область моих капризов.
– Я пропал.
– Идете на попятный?
Скорее принимая вызов прелестной обольстительницы, чем следуя ходу своих мыслей, кардинал ответил:
– Нет, ни в коем случае.
– Вас не пугает мой долг?
– Ни он, ни ваши вкусы и капризы.
– Докажите.
– Стоит вам намекнуть…
– Я хочу сегодня вечером пойти на бал в Оперу.
– Это ваше дело, графиня, вы свободны, как ветер, и я не вижу, что может вам помешать пойти на бал в Оперу.
– Минутку, это лишь половина моего желания. Другая его половина заключается в том, чтобы вы тоже туда пошли.
– Я? В Оперу? О, графиня!..
И кардинал сделал движение – вполне обычное для личности заурядной, но для человека, который носит имя Рогана, означавшее колоссальный прыжок.
– Так-то вы хотите мне угодить? – упрекнула его графиня.
– Кардиналы не ходят на бал в Оперу, графиня. Это все равно, как если бы я предложил вам войти в… курильную комнату.
– По-вашему, кардиналы и не танцуют, да?
– Нет, конечно.
– Почему же тогда я читала, как кардинал де Ришелье танцевал сарабанду?
– Перед Анной Австрийской, верно… – вырвалось у кардинала.
– Перед королевой, вот именно, – подтвердила Жанна, пристально глядя на де Рогана. – Да, для королевы вы бы на это пошли.
При всей своей ловкости и самообладании принц залился краской.
То ли ехидная женщина пожалела смущенного кардинала, то ли решила больше не продлевать его замешательства, – как бы там ни было, она поспешно добавила:
– Да разве я, кому вы наговорили столько любезностей, вправе огорчаться, что вы ставите меня ниже королевы? Но вы же будете в домино и маске, а для меня это станет громадным шагом на том пути, о котором мы только что говорили, и я буду так вам признательна за вашу снисходительность.
Кардинал, довольный, что так легко отделался, и, главное, радуясь постоянным победам, которые изворотливая Жанна позволяла ему одерживать после каждой его оплошности, бросился к графине и сжал ей руку.
– Для вас, – воскликнул он, – я готов даже на невозможное!
– Благодарю, монсеньор, мужчина, идущий ради меня на подобные жертвы, весьма мне дорог. Теперь, когда вы согласились, я освобождаю вас от столь тяжкого бремени.
– О нет, плату может получить лишь тот, кто выполнил порученное дело. Я еду с вами, графиня, но только в домино.
– Мы будем проезжать по улице Сен-Дени, что рядом с Оперой, я в маске зайду в магазин и куплю вам костюм, а вы наденете его в карете.
– Это будет очаровательно, графиня, вы не находите?
– О, монсеньор, вы так добры ко мне, что я вся – смущение… Но я подумала вот о чем: быть может, у себя дома вы найдете домино, которое придется вам больше по вкусу, чем то, что мы собираемся купить?
– А вот эта уловка уже ни к чему, графиня. Если я еду на бал в Оперу, то поверьте…
– Да, ваше высокопреосвященство?
– Поверьте, что я, увидев там себя, буду удивлен не менее, чем были удивлены вы, когда остались отужинать вдвоем с мужчиной, который не приходится вам мужем.
Жанна почувствовала, что на это ей нечего сказать, и просто поблагодарила.
К дверям маленького домика подъехала карета, без гербов на дверцах. Наши искатели приключений сели в нее, и она быстро понеслась в сторону бульваров.
Опера, этот парижский храм развлечений, сгорела в июне 1781 года.
Под обломками погибло двадцать человек; поскольку подобное несчастье за последние восемнадцать лет произошло уже во второй раз, место, где помещалась Опера, то есть Пале-Рояль, сочли несчастливым для этого источника веселья парижан и по указу короля ее перенесли в другой, расположенный подальше от центра квартал.
Для людей, живших по соседству, этот город из холста и некрашеного дерева всегда составлял предмет беспокойства. Опера, живая и невредимая, воспламеняла сердца финансистов и знати, двигала состояниями и званиями. Загоревшаяся Опера могла погубить квартал, даже целый город. Все дело решал порыв ветра.
Место для новой Оперы было выбрано у заставы Сен-Мартен. Король, огорченный тем, что его славному городу Парижу придется так долго обходиться без Оперы, предался печали, что с ним случалось всякий раз, когда в город не подвозили зерно или когда хлеб дорожал до семи су за четыре фунта.
Нужно было видеть, как пожилая знать и молодая адвокатура, военные и финансисты были выбиты из колеи этой, так сказать, послеобеденной пустотой; нужно было видеть, как блуждают по бульварам бесприютные божества – от статиста до примадонны.
Чтобы утешить короля и отчасти королеву, к их величествам привели архитектора г-на Ленуара, который посулил им, что создаст диво дивное.
Этот добрый малый разработал новую систему переходов и коридоров – столь совершенную, что в случае пожара все находящиеся в театре люди могли спастись. Он спроектировал восемь запасных выходов, не считая пяти широких окон на втором этаже, помещенных так низко, что самый малодушный человек мог выпрыгнуть на бульвар, рискуя в худшем случае растянуть себе ногу.
Взамен красивого зала, построенного по эскизам Моро и расписанного Дюрамо, г-н Ленуар задумал построить здание длиною 96 футов с фасадом, выходящим на бульвар. Восемь колонн с кариатидами обрамляли три входные двери; восемь же колонн были оперты на цокольный этаж; кроме того, над их капителями помещался барельеф, а еще выше – фонарь с тремя окнами, украшенными наличниками.
Сцена имела в глубину 36 футов, зрительный зал – 72 фута в длину и 84 в ширину, от стены до стены.
Под оркестром г-н Ленуар устроил пространство во всю ширину зала и длиною двенадцать футов; в нем помещался огромный резервуар и два комплекта насосов, обслуживать которые должны были двадцать гвардейцев.
В довершение всего архитектор попросил на постройку театра семьдесят пять дней и ночей – ни больше, ни меньше.
Последнее его заявление показалось бахвальством, над ним сперва очень потешались, однако король произвел вместе с г-ном Ленуаром необходимые расчеты и согласился.
Г-н Ленуар принялся за дело и сдержал слово. Театр был закончен в условленный срок.
Однако беспокойная публика, на которую никогда не угодишь, решила: раз здание построено быстро, на скорую руку, то есть кое-как, значит, новая Опера небезопасна. И несмотря на то, что парижане столько вздыхали по новому театру, ежедневно приходили смотреть, как балка за балкой он поднимается вверх, и заранее облюбовывали себе в нем местечко, теперь, когда он был наконец построен, никто не хотел в него идти. Самые отважные и безрассудные, правда, не сдали билетов на первое представление оперы Пиччини «Адель из Понтье», однако запаслись завещаниями. Увидев это, архитектор в отчаянии побежал к королю, и тот дал ему совет.
– Во Франции к трусам относятся все те, кто платит деньги, – сказал его величество. – Они лучше дадут вам десять тысяч ливров ренты и будут задушены прессой, но не станут подвергать себя опасности задохнуться под обвалившимся потолком. Предоставьте их мне и пригласите тех, кто не платит денег. Королева подарила мне дофина, и весь город вне себя от радости. Вот вы и объявите, что в честь рождения моего сына Опера откроется бесплатным спектаклем. И если двух тысяч пятисот человек, то есть трехсот тысяч фунтов веса, вам не хватит, чтобы проверить прочность вашей постройки, попросите этих молодцов немного попрыгать – ведь вам известно, господин Ленуар, что вес, падающий с высоты в четыре дюйма, дает нагрузку в пять раз большую, чем когда он неподвижен. Ваши две с половиной тысячи смельчаков, если вы заставите их танцевать, создадут нагрузку в полтора миллиона фунтов. Так что устройте после представления бал.
– Благодарю вас, сударь, – ответил архитектор.
– Но прежде хорошенько подумайте, вашему зданию придется нелегко.
– Государь, я ручаюсь за свою работу и сам пойду на бал.
– А я, – ответил король, – обещаю вам присутствовать на втором спектакле.
Архитектор последовал совету короля. Перед тремя тысячами зрителей из простонародья была дана «Адель из Понтье», и они рукоплескали восторженнее, чем любые короли. Зрители были не прочь поплясать после представления и веселились во всю мочь. Нагрузку на перекрытия увеличили не в пять, а в целых десять раз. Здание не дрогнуло.
Если и нужно было опасаться несчастья, то лишь на следующих спектаклях, когда благородные трусы набивались в зал, как сельди в бочке, – в тот самый зал, куда тремя годами позже отправились на бал кардинал де Роган и г-жа де Ламотт.
Такова преамбула, которую мы сочли нужным дать читателям, а теперь вернемся к нашим героям.
Праздник был уже в самом разгаре, когда кардинал Луи де Роган и г-жа де Ламотт украдкой – прелат во всяком случае – проскользнули в зал и смешались с тысячами самых разнообразных домино и масок. Вскоре они потерялись в толпе: так порой гуляющий по берегу реки видит, как небольшие завихрения, подхваченные течением, исчезают в водовороте. Два домино – насколько им позволяла сумятица – старались двигаться рядом и общими усилиями держаться друг за друга, однако, видя, что это им не удается, решили искать убежища подле ложи королевы, где было несколько свободнее и можно было прислониться к стене.
Черное домино и белое, одно – высокого роста, другое – среднего, под одним скрывался мужчина, под другим – женщина, одно размахивало руками, другое вертело во все стороны головой.
Эти домино оживленно беседовали. Послушаем.
– Говорю вам, Олива, вы кого-то ждете, – говорил высокий мужчина. – Ваша голова уже превратилась во флюгер и крутится вслед каждому встречному.
Ну и что?
– Как это – ну и что?
– А что удивительного в том, что я кручу головой? Разве я не для этого сюда пришла?
– Да, но если вы еще и кружите головы другим…
– Скажите, сударь, почему люди ходят в Оперу?
– По тысяче разных причин.
– Мужчины – да, но женщины ходят сюда только по одной причине.
– По какой же?
– По той, что вы назвали, – чтобы вскружить как можно больше голов. Вы привезли меня на бал в Оперу, я здесь, теперь терпите.
– Мадемуазель Олива!
– Не рычите, я вас не боюсь. И воздержитесь называть меня по имени. Вам ведь прекрасно известно, что это дурной тон – называть человека по имени на балу в Опере.
Черное домино гневно замахнулось рукой, но внезапно было остановлено откуда-то взявшимся голубым домино – дородным, высоким, приятной наружности.
– Легче, сударь, легче, – посоветовал вновь прибывший, – оставьте даму в покое, пусть развлекается, как хочет. Какого черта! Середина поста случается не каждый день, да и не во всякую середину поста можно пойти на бал в Оперу.
– Не суйтесь не в свое дело! – грубо парировало черное домино.
– Вот что, сударь, – отозвалось голубое, – запомните раз и навсегда: немного учтивости еще никогда никому не повредило.
– Да я вас не знаю, – ответствовало черное домино, – так какого дьявола мне с вами церемониться!
– Вы меня не знаете, пусть так, но…
– Что – но?
– Но я-то вас знаю, господин Босир.
При звуке своего имени черное домино, так свободно произносившее чужие имена, вздрогнуло, что было хорошо заметно по трепетанию его шелкового капюшона.
– Да не пугайтесь вы, господин Босир, – продолжала маска, – я вовсе не тот, о ком вы подумали.
– А что я, по-вашему, подумал, черт возьми? Вы ведь так легко угадываете имена – так, пожалуй, считаете, что можете угадывать и мысли? А почему бы нет?
– Тогда догадайтесь, о чем я думаю. Я никогда еще не видел волшебников и буду весьма рад познакомиться с ним из них.
– Ну, то, о чем вы просите, слишком просто и не заслуживает титула, которым вы меня наградили.
– Все равно, скажите.
– Нет, придумайте что-нибудь потруднее.
– Этого мне достаточно. Говорите.
– Вы и вправду этого хотите?
– Да.
– Тогда слушайте: вы приняли меня за человека господина де Крона.
– Господина де Крона?
– Ну да, вы же его знаете, черт побери! Господина де Крона, начальника полиции.
– Сударь…
– Полегче, дорогой господин Босир, можно подумать, вы пытаетесь нашарить на боку шпагу.
– Конечно, пытаюсь!
– Что за воинственная натура! Полно, дорогой господин Босир, вы оставили шпагу дома и правильно сделали. Поговорим о другом. Вы не позволите взять вашу даму под руку?
– Мою даму? Под руку?
– Вот-вот. По-моему, на балу в Опере это принято, или я попал сюда из Индии?
– Да, сударь, принято, если это устраивает ее кавалера.
– Иногда достаточно, дорогой господин Босир, чтобы это устраивало даму.
– И долго вы собираетесь ходить с ней под руку?
– Ах, дорогой господин Босир, вы слишком любопытны. Может, минут десять, может, час, может, всю ночь.
– Довольно, сударь, вы надо мною смеетесь!
– Вот что, любезный, отвечайте: да или нет?
– Нет.
– Ну, хватит, хватит, не изображайте из себя злюку.
– Что вы этим хотите сказать?
– У вас ведь уже есть маска, и надевать вторую вам ни к чему.
– Силы небесные! Сударь!..
– Ну вот вы уже и сердитесь, хотя недавно были так нежны.
– Где это?
– На улице Дофины.
– На улице Дофины? – повторил ошеломленный Босир.
Олива расхохоталась.
– Замолчите, сударыня! – проскрипело черное домино. Затем, повернувшись к голубому, продолжало: – Я не понимаю ни слова из того, что вы говорите, сударь. Угодно вам сбивать меня с толку – ради Бога, но только честно, если можете…
– Сударь мой, мне кажется, что нет ничего честнее, чем правда, не так ли, мадемуазель Олива?
– Так вы знаете и меня? – удивилась та.
– Разве этот господин не назвал вас недавно по имени, причем громко?
– А правда, – возвращаясь к прерванному разговору, заявил Босир, – правда в том, что…
– Правда в том, что, когда вы собирались убить эту несчастную даму – а с тех пор не прошло и часа, – вы были остановлены звоном двадцати луидоров.
– Довольно, сударь.
– Согласен. Дайте мне руку вашей дамы, раз вам уже довольно.
– О, я вижу, что вы с ней… – пробормотал Босир.
– Что мы с ней?
– Сговорились.
– Клянусь, нет.
– Вот еще! – воскликнула Олива.
– И к тому же… – добавило голубое домино.
– Что – к тому же?
– Даже если мы и сговорились, то только для вашей пользы.
– Для моей пользы?
– Безусловно.
– Такие вещи нужно доказывать, – развязно заметил Босир.
– Охотно.
– Любопытно будет послушать.
– Я докажу, – продолжало голубое домино, – что ваше присутствие здесь настолько же вредно для вас, насколько полезно будет ваше отсутствие.
– Полезно для меня?
– Да, для вас.
– Чем же, хотелось бы узнать?
– Мы ведь являемся членами некой академии, не так ли?
– Я?
– Ох, да не сердитесь вы так, дорогой господин Босир, я же говорю не о Французской Академии[61].
– Академия… Академия… – бормотал кавалер Оливы.
– Улица По-де-Фер, подвальный этаж – это ведь там, дорогой господин Босир?
– Тс-с!
– Вот те на!
– Да тише вы! До чего вы все-таки неприятный человек, сударь.
– Не нужно так говорить.
– Почему же?
– Да потому, черт возьми, что вы сами в это не верите. Впрочем, вернемся к академии.
– Ну?
Голубое домино достало часы – прелестные часы, украшенные бриллиантами. Глаза Босира, словно две сверкающие линзы, повернулись в их сторону.
– Ну? – повторил он.
– Ну вот, через четверть часа в вашей академии на улице По-де-Фер, дорогой господин Босир, будет обсуждаться вопрос касательно распределения барыша размером в два миллиона среди двенадцати действительных членов, одним из которых являетесь вы, господин Босир.
– А вы – другим, если только…
– Договаривайте.
– Если только вы не полицейский шпион.
– Ей-богу, я считал вас умным человеком, господин Босир, но с болью убеждаюсь, что вы глупец. Будь я из полиции, вас уже схватили бы раз двадцать, причем за дела менее почетные, нежели эта двухмиллионная спекуляция, которая будет через несколько минут обсуждаться в академии.
Босир задумался.
– Проклятье! – наконец проговорил он. – Быть может, вы и правы.
Затем вдруг спохватился:
– А, сударь, так вы посылаете меня на улицу По-де-Фер?
– Да, на улицу По-де-Фер.
– Я знаю, почему вы это делаете.
– Почему же?
– Вы хотите, чтобы меня там сцапали. Нашли дурака!
– Еще одна глупость.
– Сударь!
– Ну, конечно! Если бы в моей власти было сделать то, о чем вы говорите, если бы я обладал еще большей властью, чтобы узнать, что там затевается, в вашей академии, разве стал бы я просить у вас позволения побеседовать с дамой? Нет. Я тут же приказал бы вас арестовать, и мы с мадемуазель избавились бы от вас. Я же, напротив, действую только лаской и убеждением, дорогой господин Босир, таков мой девиз.
– Погодите-ка! – вдруг вскричал Босир, отпуская руку Оливы. – Это вы два часа назад сидели на софе у этой дамы? А ну, отвечайте!
– На какой еще софе? – спросило голубое домино, которого Олива слегка ущипнула за мизинец. – Что касается софы, то на этот предмет мне известен лишь роман господина Кребийона-младшего[62].
– Впрочем, мне это все равно, – заявил Босир, – ваши доводы убедительны, а мне только это и нужно. Да что я говорю «убедительны» – они превосходны! Итак, берите даму под руку, и, если вы втравили благородного человека в скверную историю, пусть вам будет стыдно.
Услышав эпитет «благородный», которым столь щедро наградил себя Босир, голубое домино расхохоталось и, похлопав его по плечу, объяснило:
– Можете спать спокойно: посылая вас в академию, я делаю вам подарок примерно в сто тысяч ливров. Не пойди вы по заведенному вами обычаю сегодня вечером, вас исключили бы при дележе, тогда как, отправившись…
– Ладно, была не была, – пробормотал Босир. И, вместо поклона изобразив пируэт, удалился.
Голубое домино тут же завладело рукой мадемуазель Оливы, благодаря уходу Босира оказавшейся свободной.
– Ну, вот мы и вдвоем, – сказала она. – Я позволила вам привести в замешательство беднягу Босира, но предупреждаю: меня сбить с толку не удастся, я вас уже знаю. И если вы хотите продолжать беседы, найдите что-нибудь поинтереснее, иначе…
– Я не знаю ничего интереснее, чем ваша история, милая мадемуазель Николь, – проговорил незнакомец и пожал округлую ручку молодой женщины, которая, услышав слова, что прошептал ей в ухо собеседник, испустила сдавленный крик.
Однако она тут же пришла в себя, как человек, не привыкший к тому, чтобы его заставали врасплох.
– Боже! Что за имя вы произнесли? – удивилась она. – Николь! Вы имеете в виду меня? Не хотите ли вы, случаем, называть меня этим именем? В таком разе вы потерпите кораблекрушение, едва выйдя из порта, сядете на первую же мель. Меня зовут иначе.
– Теперь да, я знаю, теперь вас зовут Олива. Николь слишком уж отдавала провинцией. Я понимаю, в вас заключены две женщины – Олива и Николь. Потом мы поговорим об Оливе, но сначала – о Николь. Неужели вы забыли то время, когда отзывались на это имя? Думаю, нет. Ах, дитя мое, раз вы девочкой носили это имя, оно навсегда останется с вами, хотя бы в глубине сердца – какое бы другое имя вам ни пришлось взять, чтобы заставить всех позабыть первое. Бедная Олива! Счастливица Николь!
В этот миг гурьба масок, словно волною, захлестнула прогуливавшихся бок о бок собеседников, и Николь, то бишь Олива, была вынуждена теснее прижаться к спутнику.
– Видите эту пеструю толпу? – заговорил он. – Видите этих людей, которые наклоняют свои капюшоны поближе друг к другу, чтобы жадно впитывать слова ухаживания или любви? Видите эти группы, которые сходятся и расходятся – одни со смехом, другие с упреками? Все они знают, наверное, столько же имен, что и вы, и я удивил бы многих из них, назвав им имена, которые они тут же вспомнят, хотя считали их позабытыми.
– Вы сказали: «Бедная Олива»?
– Да.
– Значит, вы считаете, что я несчастлива?
– Трудно быть счастливой рядом с таким человеком, как Босир.
Олива вздохнула.
– Так оно и есть! – призналась она.
– И все же вы его любите?
– В разумных пределах.
– Если нет, то лучше бросьте его.
– Не брошу.
– Почему?
– Потому что я не успею его бросить, как уже буду жалеть.
– Будете жалеть?
– Боюсь, что да.
– Стоит ли жалеть пьяницу, игрока, человека, который вас бьет, мошенника, которого когда-нибудь колесуют на Гревской площади?
– Вы, наверное, не поняли, что я имела в виду.
– Ну, объясните.
– Я буду жалеть, что никто не создает вокруг меня шум.
– Я должен был догадаться. Вот что значит провести молодость с молчаливыми людьми.
– Вы знаете, как прошла моя молодость?
Очень хорошо.
– Ах, сударь мой, – воскликнула Олива и рассмеялась, недоверчиво качая головой.
– Вы сомневаетесь?
– Не сомневаюсь – уверена.
– Тогда поговорим о вашей молодости, мадемуазель Николь.
– Поговорим, только предупреждаю, что отвечать я не буду.
– О, в этом нет необходимости.
– Итак, я жду.
Я не буду говорить о детстве, которое не в счет, а начну с вашей юности, с того момента, когда вы заметили, что Господь дал вам сердце для того, чтобы любить.
– Чтобы кого любить?
– Чтобы любить Жильбера.
При этом слове, этом имени по жилам молодой женщины пробежала дрожь, не ускользнувшая от внимания голубого домино.
– Боже, откуда вы знаете? – пролепетала она.
Внезапно она остановилась, и сквозь прорези маски незнакомец увидел устремленный на него полный волнения взгляд.
Но голубое домино промолчало.
Олива, то бишь Николь, вздохнула.
– Ах, сударь, – проговорила она, не стремясь более к сопротивлению, – вы произнесли имя, с которым у меня связано столько воспоминаний! Так вы знаете Жильбера?
– Знаю, раз говорю о нем.
– Увы!
– Клянусь честью, очаровательный мальчик! Вы его любили?
– Он был красив… Нет, не так… Это я считала его красивым. Он был умен и ровня мне по рождению… Нет, я ошиблась. Ровня – нет, никогда. Когда Жильбер того хотел, никакая женщина не была ему ровней.
– Даже…
– Даже кто?
– Даже мадемуазель де Та…?
– О, я знаю, кого вы имеете в виду, – перебила Николь – Как вижу, вы хорошо осведомлены, сударь! Да, в своей любви он метил выше бедной Николь.
– Но я не договорил.
– Да, да, вам известны страшные тайны, сударь, – задрожав, сказала Олива. – Теперь…
Она посмотрела на незнакомца, словно могла видеть выражение его лица сквозь маску.
– Что же с ним стало теперь? – спросила Олива.
– Я думаю, вам это известно лучше, чем кому бы то было.
– Господи, почему?
– Потому что если вы проследовали с Таверне до Парижа, то должны были проследовать и дальше – из Парижа до Трианона.
– Вы правы, но это было так давно, а я говорю не об этом. Я говорю, что с тех пор, как я сбежала, а он исчез, прошло целых десять лет. За это время столько могло пройти!
Голубое домино хранило молчание.
– Прошу вас, – настаивала, почти умоляла Николь. – Скажите, что стало с Жильбером? Молчите? Отворачиваетесь? Должно быть, эти воспоминания вам неприятны, они вас печалят?
В сущности, незнакомец не отвернулся, а лишь опустил голову, словно тяжесть воспоминаний была для него слишком велика.
– Раз Жильбер любил мадемуазель де Таверне… – снова начала Олива.
– Не называйте имена так громко, – ответило голубое домино. – Разве вы не заметили, что я вообще обхожусь без имен?
– Он был так влюблен, – продолжала со вздохом Олива, – что в Трианоне каждое дерево знало о его любви.
– Что же, вы его больше не любите?
– Напротив, еще сильнее, чем раньше, и эта любовь меня погубила. Я красива, горда, могу, если захочу, быть дерзкой. Я готова дать голову на отсечение, только бы победить эту любовь, только бы не говорили, что я покорилась.
– А вы – не робкого десятка, Николь.
– Да, была когда-то, – вздохнув, ответила молодая женщина.
– Этот разговор вас печалит?
– Напротив, мне приятно вернуться к годам своей молодости. Жизнь у меня похожа на реку, бурную реку с чистыми истоками. Продолжайте, не обращайте внимания на случайный вздох, который вырвался у меня из груди.
– О вас, о Жильбере и еще об одной особе, – промолвило голубое домино, и легкое колыхание маски выдало расцветшую под нею улыбку, – я знаю все, мое бедное дитя, все, что вы могли бы знать и сами.
– Тогда скажите, – воскликнула Олива, – почему Жильбер сбежал из Трианона? Если вы мне это скажете…
– То вы будете убеждены в чем-то? Так вот: я вам этого не скажу, а вы будете убеждены еще сильнее.
– Как так?
– Спросив у меня, почему Жильбер покинул Трианон, вы не хотели найти в моем ответе подтверждение истины, вам лишь нужно было услышать кое-что, чего вы не знаете, но хотите узнать.
– Это верно.
Внезапно Николь вздрогнула еще сильнее, чем прежде, и судорожно схватила незнакомца за руки.
– Боже мой! Боже! – воскликнула она.
– Что случилось?
Но Николь, казалось, уже отбросила мысль, вызвавшую у нее эту вспышку.
– Ничего.
– Вот и ладно. Однако вы хотели меня о чем-то спросить?
– Да. Скажите откровенно: что стало с Жильбером?
– А разве до вас не доходили слухи о его смерти?
– Доходили, но…
– Никаких «но». Он умер.
– Умер? – с сомнением переспросила Николь. Затем она снова вздрогнула и попросила:
– Умоляю, сударь, сделайте мне одолжение!
– Хоть два, хоть десять – сколько захотите, милая Николь.
– Я видела вас у себя дома два часа назад, не так ли? Ведь это были вы?
– Разумеется.
– Два часа назад вы от меня не прятались.
– Конечно, нет. И даже напротив, мне хотелось, чтобы получше меня разглядели.
– Ох, ну что я за дура! Так долго смотреть на вас! Дура, глупая женщина! Женщина – и этим все сказано, как говорил Жильбер.
– Ну полно, полно, оставьте в покое свои чудесные волосы. Пощадите их!
– Нет, я хочу наказать себя за то, что смотрела на вас и не видела.
– Не понимаю.
– Знаете, о чем я хочу вас попросить?
– Попросите.
– Снимите маску.
– Здесь? Это невозможно.
– О нет, вы боитесь не чужих взглядов, а моего. Здесь за колонной, в тени галереи, вас никто, кроме меня, не видит.
– Почему же тогда, по-вашему, я отказываюсь?
– Вы боитесь, что я вас узнаю.
– Меня?
– И закричу: «Это вы, Жильбер!»
– Да, насчет глупой женщины – это вы правильно заметили.
– Снимите маску.
– Ладно, но при одном условии.
– Заранее согласна.
– Я хочу, чтобы и вы сняли маску.
– Сниму. А если нет, вы сами ее сорвете.
Голубое домино не пришлось долго упрашивать: зайдя в темный уголок, указанный молодой женщиной, незнакомец снял маску и повернулся к Оливе, которая с минуту пожирала его взглядом.
– Увы, нет! – воскликнула она, топнув ногой и царапая ладони ногтями. – Увы! Это не Жильбер!
– Кто же я в таком случае?
– Какая разница, главное, вы – не Жильбер.
– А если бы перед вами оказался Жильбер? – спросил незнакомец, вновь надевая маску.
– О, если бы это оказался Жильбер! – страстно воскликнула молодая женщина.
– Что было бы тогда?
– Если бы он сказал мне: «Николь, вспомни Таверне-Мезон-Руж…» О, тогда…
– Ну-ну?
– Тогда Босир исчез бы, понимаете?
– Но я же сказал вам, милое дитя, что Жильбер умер.
– Что ж, быть может, оно и к лучшему, – вздохнула Олива.
– Да, при всей вашей красоте Жильбер бы вас не полюбил.
– Вы хотите сказать, что он меня презирал?
– Нет, скорее боялся.
– Возможно. Он был в моей власти и знал, что я могу нагнать на него страху.
– Значит, говорите, это к лучшему – что Жильбер умер?
– Зачем повторять мои слова? Слышать их от вас мне неприятно. Скажите, почему его смерть к лучшему?
– Потому что сегодня, моя милая Олива – вы заметили, я не сказал «Николь», – потому что сегодня у вас есть надежда на счастливое, обеспеченное, блестящее будущее.
– Вы так думаете?
– Да, если вы готовы пойти на все, чтобы достичь обещанной мною цели.
– Об этом не беспокойтесь.
– Только не нужно вздыхать, как вы делали только что.
– Ладно. Я вздыхала по Жильберу, а так как он умер и его больше нет, то я и вздыхать перестану.
– Жильбер был молод и обладал всеми достоинствами и недостатками, присущими молодости. Сегодня…
– Сегодня Жильбер так же молод, как десять лет назад.
– Вы не правы, он же мертв.
– Правильно, мертв, но такие, как Жильбер, не стареют, они умирают.
– О молодость, отвага, красота – вечные семена любви, героизма и преданности! – воскликнул незнакомец. – Тот, кто теряет их, теряет, как правило, и жизнь. Молодость – это небо, рай, это все! То, что Господь дарует вам после, – это лишь печальное вознаграждение за молодость. Чем больше Господь дает человеку, когда молодость его прошла, тем большим он считает свой долг по отношению к этому человеку. Но, великий Боже, ничто не может сравниться с сокровищами, которые дарит человеку молодость!
– Жильбер, наверное, думал точно так же, – отозвалась Олива. – Но довольно об этом.
– Да, давайте лучше поговорим о вас.
– О чем вам будет угодно.
– Почему вы сбежали с Босиром?
– Потому что хотела покинуть Трианон. Нужно же было с кем-то убежать. Я больше не могла оставаться для Жильбера женщиной на крайний случай.
– Десять лет хранить верность из одной только гордости! – заметил человек в голубом домино. – Дорого же вы заплатили за свою суетность!
Олива рассмеялась.
– О, я знаю, чему вы смеетесь, – серьезно проговорил незнакомец. – Тому, что человек, полагающий себя всезнайкой, обвиняет вас в десятилетней верности, тогда как вы и не думали, что вам можно вменить в вину подобную ерунду. О Боже, если вы имеете в виду верность телесную, то я знаю, о чем вы думаете. Да, мне известно, что вы были с Босиром в Португалии, прожили там два года, оттуда отправились в Индию, уже не с Босиром, а с капитаном фрегата, который прятал вас у себя в каюте и оставил в Чандернагоре[63], когда собирался возвращаться в Европу. Я знаю, что в вашем распоряжении было два миллиона рупий, когда вы жили в доме у набоба, который держал вас за тремя решетками. Знаю, что вы сбежали оттуда, перепрыгнув через решетки с помощью раба, подставившего вам свою спину. Знаю и то, что, уже будучи богатой, так как вы взяли у набоба два прекрасных жемчужных браслета, два алмаза и три больших рубина, вы вернулись во Францию, в Брест, где в порту вас настиг ваш злой гений – сойдя с судна, вы наткнулись на Босира, который чуть не упал в обморок, узнав вас, загорелую и похудевшую изгнанницу.
– Господи, да кто же вы? – воскликнула Николь. – Откуда вам все это известно?
– Я знаю, что Босир забрал вас с собой, уверил в том, что вас любит, продал ваши камни, и вы снова очутились в нищете. Знаю, что вы его любите – так, по крайней мере, вы говорите, а поскольку любовь – источник всего доброго, то вы должны быть самой счастливой женщиной в мире.
Олива повесила голову, закрыла лицо рукой, и меж пальцев у нее потекли слезы. Эти жидкие жемчужины, быть может, даже более дорогие, чем те, что были в браслете, но которые, увы, никто не выражал желания купить у Босира.
– И такую гордую и счастливую женщину, – прошептала она, – вы купили сегодня вечером за пятьдесят луидоров.
– Знаю, сударыня, это слишком дешево, – ответил незнакомец с тем непередаваемым изяществом и безукоризненной галантностью, которые никогда не покидают благородного человека, пусть даже в беседе с самым недостойным придворным.
– Напротив, сударь, это слишком дорого. Меня даже удивило, клянусь вам, что женщина вроде меня может стоить пятьдесят луидоров.
– Вы стоите гораздо больше, и я вам это докажу. Нет, нет, не отвечайте, потому что вы ничего не понимаете, и к тому же… – добавил незнакомец, слегка склонившись в сторону.
– И к тому же?
– К тому же сейчас мне нужно все мое внимание.
– Тогда я молчу.
– Нет, почему же, беседуйте со мной.
– О чем?
– Да, Господи, о чем угодно! Говорите самые пустые вещи, это неважно, главное, чтобы мы выглядели поглощенными беседой.
– Хорошо. Все же вы странный человек.
– Дайте руку и пойдем.
Они двинулись по залу среди толпы. Олива расправила плечи, изящество ее головки и гибкость шеи были заметны, несмотря даже на маскарадный костюм; все вокруг оборачивались: в те времена – времена удалых волокит – каждый пришедший на бал в Оперу следил за проходящей мимо женщиной с не меньшим любопытством, чем ныне любители скачек наблюдают за бегом породистого скакуна.
Через несколько минут Олива осмелилась задать какой-то вопрос.
– Молчите! – бросил незнакомец. – Впрочем, говорите, если вам угодно, но не заставляйте меня отвечать. И если будете говорить, то измените голос, держите голову прямо и постукивайте веером по своему воротнику.
Она не посмела ослушаться.
Через несколько секунд наши герои поравнялись с кучкой людей, буквально расточавшей благоухание. В центре этой группы стоял изящный стройный мужчина, непринужденно беседовавший с тремя спутниками, которые слушали его с большим почтением.
– Кто этот молодой человек? – осведомилась Олива. – Вон тот, в прелестном жемчужно-сером домино?
– Граф д'Артуа, – ответил незнакомец. – Но больше ни звука, заклинаю вас!
В тот миг, когда Олива, совершенно потрясенная громким именем, которое только что произнес ее спутник в голубом домино, устраивалась так, чтобы лучше видеть (при этом, следуя неоднократно повторенным наставлениям, она держалась прямо, словно проглотила палку), два других домино, выбравшись из шумной, говорливой группы масок, уединились в проходе вокруг кресел партера, где не было ни одной банкетки.
То было нечто вроде пустынного островка, на который время от времени накатывали группы прогуливающихся, оттесненных из центра зала на его периферию.
– Графиня, обопритесь на эту перегородку, – тихо произнес голос, произведший такое впечатление на голубое домино.
И почти в ту же секунду высокий мужчина в оранжевом домино, чьи дерзкие манеры выдавали скорее человека, состоящего на чьей-нибудь службе, чем галантного придворного, прорезал толпу и, подойдя к голубому домино, доложил:
– Это он.
– Прекрасно, – бросил тот и жестом отпустил оранжевое домино.
После этого он наклонился к Оливе и шепнул ей на ухо:
– Вот теперь, дружочек, мы немножко повеселимся.
– Давно пора, а то вы уже дважды огорчили меня. В первый раз, разлучив с Босиром, который всегда веселил меня, а во второй, напомнив о Жильбере, который столько раз заставлял меня плакать.
– Я стану для вас и Жильбером, и Босиром, – значительно произнесло голубое домино.
Николь вздохнула.
– Поймите только, я вовсе не прошу любить меня, я прошу лишь согласиться на жизнь, которую я создам для вас, иначе говоря, я буду исполнять все ваши фантазии, если иногда и вы будете исполнять мои. И вот одна из них.
– В чем же она состоит?
– Вон то черное домино – немец, мой друг.
– Ах, так!
– Обманщик, он сказал мне, что не пойдет на бал, потому что у него болит голова.
– И вы тоже сказали ему, что не пойдете?
– Совершенно верно.
– С ним женщина?
– Да.
– И кто же она?
– Не знаю. Вы не против, если мы сейчас подойдем к ним? Будем изображать, что вы немка, только не раскрывайте рта, а то по вашему выговору вмиг станет ясно, что вы чистокровная парижанка.
– Хорошо. И вы будете их интриговать?
– О, можете быть уверены. Итак, начнем с того, что вы укажете на них веером.
– Вот так?
– Прекрасно. А теперь говорите мне что-нибудь на ухо.
И то и другое м-ль Олива безропотно исполнила, и притом с легкостью, приведшей в восторг ее спутника.
Черное домино, объект этого маневра, стоял спиной к залу: он беседовал со своей дамой. Она же, чьи глаза сверкали в прорезях маски, заметила жест м-ль Оливы.
– Монсеньор, – шепнула она, – там две маски интересуются нами.
– Не беспокойтесь, графиня. Нас невозможно узнать. И поскольку мы уже на пути к вечной гибели, позвольте мне еще раз повторить вам, что ни у кого в мире не было столь прелестного стана, столь жгучего взгляда. Позвольте мне сказать вам…
– Все, что говорится в маске.
– Нет, графиня, все, что говорится в…
– Не заканчивайте, вы погубите свою душу… И потом, опасность слишком велика: нас услышат соглядатаи.
– Двое соглядатаев! – воскликнул взволнованный кардинал.
– Да, и вот они решились; они подходят к нам.
– Графиня, если они с вами заговорят, измените голос.
К ним действительно подошли Олива и ее спутник в голубом домино, который обратился к кардиналу:
– Маска… – после чего наклонился к уху м-ль Оливы, и она утвердительно кивнула.
– Что тебе нужно? – осведомился кардинал, изменив голос.
– Дама, моя спутница, попросила меня задать тебе несколько вопросов, – ответило голубое домино.
– Задавай, но побыстрее, – бросил г-н де Роган.
– Даже если они будут весьма нескромными, – прибавила тоненьким голосом г-жа де Ламотт.
– Настолько нескромными, – заметило голубое домино, – что ты, любопытная, не поймешь ни слова.
И он вновь склонился к уху м-ль Оливы, которая опять кивнула. Тогда незнакомец на безукоризненном немецком задал кардиналу вопрос:
– Монсеньор, ответьте, вы влюблены в эту женщину, вашу спутницу?
Кардинал вздрогнул.
– Вы сказали «монсеньор»? – осведомился он.
– Да, монсеньор.
– В таком случае вы ошиблись: я не тот, за кого вы меня принимаете.
– Ваше преосвященство, не стоит запираться: это бессмысленно. Я узнал вас, и дама, которую я сопровождаю, велела мне передать, что также узнала вас.
Он наклонился к Оливе и шепнул ей:
– Кивните в знак подтверждения. Делайте то же самое всякий раз, когда я сожму вам руку.
Олива кивнула.
– Вы удивляете меня, – промолвил сбитый с толку кардинал, – кто эта дама, которую вы сопровождаете?
– О монсеньор, я-то думал, что вы уже узнали ее. Она сразу распознала вас. Правда, ревность…
– Ваша спутница ревнует меня? – с некоторым даже высокомерием ответил незнакомец.
– Что он вам сказал? – живо заинтересовалась г-жа де Ламотт, которую страшно раздражало то, что разговор ведется на немецком, то есть совершенно непонятном ей языке.
– Ничего, пустяки.
Г-жа де Ламотт гневно топнула ножкой.
– Сударыня, – обратился кардинал к Оливе, – молю вас, скажите только одно слово, и обещаю, что тотчас узнаю вас.
Г-н де Роган говорил по-немецки, Олива, разумеется, ничего не поняла и склонилась к голубому домино.
– Сударыня, – воскликнул тот, – заклинаю вас, ни слова!
Эта таинственность разожгла любопытство кардинала. Он взмолился:
– Всего одно слово по-немецки! Это ничуть не скомпрометирует вас!
Голубое домино, делавшее вид, будто оно выслушивает распоряжения м-ль Оливы, почти тотчас же сказало:
– Ваше высокопреосвященство, вот подлинные слова моей спутницы: «Тот, чья мысль не бдит ежечасно, чье возражение не заполнено бессменно предметом любви, не любит; он не должен говорить о любви».
Кардинала, похоже, потрясли эти слова. Поза его свидетельствовала о величайшем удивлении, почтительности, восторженной преданности.
– Это невозможно, – пробормотал он по-французски.
– Что невозможно? – жадно поинтересовалась г-жа де Ламотт, понявшая из всего разговора только эти два слова.
– Ничего, сударыня, ничего.
– Монсеньор, мне кажется, что вы принуждаете меня играть дурацкую роль, – произнесла она с досадой.
И г-жа де Ламотт отняла свою руку у кардинала. Но де Роган не только не взял ее снова под руку, но, похоже, даже не заметил этого; он полностью был поглощен немецкой дамой.
– Сударыня, – обратился он к незнакомке, все так же неприступной и недостижимой за стеной из атласа, – то, что сейчас произнес от вашего имени ваш спутник, это… немецкие стихи, которые я читал в одном доме, который, быть может, знаком и вам?
Голубое домино сжало руку м-ль Оливы. Она кивнула. Кардинал вздрогнул.
– И этот дом, – нерешительно произнес он, – называется Шенбрунн[64].
Олива кивнула.
– Стихи были написаны августейшей рукой золотым стилетом на столе вишневого дерева?
И снова утвердительный кивок.
Кардинал молчал. Он был потрясен. Он пошатнулся и протянул руку в поисках опоры.
Г-жа де Ламотт, стоя в двух шагах от него, с интересом наблюдала, чем кончится эта странная сцена.
Рука кардинала встретила руку голубого домино.
– А вот продолжение, – сказал принц де Роган. – «Но тот, кто всюду видит предмет любви, кто узнает его в цветке, в благоухании, за непроницаемым покровом, может молчать: голос его звучит в сердце, и для счастья ему достаточно, что другое сердце слышит его».
– О, да тут никак по-немецки говорят, – раздался молодой, звонкий голос из группы, приблизившейся к кардиналу.
– Давайте послушаем. Маршал, вы понимаете по-немецки?
– Нет, ваше высочество.
– А вы, Шарни?
– Понимаю, ваше высочество.
– Граф дАртуа! – воскликнула Олива, прижимаясь к голубому домино, поскольку на нее довольно бесцеремонно напирали четыре маски.
В этот миг в оркестре загремели фанфары, и пыль с паркета, и пудра с париков взметнулись радужными облаками к горящим люстрам, чей свет золотил этот туман, пахнущий амброй и розой.
В общей суматохе кто-то из масок задел голубое домино.
– Осторожней, господа, – властно произнесло оно.
– Сударь, – ответил ему замаскированный принц, – вы же видите, нас толкают. Просим прощения, сударыни.
– Идемте отсюда, ваше высокопреосвященство, – шепнула г-жа де Ламотт.
И вдруг чья-то невидимая рука сдернула капюшон с головы м-ль Оливы, развязанная маска упала, и в полумраке, создаваемом тенью первого яруса, нависающего над партером, на миг явилось ее лицо.
Голубое домино вскрикнуло – преувеличенно встревоженно, Олива – испуганно.
И как бы в ответ этому двойному вскрику раздались четыре удивленных возгласа.
Кардинал чуть было не лишился чувств. Если бы он сейчас упал, то, вне всяких сомнений, упал бы на колени.
Толпа масок, движущихся по кругу, отделила графа дАртуа от кардинала и г-жи де Ламотт.
Голубое домино, которое молниеносно надело на м-ль Оливу капюшон и вновь завязало ее маску, подошло к кардиналу и сжало ему руку.
– Сударь, – сказало оно, – произошло непоправимое несчастье. Теперь честь этой дамы в ваших руках.
– О сударь, сударь… – бормотал, склонившись в поклоне, принц Луи де Роган.
Дрожащей рукой он поднес платок ко лбу и утер обильный пот.
– Идемте, – бросило голубое домино Оливе.
И они исчезли.
«Теперь-то я знаю, – подумала г-жа де Ламотт, – что кардинал счел невозможным. Он принял эту женщину за королеву, и вот какое впечатление произвело на него их сходство. Ну что же, запомним и это».
– Графиня, не желаете ли покинуть бал? – слабым голосом обратился к ней г-н де Роган.
– Как вам будет угодно, монсеньор, – спокойно ответила г-жа де Ламотт.
– Мне кажется, тут не слишком интересно. А вам?
– Вы правы. Я тоже не вижу тут большого интереса.
И они с трудом принялись пробивать себе дорогу через беседующих масок. Кардинал, отличавшийся высоким ростом, жадно смотрел, не мелькнет ли где-нибудь исчезнувшее видение.
Но куда он ни бросал взгляд, перед его глазами в светящихся испарениях кружились синие, красные, желтые, зеленые и серые домино, и цвета их сливались, как цвета в призме. Издали бедному прелату все казалось голубым, но вблизи оказывалось совсем другого цвета.
Так они добрались до ожидавшей их кареты.
Карета катилась уже минут пять, но кардинал ни разу не обратился к спутнице.
Г-жа де Ламотт, отнюдь не пребывавшая в подобном самозабвении, вырвала прелата из мечтательности.
– Куда едет карета? – поинтересовалась она.
– Не бойтесь, графиня, – отвечал кардинал, – вы уехали из своего дома, и карета привезет вас к себе домой.
– Домой? В предместье?
– Да, графиня. В маленький домик, достойный принять такое очарование.
Произнеся это, принц двумя руками взял руку Жанны и запечатлел на ней галантный поцелуй.
Карета остановилась перед домиком, которому предстояло попытаться вместить такое очарование.
Жанна легко выпорхнула из кареты, кардинал собирался последовать ее примеру.
– Не стоит, ваше высокопреосвященство, – полушепотом сказала ему Жанна, этот демон в женском обличье.
– Как, графиня! Не стоит провести с вами несколько часов?
– Пора спать, ваше высокопреосвященство, – заметила Жанна.
– Весьма надеюсь, графиня, что у вас в доме окажется несколько спален.
– Для меня, да, но для вас…
– Для меня – нет?
– Пока еще нет, – ответила она таким милым и обнадеживающим тоном, что, право, отказ стоил обещания.
– Ну что ж, прощайте, – промолвил кардинал, до такой степени уязвленный игрой, которую с ним вели, что даже забыл о том, что произошло на балу.
– До свидания, ваше высокопреосвященство.
«Нет, право, такая она мне даже больше нравится», – решил кардинал, уже катя в карете.
Жанна одна вступила в свой новый дом.
Шестеро лакеев, которых разбудил молоток скорохода, постучавшего в дверь, выстроились в вестибюле.
Жанна обвела их взглядом, в котором сквозило холодное превосходство, какое богатство дает не всякому богачу.
– А где горничные? – осведомилась она.
Один из лакеев выступил вперед и почтительно доложил:
– Обе горничные ждут вас в спальне.
– Позовите их.
Лакей повиновался. Через несколько минут горничные были в вестибюле.
– Где вы обыкновенно спите? – поинтересовалась у них Жанна.
– Пока у нас еще нет определенного места, – ответила та, что постарше. – Мы будем спать, где скажете вы.
– Где ключи от дома?
– Вот они.
– Отлично. Эту ночь вам придется спать вне дома.
Горничные изумленно уставились на свою госпожу.
– У вас есть жилье в городе?
– Разумеется, сударыня. Правда, сейчас уже поздновато, но если сударыня хочет побыть одна…
– Эти господа будут вас сопровождать, – добавила госпожа, отпуская тем самым и шестерых слуг, обрадовавшихся ничуть не меньше, чем горничные.
– А… когда нам возвратиться? – робко спросил один из них.
– Завтра в полдень.
Шестеро лакеев и обе горничные переглянулись, после чего, подчиняясь приказу, направились к дверям под повелительным взглядом Жанны.
Жанна проводила их, а когда они вышли, прежде чем закрыть дверь, спросила:
– Кто-нибудь еще есть в доме?
– Господи, сударыня, да никого больше нет. Но это же невозможно – оставаться вам совершенно одной. Пусть хоть одна из горничных дежурит в людской или в службах, неважно где, но пусть она будет в доме.
– Мне никто не нужен.
– А вдруг вспыхнет пожар или вам станет худо?
– Спокойной ночи, ступайте.
Жанна вытащила кошелек и сказала:
– А это вам в знак того, что вы поступили ко мне на службу.
Единственным ответом, последним словом слуг был радостный ропот, свидетельствующий о благодарности всей честной компании. Кланяясь чуть не до земли, они удалились.
Стоя у дверей, Жанна слушала: слуги наперебой восклицали, что им повезло заполучить такую небывалую хозяйку.
Когда их голоса и звуки шагов замерли вдалеке, Жанна задвинула засовы и торжествующе воскликнула:
– Одна! Одна у себя в доме!
Она взяла канделябр о трех свечах, зажгла их от свечки, горевшей в вестибюле, заперла на засов массивную дверь передней.
И тут началась немая и весьма своеобразная сцена, вызвавшая бы живой интерес у тех ночных соглядатаев, которых воображение поэтов выпускает парить над городами и дворцами.
Жанна осматривала свои владения. Обходя комнату за комнатой, она восхищалась домом, обретавшим в ее глазах безмерную ценность, по мере того как любопытство зрителя сменялось чувством собственника.
На первом этаже, где все окна были завешены, а стены отделаны деревянными панелями, находились ванная комната, службы, столовые, три гостиные и два кабинета для приема посетителей.
Обстановка этих просторных комнат была не такой богатой, как у Гимар[65], или кокетливой, как у друзей г-на де Субиза[66], но в ней ощущалось вельможное великолепие, да и была она не новая. Дом понравился бы Жанне гораздо меньше, если бы оказалось, что он только что меблирован специально для нее.
Эти старинные сокровища, презираемые гоняющимися за модой дамами, чудесная резная мебель черного дерева, люстры с хрустальными подвесками, позолоченными ветвями и розовыми свечами на них, из недр которых вырастали пламенные, сверкающие лилии, готические часы, шедевры резчиков и эмальеров, ширмы с вышитыми на них фигурами китайцев, огромные японские вазы, медальоны над дверями с гризайлями[67] и цветной росписью Буше или Ватто[68] – все вызывало у новой владелицы неописуемый восторг.
На каминной полке два позолоченных тритона поднимали снопы коралловых ветвей, с которых, словно плоды, свисали всевозможные чудеса ювелирного искусства той эпохи. Немножко дальше на столике золоченого дерева с беломраморной столешницей громадный слон из глазурованного серо-зеленого фарфора с сапфировыми подвесками в ушах нес на спине башню, нагруженную флакончиками с духами и прочими благовониями.
Журналы мод, украшенные позолотой и цветными картинками, блистали на этажерках розового дерева, расписанных по углам золотыми арабесками.
В небольшой гостиной, выдержанной в серо-золотых тонах, вся мебель была обита гобеленами, шедеврами трудолюбия, которые при покупке на самой мануфактуре обошлись в сто тысяч ливров, а каждая панель в ней представляла собой продолговатый холст, принадлежащий кисти Верне или Грёза[69]. В рабочем кабинете висели лучшие портреты Шардена[70] и стояла изящнейшая керамика Клодиона[71].
Да, должно признать, все здесь свидетельствовало не о спешке богатого выскочки, торопящегося удовлетворить свою фантазию либо фантазию любовницы, но о терпеливом труде людей, обладающих богатством уже в течение нескольких столетий, которые к сокровищам, доставшимся от родителей, прибавляют сокровища, предназначенные остаться детям.
Первым делом Жанна осмотрела весь дом, пересчитала комнаты, после этого пришел черед заняться деталями.
Поскольку домино стесняло ее, а корсет на китовом усе сдавливал тело, она зашла в спальню, быстро разделась и накинула шелковый пеньюар, подбитый ватой, очаровательное одеяние, которому наши матери, не слишком щепетильные, когда им случалось именовать разные полезные вещи, дали такое название, которое мы не решаемся воспроизвести на письме.
Трепещущая, полунагая под атласом, ласкавшим ей грудь и стан, она, бесстрашно ступая по лестнице изящными мускулистыми ножками, обрисовывавшимися в складках короткого наряда, поднялась на верхний этаж, держа в руке канделябр с горящими свечами.
Освоившаяся с одиночеством, уверенная, что ей не приходится опасаться даже взгляда лакея, она перепархивала из комнаты в комнату, ничуть не беспокоясь, что сквозняки, гулявшие из двери в дверь и распахивавшие пеньюар из тонкого шелка, не менее десяти раз за десять минут обнажили ее прелестное колено. А когда, открывая шкаф, она подняла руку и пеньюар соскользнул, явив белоснежную округлость плеча вплоть до подмышки, которую залил красноватый отсвет огня, знакомый нам по полотнам Рубенса, все незримые духи, прячущиеся под обоями, укрывающиеся за живописными панно, несомненно, возликовали, оттого что получили во владение такую очаровательную хозяйку, которая в свой черед была уверена, что владеет ими.
Но вот, все обежав, она возвратилась в спальню, обтянутую голубым атласом с вышитыми на нем громадными и какими-то химерическими цветами.
Жанна все осмотрела, все сосчитала, все обласкала взглядом и рукой, и теперь ей остался единственный предмет восхищения – она сама.
Она поставила шандал на столик севрского фарфора с золотым бордюром, и вдруг взор ее остановился на мраморном Эндимионе[72], изысканной и чувственной скульптуре Бушардона[73], Эндимионе, который, опьянев от любви, откинулся на красно-коричневый порфировый цоколь.
Жанна закрыла дверь спальни, задернула портьеры и плотные шторы на окнах, вновь повернулась к статуе и жадно воззрилась на этого возлюбленного Фебы, которая, подарив ему последний поцелуй, возвратилась на небеса.
Угли, наполнявшие теплом комнату, где жило все, кроме наслаждения, горели красноватым светом.
Жанна чувствовала, как ступни ее утопают в ласковом, пушистом, высоком ворсе ковра; ноги у нее обмякли и подгибались, томление, но не томление усталости или сонливости, теснило грудь и тяжелило веки, словно прикосновение возлюбленного, а жар, но не тот, что шел от камина, плыл от ног в тело, гоня по жилам электричество, которое в животных называется наслаждением, а в людях любовью.
И в момент, когда в ней возникло это странное ощущение, Жанна увидела себя в трюмо, стоящем за Эндимионом. Пеньюар соскользнул с ее плеч на ковер. Тончайшая батистовая сорочка, увлекаемая более тяжелым атласом, спустилась до середины белых, округлых рук.
Взгляд отраженных в зеркале черных глаз, сладостно-нежных, горящих желанием, поразил Жанну в самое сердце; она увидела, как она прекрасна, почувствовала себя молодой и пылкой и подумала, что среди всего, что ее окружает, никто, даже сама Феба, не достоин любви больше, чем этот пастух. И она подошла к мраморному изваянию, чтобы посмотреть, не оживет ли Эндимион, не пренебрежет ли богиней ради нее, смертной.
Хмелея от неведомого доселе восторга, она склонила голову на плечо, прижала губы к своей трепещущей плоти и, не отрывая взгляда от глаз, которые манили ее из зеркала, неожиданно почувствовала, как истома смыкает ей веки, испустила глубокий вздох, склонила голову на грудь и вдруг, онемевшая, охваченная сонливостью, упала на постель, и занавеси полога сомкнулись над ней.
Фитиль свечи, плававший в растопленном воске, в последний раз взметнулся язычком пламени, зачадил и погас.
Босир воспринял совет голубого домино буквально: он направился в то место, которое именовал своей академией.
Достойнейший друг м-ль Оливы, соблазненный чудовищной суммой в два миллиона, испугался, что сотоварищи вообще исключили его, поскольку не сообщили о столь прибыльном замысле.
Он знал, что члены академии не слишком-то терзаются угрызениями совести, и это была одна из причин, вынуждавшая его торопиться; отсутствующие всегда не правы, когда отсутствуют по случайности, и уж совершенно не правы, когда их отсутствием пользуются.
Среди сочленов академии Босир создал себе репутацию страшного человека. В этом не было ничего удивительного и уж вовсе ничего трудного. Босир служил в армии, носил мундир, умел, подбоченившись, положить руку на рукоять шпаги. Он имел привычку при любом слове поперек надвигать шляпу на глаза; все это вгоняло в испуг не слишком храбрых людей, особенно если эти люди боялись, что будут втянуты в дуэльную историю и привлекут к себе любопытство правосудия.
Босир собирался отомстить за проявленное к нему пренебрежение, слегка нагнав страху на собратьев по игорному дому на улице По-де-Фер.
От заставы Сен-Мартен до церкви Св. Сульпиция путь неблизкий, но Босир был богат; он прыгнул в фиакр и пообещал вознице пятьдесят су, то есть посулил целый ливр лишку; ночная такса в ту эпоху была таковой, как нынче дневная.
Лошади бежали во всю прыть и быстро довезли его до места. За неимением шляпы, поскольку он был в домино, Босир притворился разъяренным, а за неимением шпаги скорчил такую злобную гримасу, что любой запоздалый прохожий, увидев ее, перепугался бы насмерть.
Его появление произвело в академии некоторое впечатление.
Там в первом, довольно красивом зале, выдержанном в серых тонах, с люстрой и множеством карточных столов, находилось десятка два игроков, которые попивали пиво и сироп, сдержанно улыбаясь чудовищно нарумяненным женщинам, заглядывавшим в их карты. За главным столом играли в фараон, ставки были ничтожные, оживление соответствовало ставкам.
Когда Босир вошел, комкая капюшон и выпячивая под домино грудь, несколько женщин полунасмешливо, полудразняще захихикали. Г-н Босир был фат, и дамы не обижали его.
Тем не менее он шел вперед, словно ничего не слыша, ничего не видя, и только у самого стола посреди всеобщего молчания дождался реплики, которая позволила ему дать выход дурному настроению.
Один из игроков, старике обличьем сомнительного финансиста, но с достаточно, надо сказать, добродушной физиономией, первым отозвался на появление Босира, что и подстегнуло его.
– Черт побери, шевалье, – бросил этот достойный человек, – вы приехали с бала, а на вас лица нет.
– Да, да! – подтвердили дамы.
– Дорогой шевалье, уж не домино ли вам ударило в голову? – поинтересовался другой игрок.
– Нет, не домино, – сурово ответствовал Босир.
– Разве вы не видите, – заметил банкомет, который только что придвинул к себе двенадцать луидоров, – что шевалье де Босир изменил нам? Он был на балу в Опере, нашел поблизости местечко, где можно перекинуться в карты, и продулся.
Кто засмеялся, кто посочувствовал – в зависимости от характера, дамы же выразили сожаление.
– Вы не смеете говорить, что я изменил друзьям, – парировал Босир. Я не из тех, кто изменяет! Это скорее относится к некоторым моим знакомым.
И он решил подтвердить весомость своих слов грозным жестом, то есть надвинуть шляпу на глаза. К сожалению, под рукой у него оказался не фетр шляпы, а мягкий шелк, который он нелепо распластал на голове, что вместо угрожающего произвело скорее комический эффект.
– Что вы этим хотите сказать, дорогой шевалье? – раздались голоса нескольких компаньонов.
– Я знаю, что хочу сказать, – ответил Босир.
– Но нам этого недостаточно, – заметил старик с добродушным лицом.
– А вот вас, господин финансист, это ни в коей мере не касается, – неловко парировал Босир.
Весьма выразительный взгляд банкомета дал понять Босиру, что его слова неуместны. И впрямь, в подобном обществе не следует проводить явное разделение между теми, кто платит деньги, и теми, кто их прикарманивает.
Босир понял значение этого взгляда, но его уже понесло: фальшивого смельчака остановить куда труднее, чем истинного.
– Я думал, что у меня здесь друзья, – заявил он.
– Да… разумеется… – раздалось несколько голосов.
– Теперь я вижу, что ошибался.
– Но почему?
– А потому, что многие дела здесь ведутся без меня.
Новый выразительный взгляд банкомета, новые протесты всех присутствующих компаньонов.
– Мне достаточно, что я знаю это, – произнес Босир, – и неверные друзья понесут кару.
Он поискал рукоять шпаги, но наткнулся лишь на карман, набитый луидорами, и те выдали себя соблазнительным звоном.
– О! – воскликнула одна из дам. – Господин де Босир сегодня при деньгах!
– Ну что ж, – деланным тоном заметил банкомет, – мне кажется, если он и проигрался, то не дотла, и если изменил своим законным друзьям, то не окончательно. Не желаете ли попонтировать, дорогой шевалье?
– Благодарю, – сухо ответил Босир. – Поскольку каждый хранит то, что у него есть, я поступаю так же.
– Кой черт! Что ты хочешь этим сказать? – шепнул ему на ухо один из игроков.
– Сейчас мы объяснимся.
– Сыграйте же, – продолжал настаивать банкомет.
– Поставьте всего один луидор, – предложила дама, поглаживая Босира по плечу в надежде подобраться поближе к карману.
– Я играю только на миллионы, – дерзостно объявил Босир, – и, по правде сказать, не понимаю, почему здесь в игре идут какие-то жалите луидоры? На миллионы! Да, господа с улицы По-де-Фер, раз уж дело идет о миллионах, хотя этого никто не подозревает, к черту ставки в один луидор! Миллионеры играют на миллионы!
Босир в это время был охвачен таким возбуждением, какое вынуждает человека переступать границы здравого смысла. Его одушевлял хмель, куда более опасный, чем от вина. Вдруг сзади кто-то пнул его по ногам, и достаточно чувствительно, чтобы Босир прервался.
Обернувшись, он узрел широкую смуглую физиономию, чопорную и замкнутую, и два черных глаза, сверкающих, как раскаленные угли.
На гневный жест Босира эта странная личность ответила церемонным поклоном и взглядом, острым, как рапира.
– Португалец! – пробормотал Босир, ошеломленный поклоном, которым его приветствовал человек, только что отвесивший такого тумака.
– Португалец! – загомонили дамы, тут же покинувшие Босира и запорхавшие вокруг нового пришельца.
Надо сказать, этот Португалец был любимчиком дам, которым он под предлогом, что не говорит по-французски, неизменно таскал всевозможные лакомства, заворачивая их иногда в кассовые билеты достоинством в пятьдесят или шестьдесят ливров.
Босир знал, что Португалец является одним из компаньонов. Он неизменно проигрывал завсегдатаям игорного дома. Его недельной ставкой были сто луидоров, и завсегдатаи с завидной регулярностью выигрывали у него эту сотню.
В компании он служил наживкой. Покуда он позволял выщипывать у себя сто золоченых перышек, остальные компаньоны ощипывали одураченных игроков.
Итак, у компаньонов Португалец шел как человек крайне полезный, а у завсегдатаев – как весьма приятный. Босир относился к нему с молчаливым уважением, какое питаешь к неизвестному, хотя туда подмешивалась известная доля недоверия.
И вот, получив от Португальца удар ногой по икрам, Босир решил пока смириться, замолчал и сел.
Португалец тоже сел за игорный стол, выложил двадцать луидоров и после двадцати ставок – а во времени его сопротивление заняло всего четверть часа – был избавлен от этих двадцати луидоров шестью алчущими понтерами, которые даже перестали обращать внимание на то, что банкомет и его подручные, постукивая ногтями по столу, подают друг другу сигналы.
Часы пробили три ночи, Босир допил стакан пива.
Вошли два лакея, банкомет сбросил лежащие возле него деньги в потайной ящик стола, поскольку устав сообщества нес отпечаток столь высокого доверия сочленов друг к другу, что категорически запрещал одному из них распоряжаться всеми фондами компании.
Поэтому в конце заседания полагалось сбрасывать деньги через маленькую прорезь в потайной ящик стола, а в постскриптуме к этому пункту устава добавлялось, что банкомету запрещается носить длинные манжеты, а также что он не должен иметь при себе деньги.
Это означало, что ему не дозволяется прибрать в рукава десятка два луидоров из выигрыша и что сообщество оставляет за собой право обыскать его, дабы изъять золото, ежели он сумеет переправить таковое себе в карманы.
Лакеи принесли членам кружка плащи, накидки и шпаги; некоторые из удачливых игроков предложили руку дамам, неудачливые усаживались в портшезы, бывшие еще в моде в этих тихих кварталах, и в игорном зале настала ночь.
Босир тоже сделал вид, что запахивается в домино, словно собираясь совершить путешествие в вечность, однако не стал спускаться со второго этажа, и дверь закрылась; когда же фиакры, портшезы и пешеходы растаяли в темноте, он возвратился в зал, где собрались все двенадцать компаньонов.
– Теперь мы можем объясниться, – заявил Босир.
– Зажгите свою лампу и не кричите так, – холодно объявил ему, причем на неплохом французском языке, Португалец, зажигая одну из свечей, стоящих на столе.
Босир что-то пробормотал, но никто не обратил на это внимания; Португалец уселся на место банкомета, остальные компаньоны проверили, плотно ли закрыты ставни, занавески, двери, и тоже спокойно уселись, положив локти на стол; на всех лицах читалось жадное любопытство.
– Я должен кое-что сообщить, – начал Португалец. – К счастью, я вовремя прибыл, а то у господина де Босира слишком чесался язык.
Босир с трудом сдержал вопль негодования.
– Тихо, успокойтесь, – продолжал Португалец. – Не нужно лишних слов. Вы и так уже наговорили предостаточно, и это было более чем неосторожно. Ну хорошо, вы узнали о моем плане. Вы человек умный, смогли догадаться, но мне кажется, что тщеславие никогда не должно перевешивать интересы дела.
– Я не понимаю вас, – бросил Босир.
– Мы тоже не понимаем, – загудело почтенное собрание.
– Все очень просто. Господин де Босир хотел доказать, что первый набрел на это дело.
– Какое дело? – опять зашумели собравшиеся.
– Дело, стоящее два миллиона! – с пафосом воскликнул Босир.
– Два миллиона! – ахнули присутствующие.
– Ну, во-первых, вы преувеличиваете, – поспешил вступить Португалец. – Столько оно не принесет. И я это вам сейчас докажу.
– Но никто из нас не имеет представления, о чем вы толкуете, – вмешался банкомет.
– Тем не менее мы вас внимательно слушаем, – добавил один из игроков.
– Говорите первым, – предложил Босир.
– С удовольствием.
Португалец налил в большой стакан миндального сиропа и неторопливо выпил его, еще раз подтвердив свою репутацию хладнокровного человека.
– Знайте же, – сказал он, – что ожерелье, а это я говорю господину де Босиру, стоит не больше полутора миллионов ливров.
– Ах, так дело касается ожерелья, – бросил Босир.
– Да, сударь. Но ведь и вы имели в виду его?
– Вполне возможно.
– Теперь он станет осторожничать, после того как был так неосмотрителен, – заметил Португалец, пожав плечами.
– Я с огорчением вижу, что вы принимаете тон, который мне весьма не нравится, – произнес Босир с видом петуха, распушившего перья.
– Полно! Полно! – остановил его Португалец, невозмутимый, как мраморное изваяние. – Позже вы скажете, что вам угодно, но сперва позвольте сказать мне. Время не терпит. Вам должно быть известно, что посланник приедет самое позднее через неделю.
«Все вконец запуталось, – думали трепещущие от любопытства компаньоны. – Ожерелье, полтора миллиона ливров, посланник… Что все это значит?»
– В двух словах, дело обстоит так, – промолвил Португалец. – Господа Бемер и Босанж предложили королеве бриллиантовое ожерелье стоимостью в полтора миллиона ливров. Королева отказалась. Ювелиры не знают теперь, что делать с ожерельем, и прячут его. Они в большом затруднении, поскольку купить его способен лишь тот, кто обладает королевским состоянием. Ну что ж, я нашел августейшую особу, которая купит это ожерелье, заставит его вынырнуть из сундука господ Бемера и Босанжа.
– Кто же это? – чуть ли не в один голос воскликнули присутствующие.
– Моя всемилостивейшая государыня, королева Португалии.
И Португалец приосанился.
– Мы понимаем еще меньше, чем раньше, – раздались голоса.
«А я так ничего не понимаю», – подумал Босир. И поскольку личная неприязнь должна отступать перед общими интересами, он обратился к Португальцу:
– Дорогой господин Мануэл, объясните четко и определенно. Вы – отец идеи, и я открыто признаю это. Я отказываюсь от всех прав на отцовство, только, ради Бога, говорите яснее.
– В добрый час, – отвечал Мануэл, вторично наливая стакан сиропа. – Сейчас я вам все объясню.
– Мы уже знаем, что существует ожерелье, стоящее полтора миллиона ливров, – сказал банкомет. – Вот он, важнейший пункт.
– И ожерелье это находится в сундуке у господ Бемера и Босанжа. Это второй пункт, – добавил Босир.
– Но дон Мануэл сказал, что ее величество королева Португалии покупает ожерелье. Это нас сбивает с толку.
– И тем не менее все крайне просто, – ответил Португалец. – Надо только внимательнее слушать меня. Посольство сейчас пусто. Межвременье. Новый посол господин да Суза прибудет не раньше чем через неделю.
– Ну, хорошо, – сказал Босир.
– А кто мешает этому послу, торопящемуся увидеть Париж, приехать и обосноваться в посольстве раньше?
Присутствующие, разинув рты, переглянулись.
– Понимаете, – поспешно вступил Босир, – дон Мануэл хочет сказать, что может приехать настоящий посол, а может и фальшивый.
– Именно, – подтвердил Португалец. – И если приехавший посол возымеет желание приобрести ожерелье для ее величества королевы Португалии, кто может ему запретить?
– Черт возьми, – воскликнул кто-то из компаньонов.
– И тогда он договорится с господами Бемером и Босанжем. Вот и все.
– Действительно.
– Только, договорившись, придется платить, – заметил банкомет.
– Да, разумеется, – согласился Португалец.
– Господа Бемер и Босанж не отдадут ожерелье послу, будь то даже настоящий Суза, без надежных гарантий.
– Ну, о гарантиях я подумал, – заверил будущий посол.
– И каковы же они?
– В посольстве пусто, не так ли?
– Да.
– Там остался лишь канцелярист, славный француз, говорящий на португальском языке так же скверно, как светские люди. Он счастлив, когда португальцы говорят с ним по-французски, потому что тогда он не так мучается, а французы – по-португальски, потому что тут он может блеснуть.
– Ну и что? – поинтересовался Босир.
– Мы, господа, представимся этому славному человеку в обличье нового посольства.
– Обличье – это хорошо, – гнул свое Босир, – но бумаги все-таки лучше.
– Будут и бумаги, – лаконично ответил дон Мануэл.
– Дону Мануэлу цены нет, и с этим вряд ли кто станет спорить, – объявил Босир.
– Обличье и бумаги убедят регистратора, что посольство подлинное, и мы обоснуемся в здании.
– Однако! – прервал его Босир.
– Да, все так и будет, – заверил Португалец.
– Ничего нет проще, – согласились остальные компаньоны.
– Ну, а канцелярист? – настаивал Босир.
– Мы же договорились: он убедится.
– А ежели он окажется не столь доверчив, его прогонят за десять минут до того, как у него возникнут сомнения. Я полагаю, посол имеет право сменить канцеляриста?
– Разумеется.
– Итак, мы становимся хозяевами посольства и первым делом наносим визит господам Бемеру и Босанжу.
– Ну нет, – вмешался Босир, – мне кажется, вы забываете об одном важном обстоятельстве, которое я точно знаю, поскольку мне доводилось бывать при дворах. Посол не может предпринимать никаких шагов, а тем паче операцию, о которой вы говорите, до получения торжественной аудиенции, и вот тут, поверьте мне, кроется величайшая опасность. Знаменитый Риза-бей, который был представлен Людовику Четырнадцатому как посол персидского шаха и имел наглость подарить его христианнейшему величеству бирюзы на тридцать франков, так вот этот Риза-бей был силен в персидском языке, а в целой Франции не нашлось ни одного ученого, способного неопровержимо доказать, что он приехал не из Исфахана. Нас же разоблачат в один миг. Стоит нам открыть рот, и сразу станет ясно, что по-португальски мы говорим на чистейшем французском, так что вместо приема верительных грамот нас бросят в Бастилию. Надо быть весьма осторожными.
– Дорогой друг, ваше воображение заводит вас слишком далеко, – ответил Португалец. – Мы вовсе не собираемся кидаться навстречу всем этим опасностям, а все будем сидеть в нашем особняке.
– Тогда господин Бемер не поверит ни в то, что мы португальцы, ни в португальского посла.
– Господин Бемер поймет, что мы приехали с простейшим поручением купить ожерелье, а смена посла произошла, когда мы были уже в пути. Нам был вручен приказ заменить его. Если понадобится, этот приказ будет предъявлен господину Босанжу, поскольку его все равно придется предъявить посольскому канцеляристу. Главное, постараться не показывать его королевским министрам, поскольку министры крайне любопытны и недоверчивы и будут приставать к нам с разными мелкими придирками.
– Да, да, – зашумели собравшиеся, – главное, не вступать ни в какие сношения с министерством.
– А если господа Бемер и Босанж потребуют…
– Что? – поинтересовался дон Мануэл.
– Задаток, – сказал Босир.
– Эго осложнит дело, – с замешательством признал Португалец.
– И наконец, – продолжал Босир, – послы обыкновенно приезжают если уж не с наличными деньгами, то с аккредитивами.
– Совершенно верно, – подтвердили присутствующие.
– И на этом дело лопается, – завершил Босир.
– Вы все ищете способы, как прикончить дело, – с ледяной язвительностью произнес дон Мануэл. – Поискали бы лучше способ, как добиться успеха.
– Я это делаю потому, что пытаюсь придумать, как преодолеть трудности, – ответил Босир. – Погодите, погодите, кажется, нашел.
Головы компаньонов сблизились, образовав тесный круг.
– В любой канцелярии имеется денежный ящик.
– Да, денежный ящик и документы на кредит.
– О кредите говорить не будем, – предостерег Босир. – Чтобы обеспечить кредит, нужны безумные затраты. Для этого нам понадобятся лошади, кареты, слуги, обстановка, ненужная роскошь, ибо именно они являются основой кредита. Так что поговорим лучше о денежном ящике. Что вы думаете о ящике, находящемся в вашем посольстве?
– Я всегда считал мою государыню, ее истинно верующее величество, превосходной королевой. Надо полагать, у нее много чего есть.
– Это мы увидим. Но допустим, ящик пуст.
– Вполне возможно, – улыбаясь, согласились компаньоны.
– Но и в этом случае никаких затруднений, потому что мы, посольство, осведомляемся у господ Бемера и Босанжа, кто их банкир в Лиссабоне, после чего подписываем и заверяем печатью вексель на требуемую сумму на имя этого банкира.
– Прекрасно, – величественно одобрил дон Мануэл. – Захваченный самой идеей, я не подумал о деталях.
– А они восхитительны, – промолвил банкомет и облизнулся.
– А теперь распределим роли, – предложил Босир. – Дона Мануэла я вижу послом.
Компаньоны единогласно согласились с предложением.
– А я вижу господина де Босира своим секретарем-переводчиком, – продолжил дон Мануэл.
– То есть как? – несколько обеспокоенно поинтересовался Босир.
– Мне, поскольку я буду господином да Суза, ни в коем случае нельзя говорить по-французски. Известно, что этот сеньор говорит весьма редко, а ежели уж говорит, то только на своем родном языке, по-португальски. Вы же, напротив, много путешествовали, хорошо знаете парижские обычаи, прилично говорите по-португальски…
– Скверно, – внес уточнение Босир.
– Достаточно, чтобы сойти не за парижанина.
– Да, вы правы. Но…
– И потом, – добавил дон Мануэл, вперив взгляд в Босира, – кто будет более полезен для дела, получит большую долю.
– Правильно, – согласились компаньоны.
– Договорились, я – секретарь-переводчик.
– Поговорим об этом, не мешкая, – вступил в разговор банкомет. – Как будем делить?
– Очень просто, – ответил дон Мануэл. – Нас двенадцать.
Компаньоны, пересчитав друг друга, подтвердили, что да, двенадцать.
– Значит, делим на двенадцать человек, – продолжил дон Мануэл, – с единственной оговоркой: некоторые из нас получат полторы доли. Например, я как отец идеи и посол, затем господин де Босир, потому что он проведал об этом деле и, придя сюда, заговорил о миллионах.
Босир сделал знак, что он согласен.
– И наконец, полуторную долю получит тот, кто продаст бриллианты, – завершил Португалец.
– Э, нет, – зашумели компаньоны. – Не выйдет. Ему только половинную долю.
– Но почему же? – изумился дон Мануэл. – Мне кажется, он больше всех рискует.
– Да, – согласился банкомет, – но он будет иметь комиссионные надбавки, скидки, так что получится неплохой кусочек.
Все засмеялись: эти достойные люди хорошо знали друг друга.
– Значит, договорились, – сказал Босир. – О деталях потолкуем завтра, уже поздно.
Он думал о м-ль Оливе, которая осталась на балу наедине с голубым домино, а несмотря на ту легкость, с какой этот человек сыпал луидорами, Босир все-таки не проникся к нему слепым доверием.
– Нет, нет, сейчас! Давайте закончим, – зашумели компаньоны. – Какие детали?
– Дорожная карета с гербами Сузы, – сказал Босир.
– Нарисовать гербы займет много времени, а еще дольше придется их сушить, – заметил дон Мануэл.
– Есть другой выход, – сообщил Босир. – В пути карета господина посла сломалась, и ему волей-неволей пришлось пересесть в карету своего секретаря.
– А у вас есть карета? – поинтересовался Португалец.
– Возьму первую попавшуюся.
– А ваш герб?
– Сойдет любой.
– Это все упрощает. Побольше пыли и грязи, особенно сзади, где нарисованы гербы, и канцелярист увидит только пятна грязи и пыль.
– А как с персоналом посольства? – осведомился банкомет.
– Мы с Босиром прибудем вечером, для начала так будет лучше, а вы все приедете на следующий день, когда мы уже все подготовим.
– Прекрасно.
– У каждого посла, кроме секретаря, бывает еще камердинер, – заметил дон Мануэл. – Весьма деликатная обязанность.
– Господин командор, – обратился банкомет к одному из своих подручных, – вы берете на себя роль камердинера.
Командор поклонился.
– А деньги на расходы? – спросил дон Мануэл. – Я пуст.
– У меня есть деньги, но эти деньги принадлежат моей любовнице, – сообщил Босир.
– Сколько в кассе? – осведомились компаньоны.
– Господа, ваши ключи, – распорядился банкомет. Каждый из компаньонов вынул ключик, подходящий к одному из двенадцати замков, на которые был заперт потайной ящик стола, так что в этом почтенном собрании никто не мог заглянуть в кассу без согласия остальных одиннадцати сочленов.
Под бдительным надзором банкомет пересчитал наличность.
– Сто девяносто восемь луидоров, не считая резервного фонда, – объявил он.
– Дайте их господину де Босиру и мне. Вы не против? – сказал Мануэл.
– Дайте нам две трети, а треть оставшемуся составу посольства, – великодушно изрек Босир, снискав всеобщее одобрение.
Таким образом дон Мануэл и Босир получили сто тридцать два луидора, а шестьдесят шесть достались всем остальным. На этом распрощались, назначив встречу на завтра. Босир скатал домино, сунул его под мышку и помчался на улицу Дофины в надежде вновь обрести там м-ль Оливу со всеми ее давними достоинствами и новыми луидорами в придачу.
На следующий день вечером дорожная карета, покрытая пылью и заляпанная грязью в достаточной мере, чтобы гербы были не видны, въехала в город через заставу д'Анфер.
Четверка лошадей неслась во весь опор, и кучер вовсю нахлестывал их. Карета остановилась около весьма красивого особняка на улице Жюсьен.
В воротах ее уже ждали два человека: один в довольно вычурном наряде, который можно было бы назвать парадным, второй в обычной ливрее, какую во все времена носила прислуга в разных парижских канцеляриях.
Одним словом, второй был привратник в торжественном одеянии.
Карета вкатилась во двор, и ворота тотчас же захлопнулись перед носом у многочисленных зевак.
Человек в парадном наряде почтительно приблизился к дверце кареты и слегка дрожащим голосом начал произносить на португальском языке приветственную речь.
– Кто вы? – раздался из кареты грубый голос. Вопрос был задан тоже на португальском, но на превосходном португальском.
– Недостойный регистратор посольства, ваше превосходительство.
– Отлично. Однако, дорогой регистратор, как вы скверно говорите на нашем языке! Скажите, где мне выходить?
– Здесь, ваше превосходительство, здесь.
– Какая жалкая встреча! – пробурчал вельможный дон Мануэл, который задом вылезал из кареты, поддерживаемый камердинером и секретарем.
– Соблаговолите простить меня, ваше превосходительство, – на скверном португальском стал извиняться регистратор. – Гонец от вашего превосходительства с извещением о вашем приезде прибыл в посольство только в два часа. Меня не было, я, ваше превосходительство, отсутствовал по делам посольства, но по возвращении сразу же нашел письмо вашего превосходительства. Времени у меня осталось только на то, чтобы открыть комнаты и зажечь в них свечи.
– Хорошо, хорошо.
– Ах, как я бесконечно рад видеть нашего нового столь прославленного посла!
– Тс-с! Не будем спешить с оповещением до прибытия нового указа из Лиссабона. А теперь благоволите распорядиться проводить меня в спальню, я с ног валюсь от усталости. А вы переговорите с моим секретарем, он передаст вам все мои распоряжения.
Регистратор почтительно склонился перед Босиром, который ответил ему сердечным поклоном и любезно-ироническим тоном предложил:
– Милостивый государь, говорите по-французски, вам так будет проще, да и мне тоже.
– О да, – пробормотал регистратор, – мне будет куда проще, потому что, должен признаться, господин секретарь, мое произношение…
– Да, да, я заметил, – самоуверенно заявил Босир.
– Господин секретарь, коль уж вы так любезны, я позволю себе воспользоваться случаем, – весьма многословно заговорил регистратор, – дабы спросить, не показалось ли вам, что господину да Суза режет слух мой португальский и он будет недоволен мной.
– Отнюдь, отнюдь, если вы чисто говорите по-французски.
– По-французски? – радостно воскликнул регистратор. – Да я чистокровный парижанин с улицы Сент-Оноре!
– Ну что ж, это радует, – ответил Босир. – Кстати, как вас зовут? Если я не ошибаюсь, Дюкорно?
– Да, да, господин секретарь, Дюкорно. Фамилия моя, если позволите, имеет испанское происхождение. И мне крайне лестно, что она известна господину секретарю.
– Вы там у нас на хорошем счету, на весьма хорошем счету, и благодаря вашей репутации мы не стали брать из Лиссабона нового регистратора.
– О, господин секретарь, какая высокая оценка! Я безмерно счастлив, что послом стал господин да Суза.
– Кстати, кажется, посол звонит.
– Бежим!
И они действительно побежали. Г-н посол с деятельной помощью своего камердинера уже успел переодеться. Он облачился в роскошный халат. Над ним хлопотал спешно вызванный брадобрей. Несколько шкатулок и дорожных несессеров, довольно богатых с виду, лежали на столах и столиках.
В камине пылал огонь.
– Входите, входите, господин регистратор, – пригласил посол, который уселся в глубокое мягкое кресло рядом с камином.
– Господин посол не рассердится, если я отвечу ему по-французски? – шепотом спросил регистратор у Босира.
– Нет, нет, говорите.
И Дюкорно произнес приветствие по-французски.
– О, прекрасно. Вы отлично говорите по-французски, господин ду Корну.
«Он принимает меня за португальца», – радостно подумал регистратор и сжал руку Босира.
– Скажите-ка, а тут можно поужинать? – поинтересовался дон Мануэл.
– Разумеется, ваше превосходительство. Пале-Рояль в двух шагах, и я знаю отличного трактирщика, который доставит вашему превосходительству отменный ужин.
– Ужин, какой вы заказали бы себе, господин ду Корну.
– Да, ваше превосходительство… И если ваше превосходительство позволит, я осмелюсь попросить разрешения доставить несколько бутылок португальского вина, какого ваше превосходительство не найдет даже в Порто.
– А,так у нашего регистратора не плохой винный погреб? – игриво заметил Босир.
– Это единственная роскошь, которую я себе позволяю, – скромно отвечал добрейший чиновник, и только теперь, при свечах, Босир и дон Мануэл смогли по-настоящему разглядеть его лицо, живые глаза, круглые щеки и красный нос.
– Делайте, как вам угодно, господин ду Корну, – разрешил посол. – Велите принести вино и приходите поужинать с нами.
– О, такая честь…
– Сегодня мы без чинов. Я пока просто путешественник, послом я стану завтра. Кстати, заодно мы потолкуем о делах.
– Ваше превосходительство позволит мне бросить взгляд на свой туалет?
– Вы прекрасно одеты, – заметил Босир.
– Это наряд для приемов, но не парадный, – объяснил Дюкорно.
– Останьтесь в нем, господин регистратор, и сберегите для нас время, которое вы потратили бы на то, чтобы переодеться в парадное платье.
Дюкорно, исполненный ликования, вышел от посла и, дабы ускорить на десять минут насыщение его превосходительства, припустил бегом.
В это время три плута, запершись в спальне, проводили осмотр обстановки, а также обсуждали, что им предстоит сделать.
– Регистратор ночует в особняке? – осведомился дон Мануэл.
– Нет, у этой шельмы свой неплохой погреб, и, видимо, где-то имеется хорошенькая любовница или гризетка. Он холостяк.
– А как с привратником?
– От него надо избавиться.
– Я займусь этим.
– Есть еще слуги в особняке?
– Есть слуги по найму, но завтра их сменят наши компаньоны.
– А что с кухней? Что с буфетной?
– Там пустота. Бывший посол никогда здесь не появлялся, у него был собственный дом в городе.
– А как насчет денежного ящика?
– Насчет ящика надо потолковать с канцеляристом, но это дело тонкое.
– Это я беру на себя, – вызвался Босир, – мы с ним уже лучшие друзья.
– Тише! Вот он идет.
И действительно, появился запыхавшийся Дюкорно. Он предупредил трактирщика с улицы Бон-Занфан, захватил у себя в кабинете полдюжины бутылок вина, и теперь на его почтительной и сияющей физиономии выражалось все, что способны сочетать два солнца, именуемые характером и дипломатичностью, дабы позолотить то, что циники называют фасадом человека.
– Ваше превосходительство не намерен спуститься в столовую? – осведомился он.
– Нет, нет, мы поужинаем в спальне, в своем кругу, у камелька.
– Ваше превосходительство, я в восхищении. Вот вино.
– Топаз! – воскликнул Босир, поднеся одну из бутылок к свече.
– Садитесь, господин регистратор, а мой лакей накроет стол.
Дюкорно уселся.
– Когда пришли последние депеши? – спросил посол.
– Накануне отбытия вашего… предшественника вашего превосходительства.
– Так. Здание посольства в хорошем состоянии?
– Да, ваше превосходительство.
– А как насчет денежных затруднений?
– Насколько мне известно, таковых нет.
– Значит, долгов нет. Можете спокойно о них сказать… Если они есть, мы начнем с того, что расплатимся. Мой предшественник – достойнейший дворянин, так что я готов стать его поручителем.
– Слава Богу, ваше превосходительство, в этом нет нужды. Распоряжение об открытии нам кредитов было дано три недели назад, а на следующий день после отбытия бывшего посла сюда были доставлены сто тысяч ливров.
– Сто тысяч! – радостно воскликнули Босир и дон Мануэл.
– Золотом, – уточнил регистратор.
– Золотом, – выдохнули посол, секретарь и даже камердинер.
– Таким образом, – скрывая свои чувства, уточнил Босир, – в кассе сейчас…
– Сто тысяч триста двадцать восемь ливров, господин секретарь.
– Немного, – холодно заметил дон Мануэл, – но к счастью, ее величество предоставила в наше распоряжение достаточные средства. Это на тот случай, голубчик, – обратился он к Дюкорно, – если бы в Париже не оказалось денег.
– Ну, а кроме того, ваше превосходительство приняли предосторожность на сей счет, – почтительно подсказал Босир.
После столь радостного сообщения регистратора ликующее настроение посла и прибывших с ним лиц только усилилось.
Превосходный ужин, состоящий из лососины, раков невообразимой величины, дичи и сливок, просто уже не способен был усилить ликование португальских сеньоров.
Дюкорно уплетал за обе щеки и продемонстрировал своим принципалам, что парижанин с улицы Сент-Оноре поглощает порто и херес, точь-в-точь как вино из Бри или Тоннера.
Снова и снова г-н Дюкорно благословлял небо за то, что оно ниспослало ему посла, предпочитающего французский язык португальскому, а португальские вина французским; он таял в сладостном благорастворении, какое дарует мозгу ублаготворенный и благодарный желудок, но тут г-н да Суза обратился к нему и предложил отправиться спать.
Дюкорно поднялся и с поклоном, оказавшимся для него весьма затруднительным, поскольку, отвешивая его, он зацепил предметов меблировки ничуть не меньше, чем ветка шиповника в зарослях цепляет листьев, удалился и добрался до уличной калитки.
Босир и дон Мануэл отдали должное винам посольства, но не до такой степени, чтобы тут же погрузиться в сон.
Кроме того, после господ должен был поужинать камердинер, что командор с большой тщательностью и проделал, следуя по стопам посла и его секретаря.
Был составлен план на следующий день. Трое сообщников провели рекогносцировку особняка, убедившись предварительно, что привратник спит.
На следующее утро Дюкорно прямо натощак развил кипучую деятельность, и благодаря этому здание посольства пробудилось от летаргического сна. Столы, картонки с письменными принадлежностями, шум и беготня, ржание лошадей во дворе – все свидетельствовало о возрождении жизни там, где вчера еще царствовали безучастность и смерть.
В квартале мгновенно разошелся слух, что ночью из Португалии прибыл новый вельможный посланник.
Слух этот, который должен был придать веса тройке плутов, тем не менее стал для них источником непреходящих страхов.
И впрямь, уши и у полиции г-на де Крона, и у соглядатаев г-на де Бретейля[74] были достаточно длинные, но хотя в подобных обстоятельствах предпочиталось держать их закрытыми, глаз у этих людей было не меньше, чем у Аргуса[75], и они никогда не закрывались, ежели дело касалось португальских дипломатов.
Однако дон Мануэл предложил Босиру принять во внимание, что если они будут действовать дерзко, то подозрения у полиции возникнут не ранее, чем через неделю; дабы убедиться в справедливости подозрений, ей понадобится недели две, так что примерно в течение десяти дней никто не помешает компании заниматься своими делами, а посему она, дабы избежать дурных последствий, должна все закончить за шесть дней.
Аврора только-только окрасила небо, когда к особняку подъехали две наемные кареты с грузом из девяти проходимцев, которые должны были составить штат посольства.
Босир мгновенно разместил или, вернее сказать, разложил их. Одного поместили в кассу, другого в архив, третий сменил привратника, которого Дюкорно самолично отставил от должности под предлогом, что тот не знает португальского. Таким образом, особняк получил гарнизон, который должен был защищать его от вторжения непосвященных.
Полиция же, когда дело касается политических и всякого рода иных тайн, имеет наибольшие основания относиться к числу непосвященных.
Около полудня дон Мануэл, он же да Суза, в парадном одеянии уселся в весьма пристойную карету, которую Босир взял внаймы за пятьсот ливров в месяц, уплатив авансом за две недели.
В сопровождении секретаря и камердинера дон Мануэл покатил к дому гг. Бемера и Босанжа.
Регистратор получил приказ заниматься, как обыкновенно в отсутствие послов, всеми делами, касающимися паспортов, вознаграждений и вспомоществований, с единственным условием – выдавать наличные и производить платежи по счетам лишь с согласия г-на секретаря.
Компаньоны хотели сохранить в неприкосновенности сто тысяч ливров, основу основ их махинации.
Г-ну послу было сообщено, что королевские ювелиры проживают на набережной Эколь, куда карета и подкатила примерно около часу дня.
Камердинер негромко постучал в дверь ювелиров. Дверь эта была снабжена прочными запорами, и на ней, словно на воротах тюрьмы, была набита тьма могучих гвоздей с большими шляпками.
Гвозди были набиты с большим искусством и составляли достаточно приятные для глаза узоры. Единственно, надо отметить, что никакой бурав, никакая пила, никакой напильник не смог бы выгрызть ни кусочка дерева, не сломавшись на гвоздях.
Открылся зарешеченный глазок, и чей-то голос поинтересовался:
– Что надо?
– Господин португальский посланник желает поговорить с господами Бемером и Босанжем, – ответил лакей.
В окне второго этажа мелькнуло лицо, затем послышались торопливые шаги на лестнице. Дверь отворилась.
Дон Мануэл с вельможной медлительностью стал вылезать из кареты.
Г-н Босир выскочил первым и поддержал его превосходительство под руку.
Человек, который так торопился встретить португальцев, был г-н Бемер собственной персоной; он услыхал, что у дома остановилась карета, выглянул в окно, услышал слово «посланник» и счел нужным поспешить, дабы не вынудить его превосходительство ждать.
Пока дон Мануэл поднимался по лестнице, ювелир рассыпался в извинениях.
Г-н Босир заметил, что за спиной у них старая, но весьма крепкая и статная служанка закрывает засовы и замки, коими в изобилии была снабжена дверь.
Г-н Бемер, видя, что г-н Босир с некоторым удивлением наблюдает за этим, пояснил:
– Простите, сударь, но наше несчастное ремесло ювелира вынуждает нас принимать кое-какие предосторожности.
Дон Мануэл сохранял полнейшую невозмутимость. Видя это, Бемер повторил ему ту же фразу, вызвавшую у Босира улыбку понимания. Но и на сей раз г-н посланник даже ухом не повел.
– Простите, господин посол… – снова начал растерявшийся Бемер.
– Сударь, его превосходительство не говорит по-французски, – пояснил Босир, – и не понимает вас. Я переведу ему ваши извинения, если только, – торопливо вставил он, – вы сами не говорите по-португальски.
– Увы, сударь, нет.
– Тогда я буду вашим переводчиком.
И Босир протарабанил несколько ломаных португальских слов, на что дон Мануэл ответил также по-португальски.
– Его превосходительство граф да Суза, посланник ее истинно верующего величества, милостиво принимает ваши извинения и поручает мне осведомиться, находится ли еще в вашем распоряжении прекрасное бриллиантовое ожерелье?
Бемер поднял глаза и взглядом смерил Босира с головы до ног. Босир вынес удар, как подобает опытному дипломату.
– Бриллиантовое ожерелье, – медленно повторил Бемер, – весьма красивое ожерелье?
– То, которое вы предложили королеве Франции и о котором слышала ее истинно верующее величество, – сообщил Босир.
– Сударь, вы – служащий господина посла? – осведомился Бемер.
– Его личный секретарь.
Дон Мануэл, с важностью вельможи расположившийся в кресле, рассматривал живописные панно, которые украшали стены достаточно неплохо обставленной комнаты, выходившей окнами на набережную.
Над еще желтоватой, взбухшей от талых вод Сеной светило солнце, и тополя уже выбросили первые нежно-зеленые побеги.
Завершив осмотр живописи, дон Мануэл перевел взгляд на пейзаж за окном.
– Сударь, – заметил Босир, – мне кажется, вы не поняли ни слова из того, что я вам сказал.
– То есть как, сударь? – спросил Бемер, несколько ошарашенный резким тоном собеседника.
– Господин ювелир, я вижу, что его превосходительство начинает испытывать раздражение.
– Извините, сударь, – объяснил залившийся краской Бемер, – но я не могу показать ожерелье без моего компаньона господина Босанжа.
– Так в чем же дело, сударь? Позовите своего компаньона.
Дон Мануэл подошел к ним и с ледяным видом, предполагавшим величественность, произнес на португальском краткую речь, во время которой Босир неоднократно почтительно кивал головой.
Завершив ее, дон Мануэл повернулся спиной к секретарю и ювелиру и вновь предался созерцанию пейзажа.
– Сударь, его превосходительство сказал, что он ждет уже целых десять минут, а он не привык ждать нигде, даже у королей.
Бемер поклонился, вцепился в сонетку звонка и принялся ее дергать.
Минуту спустя в комнату вступил г-н Босанж, компаньон г-на Бемера.
Бемер в двух словах объяснил ему ситуацию. Босанж искоса глянул на обоих португальцев и попросил у Бемера его ключ, чтобы открыть сундук.
«Похоже, порядочные люди, – подумал Босир, – принимают по отношению друг к другу те же предосторожности, что и воры».
Минут через десять г-н Босанж возвратился, держа в левой руке футляр; правая его рука скрывалась под кафтаном. Босир заметил четкие очертания двух пистолетов.
– Мы, конечно, можем делать хорошую мину, – важно произнес по-португальски дон Мануэл, – но эти торгаши, кажется, принимают нас за грабителей, а не за дипломатов.
Произнося эти слова, он внимательно следил за лицами ювелиров, чтобы не упустить ни малейшей перемены выражения, ежели те понимают по-португальски.
Однако на лицах их ничего не появилось, зато было явлено ожерелье столь дивной красоты, что, казалось, от него исходит сияние.
Футляр с ожерельем был с полным доверием вручен дону Мануэлу, который вдруг в бешенстве объявил своему секретарю:
– Сударь, передайте этим мерзавцам, что они злоупотребили правом торгашей на глупость. Они показывают мне стразы, хотя я просил бриллиантовое ожерелье. Скажите им, что я подам жалобу министру иностранных дел Франции и от имени своей королевы потребую бросить в Бастилию негодяев, осмелившихся обманывать посла Португалии.
Говоря это, он гневно швырнул футляр на конторку.
Босиру даже не потребовалось до конца переводить: хватило пантомимы.
Бемер и Босанж рассыпались в извинениях, объясняя, что во Франции обыкновенно демонстрируют копии, точные подобия бриллиантов; дескать, для честных людей этого вполне достаточно, зато для воров нет повода для искушения и соблазна.
Но г-н да Суза сделал гневный жест и на глазах обеспокоенных ювелиров направился к дверям.
– Его превосходительство велел мне объявить, – сообщил Босир, – что он возмущен тем, как люди, носящие звание ювелиров французской короны, могли отнестись к посланнику, словно к какому-то прохвосту. Его превосходительство отправляется к себе в посольство.
Г-да Бемер и Босанж переглянулись, склонились в поклоне и принялись заверять г-на посла в совершеннейшем почтении.
Г-н да Суза вышел, чуть ли не ступая им по ногам.
Крайне встревоженные ювелиры снова переглянулись и склонились едва не до земли.
Босир горделиво последовал за г-ном послом.
Старуха отперла запоры на двери.
– На улицу Жюсьен, в посольство! – крикнул Босир лакею.
– На улицу Жюсьен, в посольство! – крикнул лакей кучеру.
Бемер через дверной глазок слышал адрес.
– Дело лопнуло! – пробурчал лакей.
– Дело сделано, – ответил Босир. – Через час эти болваны будут у нас.
Карета понеслась, словно запряженная восьмеркой лошадей.
Когда компаньоны возвратились в посольство, Дюкорно спокойно обедал у себя в канцелярии.
Босир, попросив Дюкорно подняться к послу, заметил:
– Вы же понимаете, дорогой господин регистратор, такой человек, как господин да Суза, не может рассматриваться наравне с обычными послами.
– Да, я это сразу понял, – ответил регистратор.
– Его превосходительство, – продолжал Босир, – намерен занять достойное место в Париже среди богатых людей хорошего тона, и как вы сами должны понять, не может жить в этом дрянном особняке на улице Жюсьен. Так что для господина да Сузы придется подыскать личную резиденцию.
– Это весьма осложнит дипломатические отношения, – сказал регистратор. – Нам придется много бегать за подписями.
– Ну что вы, дорогой господин Дюкорно! Его превосходительство предоставит вам карету, – отвечал Босир.
– Мне карету? – воскликнул, не помня себя от радости, Дюкорно.
– Весьма досадно, что у вас нет к ней привычки, – гнул свое Босир. – У регистратора мало-мальски уважающего себя посольства должна быть собственная карета. Впрочем, о подробностях мы поговорим в соответствующее время и в соответствующем месте. А сейчас вы отчитаетесь перед господином послом о состоянии дипломатических дел. Кстати, где находится денежный ящик?
– Наверху, сударь, в покоях господина посла.
Так далеко от вас?
– Из соображений безопасности, сударь. Грабителям гораздо трудней проникнуть на второй этаж, нежели на первый.
– Грабителям? – пренебрежительно бросил Босир. – И они польстятся на столь ничтожную сумму?
– Сто тысяч ливров! – воскликнул Дюкорно. – Черт! Теперь я понимаю, что господин да Суза – богач. В кассе не каждого посольства лежат сто тысяч ливров.
– Вы не против, если мы сейчас проверим наличность? – осведомился Босир. – Мне пора ведь заняться и своими делами.
– Сию минуту, сударь, сию минуту, – отвечал Дюкорно, выходя из канцелярии.
Проверка была произведена, сто тысяч ливров пребывали в неприкосновенности, частью в золотой, частью в серебряной монете.
Дюкорно передал ключ от денежного ящика Босиру, и тот долго разглядывал его, восхищаясь замысловатой гильошировкой и сложным очертанием бородки.
При этом он незаметно сделал отпечаток ключа на воске.
Затем он возвратил ключ регистратору, заявив:
– Господин Дюкорно, будет лучше, если он останется у вас, а не у меня. А теперь идемте к его превосходительству.
Дон Мануэл пребывал в одиночестве, попивая национальный напиток шоколад. Он, казалось, был весьма поглощен каким-то листком бумаги, сплошь покрытым цифрами. Увидев вошедшего регистратора, он спросил:
– Вы знакомы с шифром корреспонденции бывшего посла?
– Нет, ваше превосходительство.
– Так вот, вам придется ознакомиться с ним. Тем самым вы избавите меня от множества бесполезных мелочей. Да, кстати, а что с кассой? – обратился посол к Босиру.
– В полном порядке, как и все, что находится в ведении господина Дюкорно, – сообщил Босир.
– Сто тысяч ливров?
– В звонкой монете, ваше превосходительство.
– Отлично. Присядьте, господин ду Корну, мне нужно кой о чем справиться у вас.
– К услугам вашего превосходительства, – отвечал сияющий регистратор.
– Господин ду Корну, это дело государственной важности.
– О, я весь внимание, ваше превосходительство.
И достойнейший регистратор придвинулся поближе вместе со стулом.
– Дело чрезвычайно важное, и мне необходимы ваши познания. Знаете ли вы более или менее порядочных ювелиров в Париже?
– Есть господа Бемер и Босанж, придворные ювелиры, – сообщил регистратор.
– Вот именно к ним я обращаться и не намерен, – отвечал дон Мануэл. – Я только что от них и больше не желаю их видеть.
– Они имели несчастье вызвать неудовольствие вашего превосходительства?
– И большое, господин ду Корну, весьма большое.
– Ах, не будь я столь сдержан, я осмелился бы…
– Осмельтесь.
– Я спросил бы, чем эти люди, обладающие превосходной репутацией в своем деле…
– Господин ду Корну, это настоящие иудеи, и из-за своих гнусных повадок потеряли миллион, если не два.
Дюкорно ахнул.
– Я прислан ее истинно верующим величеством, чтобы приобрести некое бриллиантовое ожерелье.
– А, то самое ожерелье, что было заказано покойным королем для госпожи Дюбарри. Как же, знаю, знаю.
– Вы бесценный человек, вам все известно. Так вот, я приехал купить это ожерелье, но, поскольку дела обернулись так, я не стану его покупать.
– Я должен предпринять какие-то шаги?
– Господин Корну!
– Дипломатические, чисто дипломатические.
– Это было бы неплохо, если бы вы были знакомы с этими людьми.
– Босанж – мой дальний родственник, правда, так, седьмая вода.
Дон Мануэл и Босир переглянулись. Воцарилось молчание. Оба португальца обдумывали открывшееся обстоятельство.
Вдруг дверь отворилась, и один из лакеев объявил:
– Господа Бемер и Босанж!
Дон Мануэл вскочил и гневно возопил:
– Выпроводить их отсюда!
Лакей готов был отправиться исполнять приказание.
– Нет, – остановил его дон Мануэл. – Господин секретарь, займитесь этим вы.
– Умоляю вас! – униженно воскликнул Дюкорно. – Позвольте мне исполнить приказ вашего превосходительства. Я сделаю это помягче, раз уж мне придется его исполнять.
– Как вам угодно, – пренебрежительно бросил дон Мануэл.
Как только Дюкорно выбежал за дверь, Босир подошел к послу.
– Ну что, дело, похоже, лопнет? – спросил дон Мануэл.
– Отнюдь нет. Дюкорно, напротив, поспособствует ему.
– Да он все испортит, болван! У ювелиров мы говорили только по-португальски, вы же им сказали, что я не понимаю ни слова по-французски. Дюкорно все испортит.
– Бегу туда.
– Босир, а вам не опасно появляться там?
– Сами увидите, что нет. Позвольте мне только действовать по своему усмотрению.
– Валяйте, черт возьми!
Босир вышел.
Внизу Дюкорно обнаружил Бемера и Босанжа, чье поведение после прибытия в посольство целиком изменилось если уж не в смысле доверчивости, то хотя бы в смысле учтивости.
Они очень мало надеялись встретить здесь знакомые лица и потому крайне скованно проходили через первые комнаты.
Увидев Дюкорно, Босанж с радостным удивлением воскликнул:
– Это вы!
И, кинувшись к Дюкорно, обнял его.
– Вы безмерно любезны, мой богатый родственничек, узнав меня, – заметил Дюкорно. – А причина – то, что я причастен к посольству?
– Ну, разумеется, – отвечал Босанж. – Уж простите, что мы отдалились друг от друга, и окажите мне одну услугу.
– Я для этого и пришел.
– О, благодарю вас. Вы имеете касательство к посольству?
– Разумеется.
– И вы можете мне сказать?..
– Что и о чем?
– О посольстве.
– Я здесь регистратор.
– Превосходно! Мы хотели бы поговорить с послом.
– Я исполняю его поручение.
– Касательно нас? И что же он передает?
– Он просит вас удалиться из его дома, господа, и как можно скорей.
Оба ювелира сконфуженно переглянулись.
– Вы, как мне кажется, – решительно продолжал Дюкорно, – вели себя неуклюже и недостойно.
– Выслушайте нас.
– Это бесполезно, – раздался неожиданно голос Босира, появившегося с надменным и холодным видом в дверях комнаты. – Господин Дюкорно, его превосходительство велел вам выпроводить этих господ. Так выпроводите же их.
– Господин секретарь…
– Делайте, что вам велено. Исполняйте приказание, – негодующе произнес Босир.
И он удалился.
Регистратор взял своего родича за правое плечо, его компаньона за левое и, легонько подталкивая, стал выпроваживать.
– Все, все, – повторял он. – Говорить больше не о чем.
– Господи, до чего же эти иностранцы чувствительны, – пробормотал Бемер, бывший по национальности немцем.
– Дорогой родственничек, когда называешься да Суза и у тебя девятьсот тысяч ливров дохода, ты имеешь право делать все, что заблагорассудится, – заметил регистратор.
– Ах, Бемер, – вздохнул Босанж, – я же неоднократно говорил вам, что вы слишком прямолинейны в делах.
– Ну, – отвечал упрямый немец, – если мы не получим от него денег, он не получит от нас ожерелья.
Они уже были у дверей. Дюкорно расхохотался.
– Да знаете ли вы, что такое португалец? – презрительно вопросил он. – Знаете ли вы, что такое посол? Неужто вы думаете, что он похож на буржуа вроде вас? Так вот я вам скажу.
Посол, фаворит царицы Екатерины, господин Потемкин каждый год первого января покупал для нее корзину вишен, которая обходилась ему в сто тысяч экю. Тысяча ливров за вишенку! Красиво, не правда ли? А господин да Суза приобретет копи в Бразилии, чтобы найти там алмаз, который будет больше, чем все ваши, вместе взятые. Это обойдется ему в двадцать миллионов, в доход за двадцать лет, но ему это безразлично, у него нет детей. Вот так-то.
Дюкорно уже закрывал дверь за ювелирами, но тут Босанж спохватился и предложил:
– Уладьте это дело, и вы получите…
– Здесь не продаются, – ответил Дюкорно и захлопнул дверь. В тот же вечер посол получил письмо следующего содержания:
Ваше превосходительство!
У дверей Вашего особняка ожидает человек, жаждущий принести самые почтительные извинения от имени Ваших покорных слуг. По единственному знаку Вашего превосходительства он вручит любому из Ваших людей ожерелье, имевшее счастье привлечь Ваше внимание.
Благоволите, Ваше превосходительство, принять заверения в глубочайшем к Вам почтении и проч. и проч.
– Ну все, – промолвил дон Мануэл, прочтя это послание, – ожерелье наше.
– Вовсе нет, – ответил Босир. – Оно будет нашим, когда мы его купим. Так купим же его!
– Каким образом?
– Ваше превосходительство не знает французского, как мы уговорились, так что первым делом нужно избавиться от регистратора.
– Каким образом?
– Самым простым: поручим ему важную дипломатическую миссию. Я займусь этим.
– Вы не правы, – не согласился дон Мануэл. – Он будет нашим поручителем.
– Но он же выболтает, что вы говорите по-французски не хуже, чем Босанж и я.
– Не выдаст, я попрошу его молчать.
– Ладно, пускай остается. Велите принять человека с бриллиантами.
Человек вошел; им оказался Бемер собственной персоной, который тут же рассыпался в изъявлениях наиглубочайшей почтительности и в самых униженных извинениях.
После этого он вручил послу ожерелье, сделав вид, будто намерен оставить его на проверку, а сам собирается уйти.
Дон Мануэл удержал его.
– Хватит уже всяких испытаний, – заявил Босир. – Вы чрезмерно подозрительный купец, но постарайтесь соблюдать приличия. Присаживайтесь и побеседуем: господин посол прощает вас.
«Уф! – мысленно вздохнул Бемер. – Сколько приходится трудиться, пока продашь».
«Сколько приходится трудиться, пока украдешь», – думал Босир.
Итак, г-н посол согласился тщательно осмотреть ожерелье. Г-н Бемер ревностно демонстрировал ему каждый камень, стараясь, чтобы он особо заиграл.
– О совокупности камней, – объявил Босир, с которым дон Мануэл только что поговорил по-португальски, господин посол ничего не может сказать, она вполне удовлетворительна. Иное дело – бриллианты сами по себе. Его превосходительство насчитал десяток с маленькими насечками и пятнышками.
О! только и произнес Бемер.
– Его превосходительство, – продолжал Босир, не давая ювелиру раскрыть рот, – лучше вас знает толк в алмазах: благородные португальцы в Бразилии играют с ними, как здешние детишки со стеклышками.
И впрямь, дон Мануэл тыкал поочередно пальцем в некоторые камни и с поразительной проницательностью находил в них изъяны, которые обнаружил бы, наверное, не всякий знаток алмазов.
– В настоящее время, – сообщил Бемер, изрядно удивленный тем, что столь высокопоставленный вельможа разбирается в алмазах под стать лучшему ювелиру, – это ожерелье в том виде, в каком вы его видите, является наилучшим собранием бриллиантов в целой Европе.
– Да, вы правы, – согласился дон Мануэл, и тут же по его знаку Босир добавил:
– Господин Бемер, дело заключается вот в чем: ее величество королева Португалии услышала про ожерелье и поручила его превосходительству посмотреть бриллианты и договориться о приобретении. Бриллианты вполне удовлетворяют его превосходительство. Сколько вы хотите за ожерелье?
– Миллион шестьсот тысяч ливров, – сказал Бемер. Босир повторил цену послу.
– Это на сто тысяч дороже, чем оно стоит, – объявил дон Мануэл.
– Ваше превосходительство, – отвечал ювелир, – невозможно точно определить барыш от столь драгоценной вещи. Создание подобного украшения потребовало стольких поисков и поездок, что это просто ужаснуло бы каждого, кто знал бы это так же хорошо, как я.
– На сто тысяч дороже, чем оно стоит, – повторил упрямый португалец.
– Раз его превосходительство так сказал, значит, он в этом убежден, потому что его превосходительство никогда не торгуется, – пояснил Босир.
Похоже, Бемер был несколько потрясен. Ничто так не успокаивает подозрительного торговца, как торгующийся покупатель.
– Я не могу согласиться, – сказал он после мгновенного колебания, – на снижение цены, поскольку это вызовет разногласия между мной и моим компаньоном по вопросу, получили мы прибыль или понесли убыток.
Дон Мануэл выслушал перевод Босира и встал.
Босир закрыл футляр и вручил его Бемеру.
– Я поговорю с господином Босанжем, – сказал ювелир. – А господин посол согласен?
– То есть? – не понял Босир.
– Я хочу сказать, что, как я понял, господин посол предложил за ожерелье полтора миллиона.
– Да.
– Его превосходительство настаивает на своей цене?
– Его превосходительство никогда не отступается от своего слова, – с португальской надменностью уронил Босир. – Равно как его превосходительство никогда не пойдет на то, чтобы докучно торговаться, как бы его ни вынуждали.
– Господин секретарь, надеюсь, вы понимаете, что я должен переговорить со своим компаньоном?
– Разумеется, господин Бемер.
– Разумеется, – ответил по-португальски дон Мануэл, которому было переведено то, что сказал Бемер. – Но мне необходимо, чтобы вопрос был решен как можно быстрее.
– Что же, ваше превосходительство, если мой компаньон согласится, я согласен заранее.
– Превосходно.
– Итак, цена – полтора миллиона ливров.
– Да.
– Теперь остается, – проговорил Бемер, – не считая одобрения господина Босанжа…
– Ну, ну?
– Остается лишь обсудить способ платежа.
– Ну, тут у вас не будет ни малейших трудностей, – заметил Босир. – Как вы предпочитаете, чтобы вам заплатили?
– Наличными, если это возможно, – рассмеялся Бемер.
– Что вы имеете в виду, говоря о наличных? – холодно осведомился Босир.
– О, я прекрасно понимаю, что никто не может сразу уплатить полтора миллиона звонкой монетой! – воскликнул Бемер и вздохнул.
– Кроме того, это было бы затруднительно и для вас самого, господин Бемер.
– Тем не менее, господин секретарь, я вынужден настаивать на уплате наличными.
– Что ж, вы правы, – заметил Босир и повернулся к дону Мануэлу. – Ваше превосходительство, какой задаток наличными вы намерены дать господину Бемеру?
– Сто тысяч ливров, – ответил посол.
– Сто тысяч ливров, – передал Босир Бемеру, – после подписания сделки.
– А остальное? – осведомился Бемер.
– Спустя то время, которое потребуется, чтобы переводной вексель его превосходительства прибыл из Парижа в Лиссабон, если только вы не предпочтете подождать, когда из Лиссабона в Париж придет подтверждение.
– Да, у нас имеется агент в Лиссабоне, – обрадовался Бемер, – мы напишем ему…
– Правильно, напишите, – с ироническим смешком согласился Босир, – и осведомитесь у него, платежеспособен ли господин да Суза, а заодно найдется ли у ее величества королевы миллион четыреста тысяч ливров.
– Сударь… – начал сконфуженный Бемер.
– Так вы согласны или предпочитаете другие условия?
– Условия, которые вы, господин секретарь, благоволили предложить, на первый взгляд мне представляются приемлемыми. Каковы будут сроки платежей?
– Господин Бемер, платежи будут произведены в три срока по пятьсот тысяч ливров. Кстати, это даст вам возможность совершить интересную поездку.
– Поездку в Лиссабон?
– А что тут такого? Право же, стоит потрястись в карете, чтобы получить за три месяца полтора миллиона ливров.
– Несомненно, но…
– И потом, вы поедете за счет посольства, а я или господин регистратор будем сопровождать вас.
– Я повезу бриллианты?
– Разумеется, разве что предпочтете послать отсюда вексели и отправить камни.
– Не знаю… Думаю… поездка была бы полезной… и…
– И я того же мнения, – заверил его Босир. – Договор подпишем здесь. Вы получаете наличными задаток в сто тысяч ливров, подписываете акт купли-продажи и везете ожерелье ее величеству. Кто ваш агент?
– Братья Нуньес Бальбоа.
Дон Мануэл поднял голову.
– Это мои банкиры, – с улыбкой сказал он.
– Это банкиры его превосходительства, – с улыбкой же сообщил Босир.
Бемер расцвел, все его сомнения, похоже, окончательно рассеялись. Он склонился, словно собираясь поблагодарить и попросить позволения удалиться.
Вдруг у него возникла какая-то мысль, и он остановился.
– В чем дело? – спросил встревоженный Босир.
– Значит, мы договорились? – сказал Бемер.
– Да, договорились.
– При условии…
– Да, при условии согласия господина Босанжа.
– Нет, нет, совсем другое, – ответил Бемер.
– Что такое?
– Сударь, это крайне деликатная материя, и честь португальского дворянина – слишком высокое чувство, чтобы его превосходительство не сумел меня понять.
– Что за увертки? Говорите яснее!
– Дело вот в чем. Ожерелье было предложено ее величеству королеве Франции.
– Которая отказалась от него. Ну и что?
– Сударь, мы не можем допустить, чтобы это ожерелье навсегда ушло из Франции, не предупредив о том королеву. Почтение и даже верность вынуждают нас отдать предпочтение ее величеству королеве.
– Вы правы, – важно изрек дон Мануэл. – Хотел бы я, чтобы португальские купцы думали и говорили так же, как господин Бемер.
– Я бесконечно счастлив и горд одобрением вашего превосходительства. Итак, дело у нас слаживается в случае одобрения условий господином Босанжем и окончательного отказа ее величества королевы Франции. Я прошу у вас на все это три дня.
– Теперь с нашей стороны, – вступил Босир. – Сто тысяч ливров наличными, три векселя, каждый по пятьсот тысяч ливров, которые мы вручаем вам. Футляр с ожерельем вы передаете господину регистратору посольства либо мне, смотря по тому кто будет сопровождать вас в Лиссабон. Полная выплата в течение трех месяцев. У братьев Нуньес Бальбао. Расходов на поездку у вас никаких.
– Да, ваше превосходительство, да, сударь, – кланяясь, повторял Бемер.
– Стойте! – воскликнул по-португальски дон Мануэл.
– Что такое? – обернувшись, спросил Бемер, встревожившись в свой черед.
– Перстень в тысячу пистолей, – сказал посол, – в подарок моему секретарю или моему регистратору, одним словом, вашему будущему спутнику, господин ювелир.
– Вы совершенно правы, ваше превосходительство, – пробормотал Бемер, – и я уже мысленно вычел этот расход.
Дон Мануэл вельможным жестом позволил ювелиру удалиться. Сообщники остались одни.
– Соблаговолите объяснить, – с некоторым раздражением осведомился дон Мануэл, – кой черт дернул вас отказаться от получения камней здесь? Поездка в Португалию! Разве мы сможем выплатить ему там деньги и получить взамен бриллианты?
– Вы чересчур всерьез восприняли свою роль посла, – заметил Босир. – Пока что для господина Бемера вы еще не вполне господин да Суза.
– Ну вот еще! Стал бы он вести переговоры, если бы у него были подозрения.
– Пусть будет по-вашему. Он не стал бы вести переговоры. Но любой человек, имеющий полтора миллиона ливров, считает себя выше всех королей и всех послов мира. И всякий, кто получает взамен за полтора миллиона ливров клочки бумаги, хочет знать, стоит ли чего-нибудь эта бумага.
– Значит, вы едете в Португалию? Не зная ни слова по-португальски?.. Мне кажется, вы спятили.
– Отнюдь, нет. Вы сами поедете.
– Я? Ни за что! – возопил дон Мануэл. – Мне вернуться в Португалию? У меня слишком веские причины не делать этого. Нет, нет, и речи быть не может.
– Я ведь вам сказал, что Бемер никогда не отдаст свои камни в обмен на клочки бумаги.
– Бумаги, подписанные да Сузой!
– Нет, каков! Он уже считает себя да Сузой! – воскликнул Босир, хлопая в ладоши.
– В таком случае я предпочту услышать, что дело не удалось, – заявил дон Мануэл.
– Ни в коем случае. Господин командор, подойдите к нам, – позвал Босир появившегося в дверях лакея. – Вы знаете, о чем идет речь, не так ли?
– Да.
– Вы слышали меня?
– Разумеется.
– Прекрасно. И вы тоже считаете, что я говорю глупости?
– Я считаю, что вы тысячекратно правы.
– Скажите почему?
– А вот почему. Господин Бемер ни в коем случае не прекратит наблюдения за посольством и послом.
– Ну и что? – спросил дон Мануэл.
– А то, что, когда в руках господина Бемера будут его деньги, то есть и бриллианты и векселя, он забудет обо всех подозрениях и со спокойной душой поедет в Португалию.
– Ну, так далеко мы не поедем, господин посол, – заметил лакей. – Не правда ли, шевалье де Босир?
– Вот что значит умный человек! – воскликнул возлюбленный м-ль Оливы.
– Ладно, выкладывайте ваш план, – холодно бросил дон Мануэл.
– В пятидесяти лье от Парижа, – начал Босир, – сей умный человек, закрыв предварительно лицо маской, покажет нашему кучеру пистолет, а можно и пару. Он отнимет у нас векселя, бриллианты, нещадно поколотит господина Бемера, и на том поездка завершится.
– Я представлял себе это иначе, – вмешался лакей. – Я думал, что господа Босир и Бемер в Байонне взойдут на судно, отплывающее в Португалию.
– Прекрасно!
– Господин Бемер, как всякий немец, любит море и любит прогуливаться по палубе. В один прекрасный день, когда будет бортовая качка, он свесится за борт и упадет в море. Предполагается, что футляр упадет вместе с ним. Почему бы морю не укрыть бриллиантов на полтора миллиона ливров, коль уж оно укрывает вест-индские талионы[76].
– Вот теперь мне понятно, – признал Португалец.
– Приятно слышать, – буркнул Босир.
– Вот только за кражу бриллиантов, – продолжал дон Мануэл, – грозит Бастилия, а за принуждение господина ювелира полюбоваться морем – верная петля.
– Ежели украсть камни, можно попасться, – не согласился лакей, – а вот ежели утопить ювелира, ни у кого и тени подозрения не возникнет.
– Ладно, мы еще обсудим, как будем действовать, – заметил Босир. – А теперь вернемся к нашим ролям. Будем вести посольство, словно здесь истинные португальцы, и пусть о нас скажут: «Даже если они не были настоящими послами, то, во всяком случае, старались ими казаться». Это всегда приятно. Подождем три дня.
События, описанные в этой главе, произошли на следующий день, после того как португальцы договорились с г-ном Бемером, и три дня спустя после бала в Опере, на котором, как мы видели, присутствовали несколько главных героев нашего повествования.
На улице Монторгейль, в глубине двора, огражденного решеткой, находился небольшой длинный и узкий дом, защищенный от уличного шума ставнями, при взгляде на которые вспоминалась провинциальная жизнь.
В глубине двора на первом этаже, куда добраться можно было, лишь перейдя вброд несколько зловонных луж, имелось нечто вроде лавки, полуоткрытой для тех, кто сумел преодолеть решетку и пространство двора.
То был дом довольно известного журналиста, газетчика, как их тогда называли. Редактор жил на втором этаже. Первый этаж служил для хранения выпусков газет, сложенных по номерам. Два других этажа принадлежали безобидным людям, платившим достаточно дешево за неудобство по многу раз в год быть свидетелями шумных скандалов, какие устраивали газетчику агенты полиции, оскорбленные частные лица или актеры, к которым относились как к илотам[77].
В такие дни обитатели «дома с решеткой» – под таким названием он шел в квартале – закрывали окна со стороны фасада, чтобы лучше слышать стенания газетчика, который обычно спасался от преследований на улицу Старых Августинцев через выход, находившийся на одном уровне с его комнатой.
Потайная дверь открывалась, закрывалась, шум прекращался, преследуемый исчезал, а нападающий оказывался лицом к лицу с четырьмя фузилерами из французской гвардии, за которыми старая служанка газетчика бегала на гауптвахту на рынок.
Нередко случалось, что нападающий, не найдя на ком выместить злость, срывал ее на кипах сложенной на первом этаже бумаги, раздирая, топча или сжигая, если, по несчастью, поблизости оказывался огонь, некоторое количество ненавистных газет.
Но что такое клок газеты для мстителя, жаждущего клока кожи газетчика? Если не считать этих скандалов, спокойствие «дома с решеткой» вошло в поговорку.
Выйдя из дому утром, г-н Рето обходил набережные, площади, бульвары. Находил смешных или порочных типов, описывал их, делал живой словесный портрет и помещал в очередной номер своей газеты.
Газета выходила еженедельно.
Это значит, что в течение четырех дней сьер Рето охотился за материалом для статей, следующие три дня печатал их, а день выхода номера проводил в праздности.
В день, о котором мы рассказываем, то есть через трое суток после бала в Опере, где м-ль Олива так веселилась вместе с голубым домино, как раз вышел очередной номер газеты.
Г-н Рето проснулся в восемь утра и получил от старухи служанки свежий номер, еще влажный и пахнущий краской.
Он принялся читать его с тем же поспешным рвением, с каким любящий отец начинает перечислять достоинства и недостатки любимого сына.
– Прекрасный номер, Альдегонда, – объявил он, завершив прочтение. – Ты уже читала его?
– Пока нет, я еще не сварила суп, – отвечала старуха.
– А я доволен номером, – объявил газетчик, воздевая над своим тощим ложем еще более тощие руки.
– Да? – поинтересовалась Альдегонда. – А знаете, что говорили о нем в типографии?
– И что же там говорили?
– Что на этот раз вам не отвертеться от Бастилии.
Рето сел и невозмутимым голосом объявил:
– Альдегонда, Альдегонда, свари мне лучше суп повкусней и не лезь в литературу.
– Вечно одно и то же, – пробурчала старуха. – Бесстрашен, как дворовый воробей.
– С сегодняшнего номера я куплю тебе пряжки, – пообещал газетчик, заворачиваясь в простыню сомнительной белизны. – Много уже куплено экземпляров?
– Пока ни одного, и пряжки мне не больно-то светят, если так пойдет и дальше. Вспомните-ка удачный номер, направленный против господина де Брольи[78]: к десяти часам было уже продано сто экземпляров.
– А я трижды выскакивал на улицу Старых Августинцев, – подхватил Рето. – От любого шума меня бросало в жар. Эти военные – ужасные грубияны.
– Из этого я делаю вывод, – не уступала упрямая Альдегонда, – что сегодняшний номер не стоит того, где писалось о господине де Брольи.
– Пусть так, – согласился Рето, – зато мне не придется столько бегать и удастся спокойно съесть суп. И знаешь, Альдегонда, почему?
– Ей-богу, нет, сударь.
– А потому, что я атаковал не человека, а принцип, не военного, а королеву.
– Королеву? Слава тебе Господи! – пробормотала старуха. – Тогда ничего не бойтесь. Если вы атаковали королеву, вы прославитесь, мы продадим все номера, и я получу пряжки.
– Звонят, – сообщил Рето, вылезая из постели. Старуха побежала в лавку, чтобы принять посетителя. Через минуту она вернулась – сияющая, торжествующая.
– Тысяча экземпляров одним махом, – сообщила она. – Вот это заказ!
– На чье имя? – живо спросил Рето.
Не знаю.
– Надо узнать. Мигом сбегай.
– Ну, времени у нас в достатке: не так-то просто пересчитать, перевязать и отгрузить тысячу номеров.
– Быстро беги, говорю тебе, и узнай у слуги… Это слуга?
– Нет, носильщик, крючник, по выговору овернец.
– Поди выспроси, узнай у него, кому он понесет эти номера.
Алвдегонда поспешила исполнить поручение; ступеньки деревянной лестницы заскрипели под ее тяжелыми шагами, и вскоре сквозь пол донесся ее пронзительный голос. Носильщик ответил, что газеты он понесет на Новую улицу Сен-Жиль на Болоте, графу Калиостро.
Газетчик подскочил от радости, чуть не развалив свою кровать. Он встал и пошел самолично ускорить доставку такого количества номеров, доверенных одному-единственному рассыльному, изголодавшемуся скелету, почти столь же бесплотному, как газетный лист. Тысяча экземпляров были подцеплены на крючья овернца, и тот, сгибаясь под ношей, скрылся за решеткой.
Сьер Рето уселся, чтобы написать для будущего номера об успехе этого и посвятить несколько строк щедрому вельможе, соблаговолившему приобрести целую тысячу экземпляров памфлета, который можно рассматривать как политический. Г-н Рето тихо ликовал, оттого что так ловко раздобыл столь ценные сведения, как вдруг во дворе снова прозвучал звонок.
– Еще за тысячей экземпляров, – предположила Альдегонда, разохотившаяся после первого успеха. – Ах сударь, и в этом нет ничего удивительного: раз речь идет об австриячке, все будут вторить вам.
– Тихо, тихо, Альдегонда! Не надо так громко. Австриячка – это оскорбление, которое будет стоить мне Бастилии, как ты и предупреждала.
– А что же, разве она не австриячка? – хмуро спросила Альдегонда.
– Это прозвище пустили в оборот мы, журналисты, но не надо им злоупотреблять.
Снова раздался звонок.
– Сходи, Альдегонда, посмотри. Не думаю, что это опять за газетами.
– А почему вы так не думаете? – уже с лестницы поинтересовалась служанка.
– Даже не знаю. Мне показалось, что у решетки стоит человек с мрачной физиономией.
Альдегонда спустилась, чтобы открыть дверцу.
Рето наблюдал с напряженным вниманием, которое должно быть вполне понятно читателю, после того как он познакомился с описанием этого нашего героя и его лавочки.
Альдегонда обнаружила у дверцы просто одетого человека, который осведомился, здесь ли он может найти господина редактора газеты.
– А что вам от него нужно? – с известной недоверчивостью поинтересовалась Альдегонда.
И она чуть приоткрыла дверцу, готовая захлопнуть ее при первых признаках опасности.
Посетитель позвенел у себя в кармане серебряными экю.
Этот металлический звон наполнил радостью сердце старухи.
– Я пришел, – сообщил посетитель, – по поручению графа Калиостро оплатить тысячу экземпляров сегодняшней «Газеты».
– Ну, в таком случае входите.
Покупатель прошел в калитку, но не успел захлопнуть, так как ее придержал другой посетитель, высокий, красивый молодой человек, произнесший:
– Прошу прощения, сударь.
И, не давая более никаких объяснений, он проскользнул следом за посланцем графа Калиостро.
Альдегонда же, зачарованная звоном экю, в предвкушении нового барыша, поспешила к хозяину.
– Спускайтесь! – возвестила она. – Все хорошо. Вас ждут пятьсот ливров за тысячу экземпляров.
– Что ж, с достоинством получим их, – объявил Рето, пародируя Ларива[79] в его последней роли.
И он запахнулся в весьма красивый халат, полученный от щедрот, а верней сказать, от перепуга г-жи Дюгазон, у которой после ее приключения с наездником Эстли[80] он вытянул немалое количество самых разных подарков.
Посланец графа Калиостро представился, извлек небольшой кошелек, набитый монетами достоинством в шесть ливров, и отсчитал сотню, разложив их двенадцатью столбиками.
Рето аккуратно пересчитал монеты, тщательно проверяя каждую, не обрезана ли она.
Закончив счет, он поблагодарил, написал расписку, на прощанье любезно улыбнулся посланцу и лукаво полюбопытствовал, что новенького у графа Калиостро.
Посланец, сочтя вопрос совершенно естественным, поблагодарил и направился к выходу.
– Передайте его сиятельству, что я готов к услугам, стоит ему только пожелать, – сказал Рето, – и пусть он будет спокоен: я умею хранить тайну.
– В этом нет никакой надобности, – ответил посланец, – граф ни от кого не зависит. Он не верит в магнетизм, хочет, чтобы люди посмеялись над Месмером, и платит, чтобы стало известно об этой истории у ванны.
– Прекрасно, – раздался чей-то голос в дверях, – а мы постараемся, чтобы посмеялись и над расходами графа Калиостро.
И г-н Рето увидел, что в комнату входит еще один человек, в чьем лице тоже была мрачность, но несколько отличная от мрачности посланца Калиостро.
То был, как мы уже упоминали, высокий молодой человек, однако Рето не разделял высказанного нами мнения о его красивой внешности.
Он счел, что у молодого человека угрожающий взгляд и угрожающие манеры.
И то сказать, посетитель опирал левую руку на эфес шпаги, а правую на набалдашник трости.
– Чем могу служить, сударь? – осведомился Рето, чувствуя во всем теле нечто вроде дрожи, которая всегда начиналась у него в затруднительных обстоятельствах.
А поскольку затруднительные обстоятельства в его жизни были не такой уж редкостью, следует признать, что дрожал г-н Рето часто.
– Господин Рето? – осведомился незнакомец.
– Да.
– Рето де Билет?
– Да, да.
– Газетчик?
– Совершенно точно.
– Автор вот этой статейки? – ледяным тоном произнес незнакомец, извлекая из кармана свежий номер газеты.
– Да, я, только не автор, а издатель, – уточнил Рето.
– Это дела не меняет, поскольку, не имея смелости написать эту статью, вы имели низость опубликовать ее. Я сказал «низость», – все тем же ледяным тоном продолжал молодой человек, – так как я дворянин и вынужден выбирать выражения даже в этом вертепе. Но не следует мои слова понимать буквально, поскольку они не выражают то, что я думаю. А вот если бы я выразил свои мысли, то сказал бы: «Тот, кто написал эту статью, – человек без чести, тот же, кто опубликовал ее, – негодяй!»
– Сударь! – пролепетал смертельно бледный Рето.
– Да, надо признать, дело для вас приобретает скверный оборот, – все больше распаляясь, продолжал молодой человек. – Должен вам сказать, господин Щелкопер, что всему свой черед. Вы только что получили деньги, а сейчас отведаете палки.
– Ну, это мы еще поглядим! – воскликнул Рето.
– Что вы намерены поглядеть? – резко и совершенно по-военному отчеканил молодой человек, направляясь к газетчику.
Однако тот не в первый раз оказался в подобной переделке и прекрасно знал все ходы-выходы в собственном доме; ему достаточно было повернуться, открыть дверь, выскочить, захлопнуть, использовав ее как щит, и оказаться в смежной комнате, где находилась спасительная дверца, ведущая на улицу Старых Августинцев.
Выскочив из этой дверцы, он уже был спасен: там была небольшая решетчатая калитка, отворив которую одним оборотом ключа, а ключ у Рето был всегда наготове, он имел возможность улепетывать со всех ног.
Но этот день был явно роковой для бедняги-газетчика. Уже вытащив ключ, он увидел сквозь решетку еще одного человека, который показался ему – у страха, как известно, глаза велики – подлинным Геркулесом; человек этот застыл в угрожающей неподвижности, словно поджидая кого-то, подобно тому как дракон Гесперид[81] поджидал охотников до золотых яблок.
Рето хотел было вернуться назад, но молодой человек с тростью, тот, что первым явился требовать у него ответа, ударом ноги вышиб дверь, и теперь ему достаточно было лишь протянуть руку, чтобы схватить газетчика, замершего при виде второго стража, тоже вооруженного шпагой и тростью.
Рето оказался между двух огней или, точнее говоря, между двух тростей, в крохотном, темном, уединенном и глухом дворике, расположенном между спасительной дверцей и спасительной решетчатой калиткой, через которую был выход на улицу Старых Августинцев, то есть к спасению и свободе, если бы никто не преграждал выход.
– Сударь, умоляю вас, позвольте мне выйти, – воззвал Рето к молодому человеку, стерегущему калитку.
– Сударь, – закричал преследователь Рето, – задержите этого негодяя!
– Будьте спокойны, господин де Шарни, он не уйдет, – отвечал молодой человек за калиткой.
– Господин де Таверне? Вы? – воскликнул де Шарни, поскольку это именно он проник к Рето с улицы Монторгейль следом за посыльным графа Калиостро.
Обоим молодым людям, когда они утром прочли газету, пришла одна и та же мысль, так как они таили в сердце одно и то же чувство, и вот, не сговариваясь друг с другом, они решили привести эту мысль в исполнение.
А мысль была следующая: явиться к газетчику, потребовать удовлетворения, а ежели он откажет, отколотить его тростью.
Тем не менее каждый из них, увидев другого, испытал мгновенное раздражение, так как каждый угадал соперника в человеке, которым двигало то же чувство, что и им.
Потому у г-на де Шарни был довольно угрюмый тон, когда он произнес: «Господин де Таверне? Вы?»
– Я! – ответил точно таким же тоном Филипп, устремляясь к газетчику, который умоляюще протягивал руки через решетку. – Я, но только, похоже, пришел слишком поздно. Что ж, я хотя бы поприсутствую на пиру, если только вы не соблаговолите открыть мне калитку.
– На пиру? – пролепетал перепуганный газетчик. – Господа, что вы хотите этим сказать? Уж не собираетесь ли вы убить меня?
– Это слишком сильно сказано, – успокоил его Шарни. – Нет, милейший, мы не убьем вас, просто сперва допросим, а там посмотрим. Господин де Таверне, вы позволите мне разобраться с ним на свой лад?
– Разумеется, сударь, – отвечал Филипп. – У вас преимущество, поскольку вы пришли первым.
– Встаньте-ка к стене и не шевелитесь, – приказал газетчику де Шарни, поблагодарив жестом Филиппа. – Итак, милейший, вы признаете, что написали и сегодня опубликовали у себя в газете шутливую, как вы ее назвали, сказку, направленную против королевы.
– Сударь, она не против королевы.
– Еще бы! Этого только не хватало!
– Эк, сударь, какое у вас завидное терпение, – бросил Филипп, ярившийся по ту сторону калитки.
– Будьте спокойны, – заверил его Шарни. – Пусть мерзавец потерпит. Он свое получит.
– Да, но я ведь тоже вынужден терпеть, – буркнул Филипп.
Шарни ничего не ответил – по крайней мере Филиппу. И он вновь обратился к несчастному Рето:
– Атгенаутна – это перевернутое Антуанетта… Ну, не изворачивайтесь, сударь!.. Это настолько гнусно и низко, что мне следовало бы не отколотить вас, не прикончить, а живьем содрать с вас кожу. Отвечайте прямо и откровенно: вы единственный автор этого памфлета?
– Я не доносчик! – выпрямившись, отрезал Рето.
– Прекрасно! Это значит: у вас есть сообщник, и вероятнее всего – тот человек, что прислал купить тысячу экземпляров вашего пасквиля, то есть граф Калиостро, как вы совсем недавно сказали. Ну что ж, граф заплатит за себя, после того как вы заплатите за себя.
– Сударь, сударь, я вовсе не говорил вам этого! – завопил газетчик в страхе, как бы ему не пришлось иметь дела после разгневанного г-на де Шарни с разгневанным графом Калиостро, не говоря уже о бледном от нетерпения Филиппе, который ждал за калиткой.
– Но уж поскольку я добрался до вас первого, – продолжал Шарни, – вы первым и заплатите.
И он поднял трость.
– О сударь, если бы у меня была шпага! – взвыл газетчик.
Шарни опустил трость.
– Господин Филипп, – попросил он, – будьте добры, одолжите шпагу этому мерзавцу.
– Ни за что! Я не дам свою честную шпагу этому негодяю. Пожалуйста, моя трость, если вам мало своей, но больше при всем желании я не могу сделать ни для него, ни для вас.
– Трость! – в отчаянии воскликнул Рето. – Да знаете ли вы, сударь, что я дворянин?
– В таком случае одолжите вашу шпагу мне, – попросил Шарни и швырнул свою к ногам газетчика. – После этого свою я больше не возьму в руки.
У Филиппа не осталось причин отказывать. Он вытащил шпагу из ножен и сквозь решетку передал Шарни.
Шарни с поклоном взял ее.
– Так значит, ты – дворянин, – процедил он, поворачиваясь к Рето. – Ты – дворянин и пишешь такие гнусности о королеве Франции! Хорошо, подними шпагу и докажи, что ты дворянин.
Но Рето не шелохнулся. Похоже, шпага, лежавшая у его ног, внушала ему такой же ужас, как секунду назад трость, поднятая над головой.
– Черт подери! – негодующе воскликнул Филипп. – Да откройте же мне наконец калитку.
– Простите, сударь, – заметил Шарни, – но вы сами признали, что сначала этот человек принадлежит мне.
– Тогда поторопитесь и заканчивайте, потому что я тоже тороплюсь начать.
– Я должен сначала исчерпать все средства, прежде чем прибегнуть к крайнему, – отозвался Шарни. – Видите ли, я считаю, что удары тростью столь же неприятны для того, кто их наносит, как и для того, кто их получает, но, поскольку этот господин предпочитает удары тростью удару шпагой, он получит то, что желает.
И едва молодой человек закончил свою речь, как пронзительный крик газетчика подтвердил, что Шарни перешел от слов к действиям. Вслед за первым последовало еще несколько сильнейших ударов, и каждый вышибал из Рето вопль, громкость которого соответствовала причиненной им боли.
Эти вопли привлекли внимание старухи Альдегонды, но Шарни реагировал на се крики не больше, чем на стенания ее хозяина.
Все это время Филипп, который пребывал в положении Адама, находящегося за воротами Эдема, метался, подобно медведю, чующему, как из-за решетки доносится запах кровавого мяса.
Наконец Шарни, уставший наносить удары, остановился, а Рето, уставший получать их, повергся наземь.
– Ну что, вы закончили, сударь? – осведомился Филипп.
– Да, – ответил Шарни.
– Тогда будьте добры, верните мне мою шпагу, поскольку она вам не нужна, и откройте калитку.
– Сударь! Сударь! – запричитал Рето, обращаясь к Шарни, поскольку надеялся найти защитника в человеке, который уже свел с ним счеты.
– Вы должны понять, я не могу оставить этого господина за дверью и поэтому вынужден ему открыть, – объявил Шарни.
– Это же медленное убийство! – закричал Рето. – Лучше уж прикончите меня одним ударом шпаги!
– Не беспокойтесь, – промолвил Шарни. – Я уверен, что теперь господин де Таверне и пальцем не тронет вас.
– И вы правы, – с безмерным презрением подтвердил Филипп. – Я не трону его. Он уже получил свою порцию ударов, а закон гласит: «Non bis in idem»[82]. Но тут еще остались номера газеты, и их нужно уничтожить.
– Совершенно верно! – воскликнул Шарни. – Вот видите, ум хорошо, а два лучше. Я забыл бы про них. Да, а каким чудом, господин де Таверне, вы оказались у этой калитки?
– А вот каким, – сообщил Филипп. – Я осведомился в квартале насчет привычек этого мерзавца. Узнал, что, когда ему наступают на хвост, он имеет обыкновение давать деру. Я поинтересовался, как он убегает, и подумал, что лучше будет воспользоваться потайной дверью, а не той, которая открыта для всех, и что ежели я пройду в потайную дверь, то захвачу лису в ее норе. Мысль об отмщении пришла и вам, но вы поторопились, не собрали полных сведений и явились к нему через дверь, известную всем и каждому, так что, если бы я, по счастью, не оказался тут, этот негодяй улизнул бы от вас.
– И я страшно рад, что вы тут оказались. Идемте, господин де Таверне, этот мерзавец сейчас отведет нас к своему печатному станку.
– Но мой станок не здесь, – сказал Рего.
– Врешь! – угрожающе воскликнул де Шарни.
– Нет, нет, – вступился Филипп. – Вы убедитесь, что он говорит правду. Набор уже рассыпан, у него здесь только тираж. Причем весь тираж, за исключением тысячи номеров, проданных господину Калиостро.
– Тогда он при нас разорвет все газеты.
– Нет уж, пусть лучше сожжет, так будет верней.
И Филипп, как бы подтверждая свою решимость получить удовлетворение именно таким образом, подтолкнул Рето в сторону его лавки.
9. Как двое друзей стали врагами
Меж тем Альдегонда, слыша крики хозяина и обнаружив, что дверь заперта, помчалась за стражей.
Но до ее возвращения у Филиппа и Шарни было время разжечь яркий огонь из нескольких газет, а потом побросать туда очередные разодранные экземпляры, которые тут же вспыхивали, стоило их лизнуть языку пламени.
Молодые люди приступали уже к последним номерам, когда стража, предводительствуемая Альдегондой, подошла к решетке; за стражей следовало не меньше сотни уличных мальчишек, зевак и кумушек.
Приклад первого ружья опустился на каменные плиты вестибюля в тот самый миг, когда вспыхнул последний номер газеты.
К счастью, Филипп и Шарни знали путь к спасению, каковой им неосторожно показал Рето; они выскочили в потайной коридор, закрыли дверь на задвижку, вышли через калитку на улицу Старых Августинцев, заперли ее на ключ, а ключ бросили в сточную канаву.
Все это время Рето, оказавшийся свободным, громогласно звал на помощь, кричал, что ему грозит смерть, что его убивают, а Альдегонда, увидев на стеклах отблески языков пламени, завопила: «Пожар!»
Фузилеры вошли в лавку, но так как молодые люди сбежали, а огонь погас, не сочли необходимым продолжать расследование; оставив Рето смазывать спину камфарной водкой, они вернулись к себе на гауптвахту.
Однако толпа, которая куда любопытней стражи, чуть ли не до полудня толкалась во дворе г-на Рето, втайне надеясь, что повторится утренняя сцена.
Альдегонда в отчаянии проклинала Марию Антуанетту, честя ее австриячкой, и благословляла г-на Калиостро, именуя его покровителем литературы.
Когда молодые люди оказались на улице Старых Августинцев, Шарни обратился к Таверне:
– Сударь, теперь, когда мы завершили расправу, могу ли я надеяться, что буду иметь счастье в чем-то оказаться полезным вам?
– Тысяча благодарностей, сударь, я тоже собирался задать вам этот вопрос.
– Благодарю вас. Я приехал сюда по личным делам, которые задержат меня в Париже, вероятно, до второй половины дня.
– Я тоже, сударь, здесь по личным делам.
– В таком случае позвольте мне откланяться и поверьте, я благословляю судьбу за счастье встретиться с вами.
– Позвольте, сударь, ответить вам тем же самым и добавить, что я искренне желаю, чтобы дело, из-за которого вы приехали, удачно завершилось.
Молодые люди улыбнулись друг другу и с преувеличенной любезностью раскланялись; было видно, что слова, которыми они только что обменивались, произносили лишь их уста, но не более.
Распрощавшись, они направились в противоположные стороны: Филипп вверх, к бульварам, Шарни вниз, к реке.
Прежде чем они потеряли друг друга из виду, оба раза по три обернулись. Шарни от реки пошел вверх по улице Борепер, затем по улице Ренар, Гранд-Юрлер, Жан-Робер, Гравилье, Пастуреле, Перш, Кюльтюр-Сент-Катрин, Сент-Анастази и вышел к улице Сен-Луи. По улице Сен-Луи он пошел вниз, в сторону улицы Нев-Сен-Жиль.
Однако, приближаясь к ней, он обнаружил, что с другого конца улицы Сен-Луи навстречу поднимается молодой человек, показавшийся ему знакомым. Раза два Шарни в сомнении останавливался, но скоро все сомнения рассеялись. К нему приближался Филипп.
Филипп, в свой черед, свернул на улицу Моконсейль, пошел по улицам Ур, Гренье-Сен-Лазар, Мишель-ле-Конт, Вьей-Одриет, Ом-Арме, Розье, миновал особняк Ламуаньон на улице Шиповника и вышел на угол улиц Сен-Луи и Эту-Сент-Катрин.
Встретились молодые люди у начала Нев-Сен-Жиль.
Оба остановились, взглянули друг на друга, но на сей раз в глазах каждого ясно отражались его мысли.
Ведь у каждого из них было одно и то же намерение: пойти потребовать объяснений у графа Калиостро.
Так что никто из них не сомневался касательно планов другого.
– Господин де Шарни, – обратился Филипп, – я оставил вам продавца, так что вы могли бы оставить мне покупателя. Я дал вам поработать тростью, дайте мне поработать шпагой.
– Сударь, – отозвался Шарни, – вы сделали мне эту уступку, насколько я понимаю, потому что я пришел первый, и не более того.
– Да, но сюда я пришел одновременно с вами, и к тому же я сказал вам об этом, так что теперь ни о какой уступке и речи быть не может.
– А кто вам сказал, сударь, что я прошу уступки? Я отстаиваю свое право, только и всего.
И в чем же, по-вашему, состоит ваше право, господин де Шарни?
– Заставить господина Калиостро сжечь тысячу номеров, купленных у этого мерзавца.
– Прошу вас припомнить, сударь, что на улице Монторгейль мне первому пришла мысль сжечь газеты.
– Пусть так. Вы заставили сжечь газеты на улице Монторгейль, я заставлю порвать их на Нев-Сен-Жиль.
– Сударь, я в отчаянии, что мне приходится это вам говорить, но я самым серьезным образом объявляю, что намерен первым иметь дело с графом Калиостро.
– Все, что я могу сделать для вас, сударь, – это положиться на волю судьбы: я подброшу луидор, и тот из нас, кто выиграет, получает первенство.
– Благодарю вас, сударь, но мне обычно не везет, так что я боюсь проиграть.
И Филипп хотел продолжить свой путь. Де Шарни остановил его.
– Сударь, – сказал он, – позвольте вас на два слова, и думаю, мы поймем друг друга.
Филипп резко обернулся. В голосе де Шарни ему почудилась угроза, и это его обрадовало.
– Слушаю вас, – бросил он.
– А что, если мы поедем требовать удовлетворения у господина Калиостро через Булонский лес? Разумеется, это большой крюк, но зато, уверен, мы решим наш спор. Один из нас, вероятно, отстанет по дороге, а тот, кто вернется, не должен будет никому давать отчета.
– Сударь, – отвечал Филипп, – своим предложением вы опередили меня. Действительно, этим все будет решено. Не соблаговолите ли сказать, где мы встретимся?
– Сударь, если вам не претит мое общество…
– Простите?
– Мы можем поехать вместе. Я приказал моей карете ждать меня на Королевской площади. Как вам известно, это в двух шагах.
– Итак, вы предлагаете мне поехать в ней?
– Да, и с величайшим удовольствием.
И двое молодых людей, с первого взгляда увидевших друг в друге соперников и при первой возможности ставших врагами, вместе пошли к Королевской площади. На углу улицы Па-де-ла-Мюль они увидели карету.
Шарни махнул лакею. Карета подъехала к ним. Шарни пригласил Филиппа сесть, и карета покатила в направлении Елисейских полей.
Прежде чем сесть в карету, Шарни черкнул два слова и отправил лакея с запиской в свой парижский дом.
У г-на де Шарни были отменные лошади, меньше чем за полчаса молодые люди оказались в Булонском лесу.
Шарни остановил кучера на первом же подходящем для исполнения их замысла месте.
Погода стояла прекрасная, в воздухе, правда, было свежо, но солнце уже пригревало, первые фиалки и молодые побеги бузины, растущие вдоль дорог и по кромке леса, источали нежный аромат. Прошлогодние бурые травы гордо покачивали султанами, вдоль старых стен желтые левкои свешивали ароматные соцветия.
– Превосходная погода для прогулки. Вы согласны со мной, господин де Таверне? – сказал Шарни.
– Вы правы, сударь, превосходная.
– Езжайте, Дофен, – приказал Шарни кучеру.
– Сударь, – заметил Таверне, – а не поторопились ли вы отослать карету? Одному из нас она может понадобиться на обратный путь.
– Сударь, прежде всего мы должны держать в тайне это наше дело, – ответил Шарни. – Если мы доверим тайну слуге, то рискуем, что завтра она станет предметом пересудов всего Парижа.
– Поступайте, как вам угодно, сударь, но только прохвост, привезший нас сюда, несомненно, уже догадался, зачем мы приехали. Эти люди прекрасно знают повадки дворян и, ежели им приходится везти их да еще таким галопом, как нас с вами, в Булонский лес, в Венсен или Сатори, мигом смекают, что речь идет не об обычной прогулке. Так что, уверяю вас, кучер уже догадался, в чем дело. Но предположим даже, что он не догадался. Он увидит вас или меня раненого или даже убитого, и этого ему будет достаточно, чтобы все понять, пусть даже с опозданием. Так не лучше ли, чтобы он нас тут подождал и отвез того, кто не сможет вернуться самостоятельно, нежели оставил меня или вас одного в беспомощном состоянии?
– Да, сударь, пожалуй, вы правы, – согласился Шарни и крикнул кучеру: – Дофен, остановитесь! Подождите нас тут.
Дофен, похоже, не сомневался, что его остановят, поэтому не стал подгонять лошадей и сумел услышать голос хозяина.
Итак, Дофен остановился; он, как и предвидел Филипп, догадывался, что должно произойти, и потому поудобнее устроился на облучке, чтобы сквозь нагие еще деревья видеть действо, одним из двух участников которого должен был стать его господин.
А Филипп и де Шарни углубились в лес и минут через пять уже были почти не видны на фоне синеватой дымки горизонта.
Филипп, шедший первым, нашел подходящее место: земля здесь была сухая и не ползла под ногой; это была длинная прямоугольная площадка, как нельзя лучше подходившая для того, чем собирались заняться молодые люди.
– Не знаю, как вам, господин де Шарни, но мне кажется, тут удобное место, – сказал Филипп.
– Великолепное, сударь, – одобрил Шарни, снимая кафтан.
Филипп тоже снял кафтан, бросил на землю шляпу и обнажил шпагу.
– Господин де Таверне, – обратился к нему Шарни, чья шпага еще была в ножнах, – будь на вашем месте кто-нибудь другой, я сказал бы ему: «Шевалье, произнесите одно лишь слово, даже не извинение, просто дружелюбное слово, и мы снова станем друзьями…» Но с вами, с храбрецом, вернувшимся из Америки, страны, где так хорошо умеют сражаться, я не могу.
– А я, – ответил Филипп, – любому другому сказал бы: «Сударь, вероятно, по отношению к вам я выглядел неправым» – но. вам, отважному моряку, который совсем недавно вызвал восхищение двора своим подвигом, я могу лишь сказать: «Граф, окажите мне честь, защищайтесь».
Граф де Шарни поклонился и извлек шпагу.
– Сударь, – обратился он к Таверне, – надеюсь, ни вы, ни я не будем касаться подлинной причины ссоры.
– Я не понял вас, граф, – бросил Филипп.
– Напротив, вы меня понимаете, сударь, и прекрасно: вы ведь приехали из страны, где не умеют лгать, и потому, говоря мне, что не понимаете, покраснели.
– Защищайтесь! – повторил Филипп. Шпаги скрестились.
С первых же выпадов Филипп понял, что имеет явное преимущество над противником. Однако эта уверенность, вместо того чтобы придать ему задора, казалось, совершенно остудила его.
Сознание превосходства пробудило в Филиппе все его хладнокровие, и сражался он с совершенным спокойствием, словно находился в фехтовальном зале и в руках у него была не шпага, а рапира с пуговкой на конце.
Он лишь парировал; бой продолжался уже больше минуты, а Филипп не сделал еще ни одного выпада.
– Сударь, вы щадите меня! – возмутился Шарни. – Нельзя ли узнать, по какой причине?
Говоря это, он сделал финту и следом глубокий выпад.
Однако Филипп отбил шпагу противника не менее стремительным встречным ударом, парировал выпад.
И все-таки ответного удара он не нанес, хотя, защищаясь, отбил шпагу Шарни в сторону.
Шарни вновь сделал выпад, Филипп вновь отразил его шпагу, и графу пришлось мгновенно принять защитную позицию.
Шарни был моложе, куда более горяч; чувствуя, как кипит его кровь, он испытывал стыд при виде спокойствия противника и любой ценой хотел вывести его из себя.
– Сударь, я предложил вам ни в коем случае не касаться истинной причины дуэли.
Филипп не ответил ни слова.
– Но сейчас я вам скажу истинную причину. Вы искали ссоры со мной, ведь начали ее вы. А искали вы ссоры из ревности.
Филипп безмолвствовал.
– Так какую же игру ведете вы, господин де Таверне? – продолжал Шарни, все сильней распаляясь при виде хладнокровия Филиппа. – Вы хотите, чтобы у меня устала рука? Такой расчет был бы недостоин вас. Черт вас возьми, убейте меня, если можете, но убейте, пока я способен защищаться.
Филипп покачал головой.
– Сударь, – сказал он, – я заслужил эти упреки. Я искал ссоры с вами и в этом был не прав.
– Теперь это не имеет значения, сударь. У вас в руке шпага, так воспользуйтесь ею не только для отражения ударов, а если не хотите атаковать меня, то хотя бы защищайтесь.
– Сударь, – повторил Филипп, – я вторично имею честь сказать вам, что был не прав, и сожалею об этом.
Но кровь Шарни была слишком воспламенена, чтобы он мог оценить благородство противника; слова Филиппа показались ему обидными.
– А! – воскликнул он. – Понимаю: вы хотите проявить ко мне великодушие. Я угадал, шевалье? И рассчитываете сегодня вечером или завтра рассказать кое-кому из прекрасных дам, как вызвали меня на дуэль и подарили мне жизнь.
– Граф, – отвечал Филипп, – право, мне кажется, что вы сошли с ума.
– Вы хотите убить господина Калиостро, чтобы понравиться королеве, не так ли? И чтобы еще вернее понравиться ей, вы хотите убить и меня, выставив в смешном свете?
– Сударь, вы заговариваетесь! – нахмурив брови, вскричал Филипп. – И эти ваши слова свидетельствуют, что сердце у вас не столь благородно, как я надеялся.
– Ну так пронзите это сердце! – промолвил Шарни и чуть отвел в сторону свою шпагу, как раз когда Филипп сделал выпад.
Шпага Филиппа скользнула вдоль ребер графа де Шарни, и на его рубашке тонкого полотна появилась кровавая полоса.
– Наконец-то! – радостно воскликнул Шарни. – Я ранен! Теперь, ежели я вас убью, я буду прекрасно выглядеть.
– Нет, сударь, вы решительно обезумели, – бросил Филипп. – Вы не сумеете меня убить, и положение ваше будет самое ничтожное, поскольку рану вы получили без всякого повода и без всякой пользы для себя: никто же не будет знать, почему мы дрались.
Шарни нанес укол, столь стремительный, что на сей раз Филипп едва успел парировать, но, парируя, он сильным ударом выбил у противника шпагу, которая отлетела шагов на десять в сторону.
Таверне тут же кинулся к ней, наступил каблуком, сломал и обратился к Шарни:
– Господин де Шарни, вам не было нужды доказывать мне свою храбрость. Выходит, вы ненавидите меня, коль с таким ожесточением дрались со мной?
Шарни не ответил, лицо его покрылось бледностью. Филипп несколько секунд смотрел на него, ожидая, что молодой человек подтвердит или опровергнет его слова.
– Ну что ж, граф, – не дождавшись, промолвил он, – жребий брошен: мы с вами враги.
Шарни пошатнулся. Филипп бросился поддержать его, но граф оттолкнул его руку.
– Благодарю вас, – сказал он я надеюсь сам дойти до кареты.
– Возьмите хотя бы платок, чтобы остановить кровь.
– Охотно, – согласился Шарни и взял платок.
– И вот вам моя рука, сударь. Вы нетвердо держитесь на ногах и при малейшем встречном препятствии можете упасть, а падение лишь причинит вам лишние страдания.
– Шпага задела только мышцы, – отвечал Шарни. Я не чувствую боли в груди.
– Тем лучше, сударь.
– И надеюсь вскоре выздороветь.
– Еще раз повторяю, тем лучше. Но ежели вы торопитесь выздороветь, чтобы вновь сразиться со мной, то спешу вас предупредить, что вам будет весьма трудно найти во мне противника.
Шарни хотел ответить, но слова замерли на его устах; он пошатнулся, и Филипп едва успел подхватить его.
После этого Филипп взял Шарни, словно ребенка, на руки и, почти бесчувственного, понес к карете.
Правда, Дофен, видевший сквозь деревья все, что происходило, поехал навстречу и тем самым сократил Филиппу путь.
Шарни посадили в карету, и он кивком поблагодарил Филиппа.
– Езжайте шагом, – приказал Филипп кучеру.
– А как же вы, сударь? – пробормотал раненый.
– О, за меня не беспокойтесь.
И Филипп, поклонившись, захлопнул дверцу кареты. Филипп следил, как карета медленно удаляется, и, когда она исчезла за поворотом аллеи, пошел самой короткой дорогой в Париж.
В последний раз обернувшись и обнаружив, что карета направляется не в Париж, куда шел он, а свернула в сторону Версаля и скрылась за деревьями, он погрузился в задумчивость, а потом пробормотал три слова – три слова, исторгнутые из самой глубины сердца:
– Она пожалеет его!
Возле караульной Филипп увидел наемную карету и вскочил в нее.
– Улица Нев-Сен-Жиль, и побыстрей! – приказал он вознице.
Вида человека, который только что дрался на дуэли и выглядел победителем, человека мощного сложения, манеры которого свидетельствовали, что он дворянин, человека, одетого, как горожанин, но чья осанка выдавала в нем военного, так вот, повторим, этого вида оказалось более чем достаточно, чтобы подстрекнуть храбреца на облучке, чей кнут, пусть даже он и не был, подобно трезубцу Нептуна, скипетром, свидетельствующим о власти над всем миром, для Филиппа был крайне важным символом.
Автомедон, нанятый за двадцать четыре су, пожирал пространство и вскоре привез Филиппа на улицу Нев-Сен-Жиль к дому графа Калиостро.
В сравнении с блистательными, но легкомысленными безделушками, построенными по ренессансным образцам в царствование Людовика XIII, особняк этот, как и большинство зданий, возведенных при Людовике XIV, отличался внешней простотой и величественностью линий.
В просторном парадном дворе покачивалась на мягких рессорах поместительная карета, запряженная парой прекрасных лошадей.
Кучер в широкой накидке, подбитой лисьим мехом, дремал на облучке; на крыльце молча прохаживались два лакея, у одного из которых на поясе висел охотничий кинжал. Кроме этой троицы, никаких признаков, что дом обитаем, не было.
Возница фиакра, получив от Филиппа приказ въехать во двор, окликнул, как это сделал бы любой возница фиакра, швейцара, и тот немедленно открыл скрипучие массивные ворота.
Филипп спрыгнул на землю, почти бегом взлетел на крыльцо и бросил, обращаясь одновременно к обоим лакеям:
– Граф Калиостро?
– Его сиятельство собирается выезжать, – ответил один из них.
– Тогда тем паче мне нужно поторопиться, – ответил Филипп. – Прежде чем он уедет, я должен поговорить с ним. Доложите о шевалье Филиппе де Таверне.
И Филипп с такой поспешностью последовал за лакеем, что вошел в гостиную одновременно с ним.
– Шевалье Филипп де Таверне? – повторил после доклада лакея голос, звучащий одновременно и мужественно и мелодично. – Просите.
Филипп вошел, испытывая странное чувство, возникшее в нем под воздействием этого безмятежно-спокойного голоса.
– Прошу извинить меня, сударь, – произнес он, кланяясь высокому, крепкому человеку с необычно свежим цветом лица, который был тем самым нашим героем, коего мы в свое время видели за столом у герцога де Ришелье, у Месмера, в комнате м-ль Оливы и на балу в Опере.
– Извинить вас, сударь? Но за что? – спросил он.
– За то, что я не даю вам уехать.
– Вам следовало бы извиняться, шевалье, лишь за то, что вы задержались.
– То есть как? – сдвинул брови Филипп. – Вы меня ждали? Как это понимать?
– Да, я был предупрежден о вашем визите.
– Были предупреждены о моем визите?
– Ну, разумеется, уже почти два часа назад. Ведь почти два часа назад вы решили приехать сюда, и только некое происшествие, не зависящее от вашего желания, вынудило вас задержаться с исполнением своего намерения. Я не ошибся?
Филипп стиснул кулаки; он чувствовал: этот человек оказывает на него странное воздействие.
Но тот, как бы совершенно не замечая нервного движения Филиппа, предложил:
– Прошу вас, господин де Таверне, садитесь.
И он подвинул к Филиппу кресло, стоящее у камина.
– Это кресло было поставлено здесь для вас, – сообщил он.
– Довольно шуток, граф, – произнес Филипп, но, хоть он и старался, чтобы голос его звучал так же спокойно, как голос хозяина, тем не менее в нем ощущалась легкая дрожь.
– Я вовсе не шучу, сударь. Уверяю вас, я вас ждал.
– Тогда, сударь, довольно шарлатанства. Пусть вы прорицатель, но я сюда пришел не для проверки ваших пророческих способностей. И если вы прорицатель, то тем лучше для вас, так как вам должно быть уже известно, что я хочу вам сказать, и вы заранее могли поберечься.
– Поберечься… – повторил граф со странной улыбкой. – А, прошу прощения, от чего поберечься?
– Угадайте, раз уж вы прорицатель.
– Ладно. Чтобы доставить вам удовольствие, так и быть, избавлю вас от труда объяснить мне причину вашего визита. Вы пришли искать со мной ссоры.
– Вам это известно?
– Разумеется.
– В таком случае, может быть, вам известно, из-за чего? – поинтересовался Филипп.
– Из-за королевы. А теперь, сударь, ваш черед. Продолжайте, я вас слушаю.
Эти последние слова были произнесены уже не голосом любезного хозяина, но холодным и сухим тоном противника.
– Вы правы, сударь, – согласился Филипп, – так будет лучше.
– Ну что ж, мы договорились к обоюдному удовлетворению.
– Сударь, существует некий памфлет…
– Памфлетов много, сударь.
– Изданный неким газетчиком…
– Газетчиков тоже много.
– Погодите. Этот памфлет… Газетчиком мы займемся несколько позже.
– Позвольте вам напомнить, сударь, – с улыбкой прервал его Калиостро, – что вы уже успели заняться газетчиком.
– Ну, хорошо. Так вот, имеется некий памфлет, направленный против королевы.
Калиостро кивнул.
– Вы знаете этот памфлет?
– Да, сударь.
– И вы даже приобрели тысячу экземпляров этого пафлета.
– Не отрицаю, сударь.
– Но эта тысяча экземпляров, по счастью, не попала в ваши руки?
– И что же, сударь, позволяет вам сделать такой вывод? – полюбопытствовал Калиостро.
– А то, что я встретил рассыльного, который волок газеты, заплатил ему за них и велел нести ко мне, где их должен принять мой слуга, которого я заранее оповестил об этом.
– А не лучше ли было бы вам самому довести это дело до конца?
– Что вы хотите сказать?
– Я хочу сказать, что тогда бы оно было доведено до конца.
– Я потому не сам довел дело до конца, что, пока мой слуга избавлял вас от той тысячи экземпляров, которые вы купили, следуя весьма своеобразной библиофильской страсти, я уничтожил остаток тиража.
– Значит, вы уверены, что предназначавшаяся мне тысяча газет находится у вас?
– Совершенно уверен.
– Вы ошибаетесь, сударь.
– То есть как? – спросил Таверне, хотя у него сжалось сердце. – Почему бы им не быть у меня?
– Да потому, что они здесь, – безмятежно сообщил граф, прислонясь спиной к камину.
Филипп сделал угрожающее движение.
– Неужто выдумаете, – поинтересовался граф голосом, столь же беспристрастным, как у Нестора[83], – что я, Прорицатель, как вы меня назвали, позволю себя так обвести? Итак, вам пришла идея перекупить рассыльного? Превосходно! А у меня есть управляющий, и ему тоже пришла одна идея Я за это ему и плачу. Так вот, он предвидел – это же вполне естественно, что управляющий прорицателя способен предвидеть, – предвидел, что вы явитесь к газетчику, увидите там рассыльного, подкупите его; поэтому он последовал за рассыльным, угрозами заставил вернуть полученное от вас золото; бедняга перепугался и, вместо того чтобы продолжить путь к вашему дому, пошел вместе с моим управляющим сюда. Вы не верите?
– Не верю.
– Иисус сказал апостолу Фоме: «Vide pedes, vide manus»[84]. Я же вам скажу: «Загляните в шкаф, потрогайте газеты».
С этими словами граф открыл дубовый шкаф, украшенный чудесной резьбой, и указал побледневшему шевалье на лежавшую в центральном отделении кипу газет, от которых еще исходил характерный кислый запах влажной бумаги.
Филипп подошел к Калиостро, но тот и глазом не повел, хотя вид у шевалье был более чем угрожающий.
– Сударь, – обратился к нему Филипп, – вы мне кажетесь смелым человеком, поэтому я требую, чтобы вы дали мне удовлетворение со шпагой в руках.
– За что удовлетворение? – осведомился Калиостро.
– За оскорбление, нанесенное королеве, оскорбление, соучастником которого вы стали бы, даже если бы купили всего один экземпляр этого пасквиля.
– Сударь – не меняя позы, отвечал Калиостро, – вы, право же, заблуждаетесь, и это меня огорчает. Я – любитель новостей, скандальных историй, всевозможных листков. Я собираю их, чтобы потом вспоминать, потому что без этой предосторожности я позабыл бы их. Да, я купил эту газету, но почему вы считаете, что, купив ее, я кого-то оскорбил?
– Вы оскорбили меня!
– Вас?
– Да, меня! Вы поняли?
– Нет, честное слово, не понял.
– Тогда позвольте вас спросить, чем вы объясните столь упорное стремление к приобретению подобной гнусности?
– Я уже вам сказал – страстью к собирательству.
– Человек чести, сударь, не собирает гнусности.
– Извините меня, сударь, но я не соглашусь с вашим определением этой брошюры. Возможно, это памфлет, но никак не гнусность.
– Но вы хотя бы признаете, что это ложь?
– Вы, сударь, снова заблуждаетесь: ее величество была у Месмера.
– Неправда!
– Вы хотите сказать, что я солгал?
– Не только хочу, но уже сказал.
– Ну что ж, пусть будет так. На это я отвечу только одним: я ее видел там.
– Вы ее там видели?
– Так же, как вас, сударь.
Филипп взглянул в лицо Калиостро. Его открытый, честный, благородный взор встретился с горящими глазами графа, но подобное единоборство скоро утомило Филиппа, и он отвел глаза, воскликнув:
– Пусть так, и тем не менее я утверждаю, что вы лжете!
Калиостро только пожал плечами, реагируя на его оскорбление, как на оскорбление сумасшедшего.
– Вы что же, не слышали меня? – сдавленным голосом спросил Филипп.
– Напротив, сударь, я не упустил ни единого вашего слова.
– Выходит, вы не знаете, как отвечают на обвинение во лжи?
– Что вы, сударь, – промолвил Калиостро. – Есть даже французская поговорка, которая гласит, что на обвинение во лжи отвечают пощечиной.
– Вот как? Но меня удивляет одно.
– Что же?
– То, что я не заметил, чтобы ваша рука потянулась к моей щеке. А ведь вы дворянин и знаете французскую поговорку.
– Господь, прежде чем сделать меня дворянином и научить французской поговорке, сотворил меня человеком и внушил мне любить своего ближнего.
– Итак, сударь, вы отказываете мне в удовлетворении со шпагой в руке?
– Я плачу только то, что должен.
– Но тогда, может быть, вы дадите мне удовлетворение другим способом?
– Как?
– Я не стану обращаться с вами хуже, чем благородный человек должен обращаться с любым другим человеком, я лишь потребую, чтобы вы при мне сожгли все лежащие в шкафу газеты.
– А я откажу вам.
– Подумайте.
– Тут и думать нечего.
– Вы принуждаете меня обратиться к тому методу, который я использовал с газетчиком.
– То есть поколотите меня тростью? – рассмеялся Калиостро, но с места не стронулся.
– Вот именно, сударь. Ах, да, вы же позовете своих людей?
– Полноте! К чему мне звать лакеев? Это не имеет к ним касательства: я со своими делами управляюсь сам. Имейте в виду, я сильней вас. Не верите? Уверяю вас. Так что теперь ваш черед подумать. Вы пойдете на меня с тростью? Я схвачу вас за горло и за талию и отшвырну шагов на десять, и так будет столько раз, сколько раз вы нападете на меня.
– Забава английских лордов, иначе говоря, забава грузчиков. Что ж, господин Геркулес, я принимаю ваш вызов.
Филипп, обезумев от ярости, бросился на Калиостро, но тот руками, твердыми, как железо, в один миг схватил его за горло и за поясницу и бросил на кучу подушек, лежавших на софе в углу гостиной.
Совершив этот чудовищный бросок, граф вернулся к камину и встал в той же позе, словно ничего не произошло.
Бледный, кипящий гневом, Филипп вскочил, но в ту же секунду холодный здравый смысл принудил его взять себя в руки и успокоиться.
Приняв гордый вид, он поправил кафтан, манжеты и угрожающим тоном обратился к Калиостро:
– У вас, сударь, и впрямь силы на четверых, но логика ваша не столь сильна, как рука. Посмев обращаться со мной таким образом, вы, очевидно, забыли, что, побежденный, униженный, я становлюсь вашим заклятым врагом и приобретаю право бросить вам: «Граф, возьмите шпагу, или я вас убью!»
Калиостро и бровью не повел.
– Повторяю, возьмите шпагу, или я вас прикончу, – не отступался Филипп.
– Вы даже приблизиться ко мне не успеете, сударь, как я сделаю с вами то же, что и в первый раз, – ответил граф. – Я не дам вам ранить себя, а уж тем паче убить, как Жильбер.
– Жильбер! – вздрогнув, воскликнул Филипп. – Почему вы произнесли это имя?
– К счастью, сейчас у вас нет ружья, а только шпага.
– Сударь, – обратился к графу Филипп, – вы секунду назад произнесли имя…
– Которое отозвалось страшным эхом в вашей памяти?
– Сударь!
– Имя, которое вы надеялись больше никогда не услышать? Ведь когда вы убили бедного мальчика, вы были с ним одни в той пещере на Азорских островах, не так ли?
– Защищайтесь! – вскричал Филипп. – Защищайтесь!
– Если бы вы только знали, – промолвил Калиостро, – как мне легко было бы уложить вас здесь, действуя шпагой.
– Шпагой? Своей шпагой?
– Да, шпагой, если бы я только пожелал.
– Так попробуйте же! Попробуйте!
– Нет, не буду даже пробовать: у меня есть более верное средство.
– Говорю в последний раз, возьмите шпагу или я вас прикончу! – взревел Филипп, бросаясь на графа.
Шпага шевалье находилась самое большее на расстоянии трех дюймов от груди Калиостро, когда тот вынул из кармана флакончик, откупорил его и плеснул содержимое в лицо Филиппу.
Едва жидкость попала на лицо шевалье, как тот покачнулся, выпустил шпагу, повернулся кругом и рухнул на колени, словно ноги уже не держали его; на несколько секунд он полностью утратил сознание.
Калиостро подхватил Филиппа, не дал ему упасть навзничь, сунул шпагу в ножны, посадил молодого человека в кресло и подождал, пока тот не пришел в себя.
– Шевалье, вы уже не в том возрасте, чтобы совершать такие безрассудства, – обратился к нему Калиостро. – Прекратите безумствовать, словно мальчишка, и выслушайте меня.
Филипп встряхнул головой, выпрямился, справился с ужасом, затопившим его мозг, и пролепетал:
– Ах, сударь, сударь, неужто это вы и называете оружием дворянина?
Калиостро пожал плечами.
– Вы все время твердите одно и то же слово, – заметил он. – Когда мы, люди благородного происхождения, открываем рот, чтобы произнести словцо «дворянин», создается впечатление, будто этим сказано все. Что вы называете оружием дворянина? Шпагу, которую вы так неудачно пустили в ход против меня? Или ружье, которым вы куда успешнее воспользовались против Жильбера? Что делает человека выдающимся, шевалье? Вы полагаете, это звонкое слово «дворянин»? Нет. Во-первых, ум, во-вторых, сила и, наконец, знание. И вот результат: все это я употребил против вас: благодаря уму я пренебрег вашими оскорблениями, веря, что заставлю вас выслушать меня; благодаря силе противостоял вашей силе; благодаря знанию одним махом погасил ваши физические и духовные силы. Теперь мне остается доказать, что вы совершили две ошибки, придя сюда с угрозами на устах. Вы окажете мне честь выслушать меня?
– Вы усмирили меня, – отвечал Филипп, я не в силах двинуться, вы стали хозяином моих мускулов и мозга и теперь еще спрашиваете, согласен ли я вас выслушать, хотя ничего другого мне не остается.
Калиостро взял с камина золотой флакончик, который держал бронзовый Эскулап.
– Понюхайте, шевалье, – предложил он с благородной заботливостью.
Филипп послушался; туман, омрачавший мозг его, рассеялся, и ему показалось, будто солнце опустилось к нему в голову и осветило все мысли.
– Ох, я воскрес, – выдохнул он.
– Вы чувствуете себя прекрасно, то есть свободным и сильным?
– Да.
– И вы понимаете все, что произошло?
– Да.
– Поскольку я имею дело с храбрым и, кроме того, умным человеком, смею считать, что вернувшаяся к вам память дает мне все преимущества в том, что произошло между нами.
– Нет, – отрезал Филипп, – потому что я действовал во имя священного принципа.
– Какого же?
– Я защищал монархию.
– Вы, вы защищали монархию?
– Да.
– Вы, человек, отправившийся в Америку, чтобы защитить республику? Бог мой! Либо вы там защищали не республику, либо здесь защищаете не монархию.
Филипп опустил глаза, судорожное рыдание чуть не разорвало ему сердце.
– Любите, – продолжал Калиостро, – тех, кто вами пренебрегает, любите тех, кто вас забывает, любите тех, кто вас обманывает. Великим душам привычно, что их предают в самых их сильных чувствах. Но такова заповедь Иисуса – воздавать добром за зло. Господин де Таверне, вы христианин?
– Сударь, ни слова больше! – воскликнул со страхом Филипп, видя, что Калиостро равно хорошо читает и в прошлом и в настоящем. – Да, я защищал не принцип королевской власти, а королеву, то есть женщину, достойную уважения, невиновную, и тем более заслуживающую защиты, если она виновна, ибо Господень закон велит защищать слабых.
– Слабых! Вы называете слабой королеву? Ту, перед которой двадцать восемь миллионов живых, мыслящих существ преклоняют колени и склоняют головы? Ну и ну!
– Сударь, ее оклеветали.
– Откуда вы это знаете?
– Я хочу верить в это.
– Вы думаете, что имеете на это право?
– Несомненно.
– Ну что ж. А я имею право верить в противное.
– Вы действуете, словно злой гений.
– С чего вы взяли? – вскричал Калиостро. Глаза его неожиданно вспыхнули и осветили лицо Филиппа. – Откуда в вас эта дерзость считать, что вы правы, а я нет? Откуда отвага ставить свои принципы выше моих? Вы защищаете монархию. А что, если я защищаю человечество? Вы говорите: «Отдайте кесарю кесарево», а я говорю: «Отдайте Богу Богово». Республиканец из Америки, кавалер ордена Цинцинната[85], я призываю вас возлюбить людей, возлюбить равенство. Выступаете по людям, чтобы целовать ручки королевам, а я собираю толпы у подножия тронов королей чтобы возвысить до их уровня народы. Я не мешаю вам поклоняться, не мешайте же и вы моим трудам. Я оставляю вам сияние солнца на небе и при дворе, оставьте мне сумерки и уединение. Надеюсь, вам понятна сила моих слов, как совсем недавно вам стала ясна сила моей личности? Вы объявите мне: «Умри, ибо ты покушаешься на предмет моего поклонения». Я же скажу вам: «Живи, хоть ты и борешься с тем, перед чем я преклоняюсь». И если я говорю так, то это значит: мои принципы настолько сильны, что ни вы, ни ваши единомышленники, какие бы усилия вы ни прилагали, не задержите моего продвижения вперед ни на единый миг.
– Сударь, вы ужасаете меня, – промолвил Филипп. – Благодаря вам, я, вероятно, первый в этой стране заглянул в бездну, куда катится монархия.
– В таком случае, коль вы видели пропасть, будьте осторожны.
– И все-таки вам, предупредившему меня, – откликнулся Филипп, тронутый отеческим тоном, каким говорил с ним Калиостро, – открывшему мне столь ужасные тайны, недостает великодушия, так как вы прекрасно знаете, что я брошусь в пропасть, прежде чем увижу падение тех, кого защищаю.
– Что ж, господин Таверне, я вас предупредил и теперь, как прокуратор Тиберия, умываю руки[86].
– А я, – вскричал Филипп, с лихорадочным пылом устремляясь к Калиостро, – поскольку я – человек слабый, уступающий вам во всем, использую оружие слабых; я приступлю к вам со слезами на глазах и, простерев руки, дрожащим голосом стану молить хотя бы на этот раз смилостивиться над теми, кого вы преследуете. Я буду просить вас сделать это ради меня, понимаете, ради меня, который, не знаю почему, не может воспринимать вас как врага; я трону вас, сумею убедить, добьюсь, что вы не захотите, чтобы я испытывал угрызения совести, видя гибель королевы и не сумев отвратить ее. И я, сударь, добьюсь – не правда ли, поклянусь в том всем моим счастьем, роковой любовью, о которой вам известно, – этой вот шпагой, оказавшейся бессильной против вас, сумею пронзить свое сердце у ваших ног.
– Ах, – прошептал Калиостро, глядя на Филиппа глазами, в которых читалась мука, – если бы все они были такими, как вы, я был бы с ними, и они не проиграли бы.
– Сударь, заклинаю вас, ответьте на мою просьбу, – умолял Филипп.
– Сосчитайте, – после недолгого молчания произнес Калиостро, – вся ли тысяча экземпляров здесь, и сами сожгите их до последнего.
Филипп почувствовал, что сердце выскакивает у него из груди. Он кинулся к шкафу, вытащил газеты, швырнул их в огонь и, порывисто пожав руку Калиостро, воскликнул:
– Прощайте, сударь, прощайте! Тысячекратно благодарю вас за то, что вы сделали для меня.
И он ушел.
– Но должен же я был возместить брату все то, что претерпела из-за меня сестра, – пробормотал граф, глядя на уходящего Филиппа, потом пожал плечами и крикнул:
– Лошадей!
11. Единственная голова в семействе Таверне
Пока на улице Нев-Сен-Жиль происходили эти события, г-н де Таверне-отец прогуливался у себя в саду, сопровождаемый двумя лакеями, которые катили кресло на колесах.
В Версале в ту эпоху были, а может быть, существуют и теперь старые особняки с французскими садами, которые по причине рабского следования вкусам и склонностям короля напоминали Версаль Ленотра и Мансара[87], но только в миниатюре.
Многие придворные (г-н де ла Фейад[88] послужил тут образцом) построили у себя уменьшенные копии подземной оранжереи, Швейцарского пруда, купальни Аполлона.
В них был и парадный двор, и оба Трианона, но все в масштабе одна двадцатая: любой пруд там имел размеры лужи.
Г-н де Таверне тоже завел подобное, после того как его величество Людовик XV выказал предпочтение Трианону. В Версальской резиденции Таверне тоже были свой Большой и Малый Трианон, сады, цветники. А когда у его величества Людовика XIV появились слесарные мастерские и токарные станки, г-н де Таверне обзавелся кузницей и металлической стружкой. Затем Мария Антуанетта спланировала английский парк, искусственную реку, луга и хижины, а у г-на де Таверне в углу сада появился крохотный Трианон для кукол и речка для игрушечных лодок.
Однако в тот момент, о котором мы рассказываем, г-н де Таверне наслаждался солнцем в единственной аллее, оставшейся от великого века Людовика XIV; аллея была обсажена липами с корой, испещренной красноватой сетью, похожей на извлеченную из огня проволоку. Г-н де Таверне, спрятав руки в муфту, семенил мелкими шажками, и каждые пять минут лакеи подкатывали ему кресло, чтобы он после моциона мог отдохнуть.
И вот он наслаждался отдыхом, щурясь на солнце, как вдруг из дому прибежал привратник, крича:
– Господин шевалье!
– Мой сын! – с горделивой радостью воскликнул старик.
Обернувшись и увидев Филиппа, следовавшего за привратником, он произнес:
– Дорогой шевалье, – жестом отпустил лакеев и вновь обратился к сыну: – Подойди, Филипп, подойди. Ты приехал очень кстати: у меня в голове роятся ослепительные идеи. Бог мой, какое у тебя лицо… Ты, никак, недоволен?
– Нет, сударь, нет.
– Ты уже знаешь, чем кончилось дело?
– Какое дело?
Старик оглянулся, словно проверяя, не подслушивает ли кто.
– Можете спокойно говорить, сударь, никто не слушает, – сообщил шевалье.
– Я имею в виду бал.
– Совершенно ничего не понимаю.
– Бал в Опере.
Филипп покраснел, и это не укрылось от хитрого старика.
– Ты действуешь опрометчиво, как неопытный моряк, – заметил Таверне-отец. – При благоприятном ветре он ставит все паруса. Присядь-ка на скамью и послушай, что я тебе скажу, это пойдет тебе только на пользу.
– Сударь, но в конце концов…
– В конце концов, ты ведешь себя неразумно, слишком прямо идешь к цели. Раньше ты был такой робкий, деликатный, сдержанный, а сейчас ты компрометируешь ее.
Филипп встал.
– Сударь, о ком вы говорите?
– Черт побери, да о ней!
– О ком – о ней?
– А, так ты думаешь, мне неизвестно про вашу шалость на балу в Опере? Это прелестно!
– Сударь, я вас уверяю…
– Ладно, не сердись. Я же говорю только для твоей пользы. Да, черт возьми, ты неосторожен, и тебя накроют. В этот раз тебя видели с нею на балу, в следующий раз увидят где-нибудь в другом месте.
– Меня видели?
– Помилуй Бог! Разве не ты был в голубом домино?
Филипп хотел крикнуть, что это ошибка, ни в каком голубом домино он не был, на балу тоже не был и даже не представляет себе, про какой бал говорит ему отец; однако некоторым людям противно оправдываться в деликатных ситуациях; в таких случаях энергично оправдывается только тот, кто уверен, что он любим, и оправданиями своими он играет на руку уличающему его другу.
«Стоит ли вступать в объяснения с отцом? – подумал Филипп. – К тому же я хочу узнать, в чем дело».
Поэтому он опустил голову, словно признаваясь.
– Ну, вот видишь! – обрадовался старик. – Тебя узнали, я был уверен, что это ты. И то сказать, господин де Ришелье – он очень тебя любит, – несмотря на свои восемьдесят четыре года, был на балу и стал прикидывать, кто бы это мог быть тем голубым домино, которому королева подала руку, и пришел к выводу, что подозрение падает только на тебя, потому что всех остальных он там видел, а ты ведь сам понимаешь, господин маршал знает всех и каждого.
– Хорошо, я согласен, что меня заподозрили, – ледяным тоном заметил Филипп, – но меня поражает, как узнали королеву.
– Узнать ее было не так уж трудно, потому что она сняла маску. Это и представить себе невозможно! Какая смелость! Надо полагать, эта женщина без ума от тебя.
Филипп залился краской. Продолжать этот разговор было уже свыше его сил.
– Ну, а если это не смелость, – продолжал старший Таверне, – то тогда это более чем огорчительная случайность. Будь осторожен, шевалье, у тебя много завистников, причем завистников, которых нужно опасаться. Положение фаворита королевы, когда королева является на деле королем, завидно для многих.
Таверне-отец остановился и неторопливо заправил табаком сперва одну, потом вторую ноздрю.
– Шевалье, надеюсь, ты простишь мне, что я читаю тебе наставления? Право же, дорогой мой, прости. Я тебе крайне признателен и хотел бы сделать все, чтобы какая-нибудь случайность, а от случайности здесь много зависит, не разрушила здание, которое ты так умело возвел.
Филипп, сжав кулаки, вскочил, на лбу у него выступил пот. С наслаждением, сравнимым разве что с тем, какое испытываешь, когда раздавишь змею, он намеревался оборвать этот разговор, но его удержало странное чувство, в котором смешалось и мучительное любопытство, и яростное желание наверняка узнать про свое несчастье, одним словом, тот беспощадный шип, что терзает сердце, исполненное любви.
– Итак, я тебе сказал, что нам завидуют, – продолжил старик, – и это совершенно естественно. А мы еще не достигли вершины, на которую ты нас старательно возносишь. Дело твоей чести добиться, чтобы имя Таверне взметнулось выше его скромных истоков. Только будь осторожен, не то ничего не получится и все наши планы зачахнут на корню. А это, право, было бы жаль, у нас пока все идет как нельзя лучше.
Филипп отвернулся, чтобы не было видно выражения глубочайшего отвращения, безмерного презрения, написанного на его лице, выражения, которое бы удивило, а то и напугало старика.
– Через некоторое время ты попросишь себе какую-нибудь высокую должность, – все больше воодушевлялся старец. – Мне же добьешься королевского наместничества где-нибудь неподалеку от Парижа, затем, чтобы имение Таверне-Мезон-Руж было возведено в ранг пэрства, намекнешь обо мне при первом же посвящении в кавалеры ордена Святого Духа. Сам же ты сможешь стать герцогом, пэром и генерал-лейтенантом. Через два года, если я буду жив, ты велишь, чтобы мне пожаловали…
– Довольно! Довольно! – пробормотал Филипп.
– Если тебе этого достаточно, то мне нет. У тебя вся жизнь впереди, а у меня, дай Бог, несколько месяцев. Так пусть же эти несколько месяцев вознаградят меня за всю унылую и заурядную жизнь. Впрочем, у меня нет причин жаловаться. Господь даровал мне двоих детей. Это много для человека, не имеющего состояния. Но если дочь оказалась совершенно бесполезной для нашего рода, ты возместишь все. Ты – строитель Храма. Я вижу в тебе великого Таверне, героя. Ты вызываешь у меня почтение, а это, поверь, немало. То, как ты ведешь себя с придворными, поистине достойно восхищения. Право же, ничего более ловкого я не видел.
– То есть? – осведомился Филипп, весьма обеспокоенный, что может чем-то снискать одобрение этого человека без чести и совести.
– Твоя линия поведения просто великолепна. Ты не проявляешь ревности. Внешне оставляешь поприще открытым для любого, а на самом деле держишь все в руках. Это очень разумно, но вызывает и некоторые возражения.
– Я вас не понял, – бросил Филипп, чувствуя все большее и большее раздражение.
– Не скромничай. Видишь ли, ты точь-в-точь следуешь системе господина Потемкина, поражавшего весь мир своим богатством. Он видел, что Екатерина склонна к недолговечным любовным увлечениям, и понял, что, если предоставить ей свободу, она будет порхать с цветка на цветок, но вновь возвращаться к самому плодоносному и прекрасному, а если докучать ей, она улетит вне его досягаемости.
И он сделал выбор. Наилучшим выходом он счел поставлять императрице новых фаворитов, и она оценила это; подчеркивая какое-нибудь одно из их качеств, он искусно скрывал их уязвимые стороны, способствовал скоропреходящим амурам государыни, не позволяя ей стать равнодушной к его достоинствам. И, подготавливая царствования быстро меняющихся фаворитов, которых насмешливо именовали двенадцатью цезарями, свое царствование Потемкин сделал вечным и нерушимым.
– Вот уж совершенно непостижимая гнусность, – пробормотал бедняга Филипп, озадаченно глядя на отца.
А тот невозмутимо продолжал свои рассуждения.
– Но, следуя системе Потемкина, ты совершишь небольшую ошибку. Он никогда ничего не выпускал из-под надзора, а ты ослабляешь его. Уж я-то знаю, французская политика – это тебе не русская политика.
На эти слова, произнесенные с преувеличенной важностью, которая потрясла бы наиопытнейших дипломатов, Филипп, решивший, что отец бредит, ответил непочтительным пожатием плеч.
– Да, да, – упорствовал старик. – Ты, наверно, считаешь, что я не разгадал тебя? Ну, так увидишь.
– Ну-ну, сударь.
Таверне скрестил на груди руки.
– Ты, конечно, скажешь, – продолжал он, – что вовсе не обхаживаешь своего преемника?
– Своего преемника? – побледнев, переспросил Филипп.
– Ты мне станешь толковать, что не знаешь, насколько королева постоянна в своих любовных склонностях, хотя она совершенно в твоей власти, и что в предвидении перемены своей судьбы ты не желаешь, чтобы тебя принесли в жертву и удалили, как обыкновенно и поступает королева, потому что она неспособна любить настоящее и тосковать по прошлому.
– Барон, вы говорите какими-то загадками!
Старик расхохотался, и Филипп вздрогнул, услышав этот пронзительный, зловещий смех, показавшийся ему голосом злого гения.
– Уж не намерен ли ты уверять меня, что не обхаживаешь в соответствии со своей тактикой господина де Шарни?
Шарни?
– Ну да, твоего будущего преемника. Человека, который сможет, когда дорвется к власти, отправить тебя в ссылку, точь-в-точь как ты можешь отправить в ссылку господ де Куаньи, де Водрейля и прочих.
Кровь бросилась в голову Филиппу.
– Хватит! – снова крикнул он. – Хватит, сударь! Ей-богу, мне стыдно, что я столь долго слушаю вас. Всякий, кто говорит о королеве Франции так, словно она Мессалина[89], – преступный клеветник!
– Молодец! Просто молодец! – воскликнул барон. – Ты действуешь правильно, такова твоя роль. Но уверяю тебя, здесь нас никто не может услышать.
– О Господи!
– Ну, а что касается Шарни, ты же видишь, я разгадал тебя. Как бы ни был хитер твой план, но провидеть – это в крови у Таверне. Продолжай в том же духе, Филипп. Льсти, обласкивай, улещивай этого Шарни, помоги ему мягко и без ожесточения перейти из положения травки на положение цветочка, и будь уверен, он – дворянин и, когда будет в фаворе, оплатит тебе за все, что ты сделаешь для него.
Высказавшись, г-н де Таверне, страшно гордый проявленной проницательностью, сделал этакий своенравный прыжочек, словно юноша, причем юноша, безмерно счастливый.
Филипп в ярости схватил его за рукав и притянул к себе.
– Ну, раз так, сударь, – бросил он, – то послушайте: логика ваша превосходна.
– Значит, я правильно догадался, а ты на меня за это злишься? Уж прости меня хотя бы за то, что я тебя предупредил. Впрочем, де Шарни мне нравится, и я очень рад, что ты так повел себя с ним.
– Ваш господин де Шарни сейчас и вправду настолько мой баловень и любимец и я до такой степени его обхаживаю, что совсем недавно воткнул ему между ребрами пол фута вот этого лезвия.
И Филипп показал на шпагу.
– Что? – воскликнул г-н де Таверне, испуганный пылающим взглядом сына и известием о его воинственной выходке. – Уж не хочешь ли ты сказать, что дрался с господином де Шарни?
– Да. И я его обласкал.
– Великий Боже!
– Таков мой метод холить, обласкивать и улещивать своих преемников, – добавил Филипп. – Ну, а теперь, когда вам все известно, сопрягите свою теорию с моей практикой.
И он резко повернулся, намереваясь уйти. Однако старик ухватил его за руку.
– Филипп! Филипп! Скажи, что ты пошутил.
– Если вам угодно, можете назвать это шуткой, но тем не менее это правда.
Старик поднял глаза к небу, пробормотал несколько несвязных слов и вдруг, бросив сына, потрусил к передней.
– Быстро! Немедленно! – кричал он. – Послать верхового к господину де Шарни! Он ранен, так пусть осведомятся, как он себя чувствует. Да, и главное, не забыть ему сказать, что это я прислал справиться!
Отдав приказ, г-н де Таверне возвратился в сад, бурча:
– Экий злодей этот Филипп! Ни дать ни взять, его сестра! А я-то уж думал, он переменился к лучшему. Нет, в этом семействе одна-единственная голова – это я.
12. Четверостишие графа Прованского
Когда в Париже и Версале происходили все эти события, король, успокоившийся после того, как он узнал о победе своего флота и отступлении зимы, пребывал у себя в кабинете среди атласов, карт обоих полушарий и небольших чертежей всевозможных механических устройств, размышляя, какие новые курсы прочертить в морях для кораблей Лаперуза.
Легкий стук в дверь оторвал его от размышлений, разогретых плотной закуской, которой он недавно отдал должное.
Почти одновременно раздался голос:
– Брат, вы позволите войти?
– Граф Прованский! Вот ведь черт принес! – проворчал король, откладывая астрономический атлас, раскрытый на самых больших изображениях созвездий, и бросил:
– Войдите!
Слишком почтительно для брата и слишком развязно для подданного вошел коротенький, толстый, краснолицый человек с живым взглядом.
– Вы не ждали меня, брат?
– По правде сказать, нет.
– Я вам помешал?
– Нет. Вы, должно быть, хотите сообщить мне какую-нибудь интересную новость?
– Нелепый и комический слух…
– А, сплетню.
– Вы совершенно угадали, брат.
– И она вас повеселила?
– Да, своей необычностью.
– Какая-нибудь пакость обо мне?
– Бог свидетель, брат, если бы это было так, я не позволил бы себе смеяться.
– Значит, о королеве.
– Представьте себе, государь, мне серьезно, да, да, самым серьезным образом, сообщили… Держу пари, ни за что не угадаете!
– Послушайте, брат, после того как мой наставник велел мне восхищаться ораторскими приемами у госпожи де Севинье[90] как образцами стиля, я перестал ими восхищаться. Так что давайте к делу.
– Хорошо, – пробормотал граф Прованский, несколько опешив от такого резкого приема. – Говорят, будто королева на днях выкинет. Как вам это нравится?
И королевский брат рассмеялся.
– Будь это правдой, это было бы крайне прискорбно, – хмуро произнес король.
– Но ведь это неправда, не так ли?
– Да, неправда.
– И неправда, что видели, как королева ждала у калитки возле прудов?
Неправда.
– В тот день, помните, когда вы приказали запереть ворота в одиннадцать?
Не помню.
– Но все равно, представьте себе, брат, ходит слух…
– Что такое слух? Где он ходит? Кто он такой?
– Глубокая мысль, брат, весьма глубокая! Действительно, что такое слух? Так вот, это неуловимое, непостижимое существо, именуемое слухом, утверждает, будто королеву видели в половине первого ночи под руку с графом д'Артуа.
– И где же?
– Они направлялись в дом графа д'Артуа, в тот, что позади конюшен. Неужто ваше величество не слышали про эту гнусность?
– Как же, слышал, брат, слышал. Об этом постарались.
– То есть как, государь?
– А разве не вы вложили свою лепту, чтобы я услышал?
– Я?
– Да, да, вы.
– Но каким же образом, государь?
– К примеру, посредством четверостишия, которое было напечатано в «Меркюр».
– Четверостишия? – переспросил граф Прованский, и лицо его еще сильней побагровело.
– Не секрет же, что вы любимец муз.
– Но не настолько…
– Чтобы сочинить четверостишие, кончающееся строчкой: «Елена не призналась Менелаю»?
– Государь!
– Не отпирайтесь. Вот оригинал четверостишия. Это же ваш почерк. В поэзии я не сведущ, зато разбираюсь в почерках.
– Государь, одно безумство влечет за собой другое.
– Уверяю вас, граф, безумство – это то, что сделали вы, и меня поражает, как мог философ совершить подобное безумство, – уж оставим за вашим четверостишием это определение.
– Вы суровы ко мне, государь.
– По вине и кара, брат. Вместо того чтобы сочинять эти стишки, вы могли бы поинтересоваться, что делала королева, как это сделал я, и тогда вместо четверостишия, направленного против нее, а следовательно против меня, вы написали бы вашей невестке мадригал. Вы скажете, что это вас не вдохновляет, но я предпочитаю скверное послание хорошей сатире. Кстати, Гораций, ваш любимый поэт, говорил то же самое.
– Государь, вы удручаете меня.
– Ну, а если вы в отличие от меня не были уведомлены о невинности королевы, – продолжал король суровым тоном, – то, право, лучше бы перечли вашего любимого Горация. Ведь это же он прекрасно сказал – прошу простить за мою латынь:
Rectus hoc est:
Hoc faciens vivam melius, sic dulcis amicis occurram[91].
To есть «Вот наилучшее: если я буду так поступать, стану приятней жить и буду приятней друзьям». Вы перевели бы это гораздо изящней, но, думаю, смысл я передал.
И, преподав такой урок, скорей по-отцовски, чем по-братски, добрый король замолчал, ожидая, что провинившийся начнет оправдываться.
Граф Прованский некоторое время молчал, обдумывая ответ, но выглядел он не то чтобы смущенным, а скорей оратором, ищущим, как бы поделикатней выразиться.
– Государь, – наконец произнес он, – при всей суровости вашего приговора у меня есть средство оправдаться и остается надежда на прощение.
– Слушаю вас, брат.
– Ведь вы обвиняете меня в том, что я заблуждаюсь, а не в том, что у меня дурные намерения?
– Разумеется.
– Но если это так, то ваше величество, признающий, что человеку свойственно заблуждаться, соблаговолит признать, что кое в чем я не заблуждаюсь.
– Брат, я вовсе не намерен отрицать ваш ум, он силен и глубок.
– Но, государь, как же мне не заблуждаться, слыша все то, что болтают вокруг? Воздух, в котором живем мы, члены царствующего дома, напоен клеветой, да мы и сами пропитаны ею насквозь. Я ведь не утверждал, что верю, я сказал, что мне говорили.
– Вы правы, так оно и есть, но…
– Четверостишие? О, поэты – своеобразные существа, и потом, не лучше ли было бы ответить снисходительной критикой, которая могла быть воспринята как предостережение, чем супить брови? Угрожающие позы в стихах не оскорбляют, это не то что памфлеты, по отношению к которым следовало бы просить ваше величество проявить строгость, памфлеты вроде того, какой я вам сейчас покажу.
– Памфлет!
– Да, государь. И я вынужден решительно настаивать на указе о заключении в Бастилию подлого автора этой гнусной пачкотни.
Король резко встал.
– Ну-ну, посмотрим, – сказал он.
– Государь, я, право, не знаю, должен ли я…
– Обязательно должны. В подобных обстоятельствах нечего церемониться. Памфлет у вас?
– Да, государь.
– Давайте его.
И граф Прованский извлек из кармана экземпляр «Истории Аттенаутны», несчастный пробный оттиск, который вопреки трости Шарни, шпаге Филиппа и камину Калиостро прорвался в свет.
Король принялся просматривать его с быстротой человека, привычного выбирать и читать самые интересные пассажи в книге или газете.
– Гнусность! – воскликнул он. – Гнусность!
– Видите, государь, там утверждается, что моя сестра была на сеансе у Месмера.
– Да, она там была.
– Была? – вскричал граф Прованский.
– С моего позволения.
– О государь!
– И вывод о ее неблагоразумии я делаю вовсе не оттого, что она была у Месмера, так как я позволил ей поехать на Вандомскую площадь.
– Ваше величество не разрешили ей приближаться к ванне и принимать участие в эксперименте…
Король топнул ногой. Граф Прованский произнес эти слова как раз в тот миг, когда Людовик XVI пробегал самый оскорбительный для Марии Антуанетты кусок, то есть рассказ о ее мнимом пароксизме, о судорогах, сладострастных стонах, одним словом, обо всем том, чем у Месмера привлекла к себе внимание м-ль Олива.
– Нет, это невозможно, невозможно, – побледнев, повторял король. – Должна же знать полиция, что там происходило!
Людовик XVI позвонил и приказал:
– Господина де Крона! Найдите мне господина де Крона!
– Государь, сегодня как раз день еженедельного доклада, и господин де Крон ожидает в Эй-де-Беф[92].
– Пусть войдет.
– Брат, позвольте мне уйти, – фальшивым голосом произнес граф Прованский и сделал вид, будто собирается уходить.
– Останьтесь, – велел Людовик XVI. – Если королева виновата, то что ж, вы – член семьи и можете это знать, но если невиновна, вам тоже должно это стать известно, так как вы подозревали ее.
Вошел де Крон.
Увидев у короля графа Прованского, он первым делом выразил свое глубочайшее почтение двум первым лицам королевства, после чего обратился к монарху:
– Государь, доклад готов.
– Сперва, сударь, объясните, – потребовал король, – каким образом в Париже был опубликован постыдный памфлет, направленный против королевы.
– «Аттенаутна»? – осведомился г-н де Крон.
– Да.
– Государь, его напечатал газетчик, именуемый Рето.
– Как же так? Вы знаете его имя и не воспрепятствовали публикации, а когда памфлет появился, не арестовали его?
– Государь, нет ничего проще, чем арестовать этого газетчика, и я даже принес в портфеле подготовленный приказ о взятии его под стражу.
– Так почему же он до сих пор не арестован?
Г-н де Крон взглянул на графа Прованского.
– Ваше величество, я прошу позволения откланяться, – помедлив, произнес тот.
– Нет, нет, – ответил король, – я велел вам остаться, так что оставайтесь.
Граф Прованский поклонился.
– Говорите, господин де Крон, открыто, без недомолвок и, главное, ясно.
– Так вот, я не отдал приказ об аресте газетчика Рето, – сообщил начальник полиции, – потому что, прежде чем это сделать, мне необходимо было объясниться с вашим величеством.
– Да, пожалуйста.
– Государь, а может быть, дать этому газетчику мешок денег и услать его куда-нибудь подальше, чтобы он там повесился?
– Почему?
– Потому что, государь, когда эти негодяи пишут ложь и это доказано, публика с огромным удовольствием любуется тем, как их бьют плетьми, обрезают им уши и даже вешают, но когда, к несчастью, они натыкаются на правду…
– На правду?
Г-н де Крон склонился в поклоне.
– Да, я знаю. Королева действительно ездила к Месмеру. К несчастью, как вы сказали, она там была, но это я ей позволил.
– О государь! – пробормотал г-н де Крон.
Это восклицание почтительного подданного поразило короля куда сильней, чем такое же восклицание завистливого брата.
– Надеюсь, королева этим не погубила свою репутацию?
– Нет, государь, но она скомпрометирована.
– Господин де Крон, а что вам доложила ваша полиция?
– Много всякого, государь, и невзирая на почтение к вашему величеству, невзирая на самое почтительное преклонение перед королевой, я вынужден сказать, что мои сведения подтверждают некоторые подробности этого памфлета.
– Вы сказали, подтверждают?
– И вот в чем: королева Франции была в наряде обычной женщины среди сомнительного общества, привлеченного магнетическими штучками Месмера, пришла одна…
– Одна? – вскричал король.
– Да, государь.
– Г-н де Крон, вы ошибаетесь.
– Не думаю, государь.
– Вам неправильно доложили.
– Все совершенно точно, государь, и я могу описать вам детали туалета ее величества, весь ее внешний вид, походку, жесты, крики.
– Крики?
Король побледнел и смял газету.
– Все, вплоть до ее стонов, было отмечено моими агентами, – несмело продолжал г-н де Крон.
– Стоны? Королева забылась до такой степени! Так пренебрегла и моей честью, честью короля, и своей супружеской честью!
– Это невозможно, – вступил граф Прованский. – Это был бы более чем скандал, ее величество на такое не способна.
Но слова его прозвучали скорей как обвинение, а не защита. Король это почувствовал, и его передернуло.
– Сударь, – обратился он к начальнику полиции, – вы настаиваете на сказанном?
– Увы, государь, до последнего слова.
– Брат, – обратился к графу Прованскому Людовик XVI, промокая платком лоб, покрытый каплями пота, – я обязан доказать вам все, что я утверждал. Честь королевы – это то же, что честь всего нашего дома. Я никогда не поставлю ее под угрозу. Я позволил королеве поехать к Месмеру, но при условии, что ее будет сопровождать одна особа, надежная, безукоризненная, можно даже сказать, святая.
– Ах! – вздохнул г-н де Крон. – Если бы так было…
– Да, – сказал граф Прованский, – если бы такая женщина, как, скажем, госпожа де Ламбаль…
– Именно ее, брат, именно принцессу де Ламбаль я и назвал королеве в качестве сопровождающей.
– К сожалению, государь, королева не взяла принцессу.
– Что же, – произнес король, – раз было проявлено такое непослушание, я вынужден буду наказать ее и накажу.
Продолжить ему помешал сокрушенный вздох, вырвавшийся, казалось, из самой глубины сердца.
– И все-таки, – уже тише закончил он, – у меня осталось сомнение. Вы, разумеется, не разделяете его, потому что не являетесь ни королем, ни мужем, ни другом той, против кого выдвинуто обвинение. И все же я хочу выяснить, прав ли я в своем сомнении.
Король позвонил, явился дежурный офицер.
– Распорядитесь узнать, – приказал Людовик XVI, – где принцесса де Ламбаль – у королевы или у себя в апартаментах.
– Государь, принцесса де Ламбаль прогуливается в малом парке с ее величеством и еще какой-то дамой.
– Попросите принцессу немедленно подняться к нам.
Офицер вышел.
– Господа, придется потерпеть еще десять минут: до той поры я не смогу принять решение, – промолвил Людовик XVI и, вопреки обыкновению нахмурившись, бросил чуть ли не угрожающий взгляд на свидетелей своей глубокой муки.
Оба они хранили молчание. Г-н де Крон испытывал подлинную печаль, граф Прованский изображал печаль, отчего стал смахивать на Момуса[93].
За дверью послышался шелест шелкового платья, возвестивший о приходе принцессы де Ламбаль.
Принцесса де Ламбаль вошла, прекрасная и спокойная; высокая прическа оставляла ее лоб открытым, лишь у висков выбились несколько непокорных прядей волос; черные тонкие брови, подобные двум линиям, проведенным сепией, синие глаза, ясные, огромные, с каким-то перламутровым оттенком, прямой, правильный нос, губы, одновременно целомудренные и сладострастные, – все по отдельности было безумно прекрасно, а вместе слагалось в облик несравненной, не имеющей соперников красоты, которая пленяла и внушала почтительный трепет.
Принцесса принесла с собой благоухание добродетели, изящества и некой бесплотности, которое исходило от Лавальер[94] в пору, предшествовавшую ее взлету, и после того как она попала в немилость.
Видя, как она входит, король почувствовал, что у него мучительно сжалось сердце.
«Увы, – мелькнуло у него в голове, – все, что произнесут эти уста, станет приговором, не подлежащим обжалованию».
Он низко поклонился принцессе и предложил ей сесть.
Граф Прованский подошел поцеловать ей руку.
– Что угодно от меня вашему величеству? – ангельским голосом спросила принцесса.
– Сведений, кузина, самых точных сведений.
– Я жду, государь.
– Когда, в какой день вы ездили с королевой в Париж? Вспомните, пожалуйста.
Г-н де Крон и граф Прованский удивленно переглянулись.
– Поймите меня, господа, – обратился к ним король. – У вас нет сомнений, а я пока еще сомневаюсь и поэтому задаю вопросы, как человек, не имеющий полной уверенности.
– В среду, государь, – ответила принцесса.
– Простите меня, кузина, – продолжал Людовик XVI, – но я желаю знать правду.
– Спрашивайте, государь, и вы узнаете ее, – промолвила принцесса.
– Зачем вы ездили в Париж?
– Я ездила на Вандомскую площадь к Месмеру.
Оба свидетеля разговора вздрогнули, король от возбуждения залился краской.
– Одна? – спросил он.
– Нет, государь, с ее величеством королевой.
– С королевой? Вы говорите с королевой? – вскричал король, жадно хватая ее за руку.
– Да, государь.
Ошеломленные г-н де Крон и граф Прованский подошли поближе.
– Ваше величество позволили королеве, – сказала принцесса де Ламбаль. – По крайней мере так мне сказала ее величество.
– И ее величество сказала правду, кузина. Теперь… мне кажется, я снова дышу, потому что принцесса де Ламбаль никогда не лжет.
– Никогда, государь, – спокойно подтвердила принцесса.
– Да, никогда! – с самой уважительной убежденностью воскликнул г-н де Крон. – Но в таком случае, государь, позвольте мне…
– Позволяю, господин де Крон. Выспрашивайте, дознавайтесь, я отдаю нашу дорогую принцессу вам на допрос.
Г-жа де Ламбаль улыбнулась.
– Я готова, – сказала она, – но только помните, государь, пытки отменены.
– Да, я отменил их для других, – с улыбкой ответил король, – но не для себя.
– Ваша светлость, – обратился к принцессе начальник полиции, – будьте добры сказать королю, что вы делали с ее величеством у господина Месмера, но прежде всего, как была одета ее величество.
– На ее величестве было платье из жемчужно-серой тафты, накидка из вышитого муслина, горностаевая муфта и шляпа розового бархата с большими черными лентами.
Описание совершенно не совпадало с описанием наряда м-ль Оливы. Г-н де Крон был живейшим образом изумлен, граф Прованский кусал губы.
Король потер руки.
– И что же сделала королева, войдя? – осведомился он.
– Государь, вы совершенно правильно сказали «войдя», потому что, едва мы вошли…
– Вдвоем?
– Да, государь, вдвоем. Так вот, едва мы вошли в первую залу, где нас никто не заметил, потому что всеобщее внимание было захвачено таинствами магнетизма, к ее величеству подошла женщина и подала ей маску, умоляя не ходить дальше.
– И вы не пошли? – вырвался с вопросом граф Прованский.
Нет.
– Значит, вы не пошли дальше первой залы? – спросил г-н де Крон.
– Нет, сударь.
– И вы не отпускали руки королевы? – с некоторым еще беспокойством справился король.
– Ни на секунду, рука ее величества все время опиралась на мою.
– Ну, господин де Крон, что вы об этом думаете? – поинтересовался король. – Что скажете, брат?
– Просто необыкновенно, нечто сверхъестественное, – отвечал Месье[95] с деланной радостью, выдававшей куда ясней, чем недоверие, его досаду.
– Ничего сверхъестественного в этом нет, – не замедлил вступить г-н де Крон, у которого радость короля вызывала нечто наподобие угрызений совести, – потому что ее светлость не может говорить ничего, кроме правды.
– И что же из этого следует? – полюбопытствовал граф Прованский.
– А следует из этого, ваше высочество, что мои агенты ошиблись.
– Вы это серьезно? – нервно вздрогнув, спросил граф Прованский.
– Совершенно серьезно, ваше высочество. Мои агенты ошиблись, ее же величество вела себя именно так, как нам поведала госпожа де Ламбаль. Что же касается газетчика, поскольку я убежден в высшей степени правдивым рассказом принцессы, то думаю, этот негодяй тоже поверит ей. Я дам приказ взять его немедля под стражу.
Г-жа де Ламбаль переводила взгляд с одного на другого с безмятежностью человека, не чувствующего за собой вины, который без тени страха любопытствует знать, в чем дело.
– Минутку, минутку, – сказал король, – повесить газетчика мы всегда успеем. Принцесса, вы упомянули про женщину, остановившую королеву у входа в зал. Скажите, кто она?
– Ваше величество, вы, кажется, знаете ее. Но то, что ее величество была знакома с ней, мне точно известно.
– Понимаете, кузина, мне нужно, просто необходимо побеседовать с этой женщиной. В ней подтверждение истины и ключ к тайне.
– И я того же мнения, – согласился г-н де Крон, к которому повернулся король.
«Женские хитрости, – подумал граф Прованский. – Что-то эта женщина смахивает на бога из машины![96]»
Вслух же он произнес:
– Кузина, ее величество призналась вам, что знает эту женщину?
– Ее величество нив чем мне не признавалась, она просто рассказала мне о ней.
– Да, да, простите.
– Мой брат хотел сказать, – объяснил король, – что, коль королева знает эту женщину, вы тоже должны ее знать.
– Это госпожа де Ламотт-Валуа.
– Эта интриганка! – с досадой воскликнул король.
– Эта попрошайка! – бросил граф. – Допрашивать ее будет нелегко, она изрядно хитра.
– Мы будем столь же хитры, как она, – заметил г-н де Крон. – Впрочем, после свидетельства госпожи де Ламбаль хитрость нам не понадобится. Итак, по первому слову вашего величества…
– Нет, нет, – расстроенно произнес Людовик XVI. – Мне надоело видеть, что вокруг королевы крутятся люди из дурного общества. Королева настолько добра, что к ней под предлогом бедности липнет все, что есть самого сомнительного среди мелкого дворянства.
– Но госпожа де Ламотт действительно Валуа, – заметила принцесса де Ламбаль.
– Да пусть она будет кем угодно, кузина, я не желаю, чтобы она появлялась тут. Я предпочту пожертвовать безмерной радостью, которую мне доставило бы окончательное оправдание королевы, да, да, предпочту пожертвовать ею, лишь бы не видеть эту особу.
– И однако, вам придется увидеть ее! – воскликнула побледневшая от гнева королева, распахнув дверь кабинета и появившись на пороге. Лицо ее от благородного негодования казалось еще прекрасней, она метнула разъяренный взгляд на графа Прованского; прижатый створкой двери, он неловко кланялся Марии Антуанетте.
– Да, государь, – продолжала она, – здесь не обойтись словами: «Я желаю или не желаю видеть эту особу». Эта особа – свидетельница, у которой ум моих обвинителей, – королева взглянула на графа Прованского, – прямота моих судей, – и она бросила взгляд на короля и г-на де Крона, – а также ее собственная совесть, какой бы извращенной она ни была, исторгнут правдивое свидетельство. Я, обвиняемая, прошу, чтобы эту женщину выслушали, и она будет выслушана.
– Сударыня, – поспешно сказал король, – вы же понимаете, что нет смысла посылать на розыски госпожи де Ламотт, чтобы оказать ей честь свидетельствовать за или против вас. Я отнюдь не собираюсь ставить вашу репутацию в зависимость от правдивости этой дамы.
– Государь, разыскивать госпожу де Ламотт нет нужды, она здесь.
– Здесь! – воскликнул король, отшатнувшись, словно он наступил на змею. – Она здесь?
– Государь, как вам известно, недавно я навещала несчастную женщину, носительницу славного имени. Вы помните, это было в тот день, о котором наговорено столько всякого…
И королева, полуобернув голову, пристально взглянула на графа Прованского, который с удовольствием провалился бы в этот миг сквозь землю, хотя на его круглом сияющем лице было написано полнейшее согласие с тем, что говорит невестка.
– И что же? – спросил Людовик XVI.
– Так вот, государь, в тот день я забыла у госпожи де Ламотт шкатулку с портретом. Сегодня она мне ее принесла и потому находится здесь.
– Нет, нет… Вы меня и так убедили, – промолвил король. – Обойдемся без нее.
– Но я не удовлетворена, – бросила королева. – Я пойду приведу ее. Кстати, почему у вас такое отвращение к ней? Что она сделала? И кто она такая? Господин де Крон, вы ведь все знаете, скажите…
– У меня нет никаких неблагоприятных сведений об этой даме, – ответил начальник полиции.
– Это действительно так?
– Разумеется. Она бедна, только и всего. Может быть, немножко честолюбива.
– Честолюбие – это от голоса крови. Но если у вас против нее нет ничего, кроме этого, я думаю, король может принять ее и выслушать свидетельство.
– Не знаю, не знаю, – проговорил Людовик XVI, – но у меня необъяснимое предчувствие, что эта женщина принесет в мою жизнь беду, какую-то неприятность, вот и все.
– Государь, что за суеверия! Подите позовите ее, – обратилась королева к принцессе де Ламбаль.
Спустя пять минут Жанна, внешне смущенная, скромная, но изысканная как в манерах, так и в одежде, вступила в королевский кабинет.
Людовик XVI, неумолимый в своей неприязни, повернулся спиной к двери. Он сидел, опершись локтями на стол, спрятав лицо в ладони, и казалось, был здесь чужим.
Граф Прованский впился в вошедшую столь мрачным инквизиторским взглядом, что Жанна, будь ее скромность подлинной, была бы парализована и из нее не удалось бы вырвать ни слова.
Но чтобы смутить мысли Жанны, нужно было кое-что посильнее.
Ни король, ни император со своими скипетрами, ни папа с тиарой, ни силы неба, ни силы ада не сумели бы пробудить в этой стальной натуре ни страха, ни благоговения.
– Сударыня, – обратилась к ней королева, проведя ее и поставив позади короля, – прошу вас, благоволите рассказать, что вы сделали в день моего посещения господина Месмера, причем рассказывайте все совершенно точно.
Жанна молчала.
– Пожалуйста, никаких умолчаний, никаких обиняков. Ничего, кроме правды. Точно и ясно расскажите все, как это запечатлелось у вас в памяти.
И королева села в кресло, чтобы ее взгляд не оказал никакого воздействия на свидетельницу.
О, какая роль для Жанны! Благодаря своей проницательности она догадалась, что ее государыня нуждается в ней, почувствовала, что Марию Антуанетту подозревают во лжи и что она может оправдать ее, не отклоняясь от истины.
Любой другой, оправдывая королеву, не удержался бы от удовольствия преувеличить доказательства ее невиновности.
Но Жанна, будучи натурой тонкой, хитрой и сильной, ограничилась одним лишь изложением фактов.
– Государь, – начала она, – я пришла к господину Месмеру, влекомая исключительно любопытством, как влеком туда весь Париж. Зрелище мне показалось несколько грубоватым. Я собиралась уйти, как вдруг у входа увидела ее величество, с которой за день до этого имела честь встречаться, правда не зная, кто она, и которая великодушно оказала мне помощь. Едва увидев ее августейшие черты, которые никогда не изгладятся из моей памяти, я подумала, что присутствие ее величества в этом месте, где выставляются напоказ всевозможные страдания и нелепости, было бы неуместным. Я почтительнейше прошу у ее величества прощения за то, что позволила себе столь откровенные мысли о ее поведении, но это было озарение, невольное движение женской души. Коленопреклоненно умоляю простить меня, если я перешла ту грань почтения, какое я должна выказывать к любым поступкам ее величества.
Жанна опустила голову и замолчала, как бы пытаясь справиться с волнением; с безмерным искусством она вызвала у себя спазмы, которые предшествуют слезам.
Г-н де Крон был потрясен. Принцесса де Ламбаль почувствовала восхищение этой женщиной, такой тонкой, несмелой, душевной и доброй.
Граф же Прованский был просто-напросто ошарашен.
Королева взглядом поблагодарила Жанну, подстрекавшую или, верней сказать, исподтишка подстерегавшую этот взгляд.
– Государь, вы слышали? – осведомилась королева.
Король даже не обернулся.
– Мне не было нужды в свидетельстве этой дамы, – бросил он.
– Мне велели рассказать, и я исполнила приказание, – робко объяснила Жанна.
– Довольно! – грубо оборвал король. – Ежели королева что-то говорит, ей не нужны свидетели, чтобы подтвердить ее слова. Ежели у королевы есть мое одобрение, ей ни у кого ничего не нужно домогаться, а мое одобрение у нее было.
И, произнеся эти слова, уничтожившие графа Прованского, он встал.
Королева не преминула дополнить это высказывание короля презрительной улыбкой.
Повернувшись спиной к брату, король поцеловал руку Марии Антуанетте и принцессе де Ламбаль.
Попросив у принцессы прощения за то, что побеспокоил ее из-за совершенного пустяка, король позволил ей удалиться.
Госпожу де Ламотт он не удостоил ни словом, ни даже взглядом, однако, боясь рассердить королеву неучтивостью по отношению к даме, которую она принимает, Людовик XVI, проходя к своему креслу мимо Жанны, принудил себя чуть кивнуть ей головой, на что та без всякой поспешности ответила глубоким реверансом, который давал возможность оценить всю ее грациозность.
Принцесса де Ламбаль вышла из кабинета первой, за нею г-жа де Ламотт, которую королева пропустила впереди себя; последней выходила Мария Антуанетта, обменявшаяся с королем почти нежным взглядом.
Некоторое время из коридора доносились голоса трех женщин, которые, разговаривая, шли в покои королевы.
– Брат, я больше вас не задерживаю, – объявил Людовик XVI графу Прованскому. – Я должен закончить наши дела с господином начальником полиции. Благодарю вас за то, что вы с таким вниманием приняли участие в доказательстве полной, всецелой и неопровержимой невиновности вашей сестры. Мне было приятно видеть, что вы обрадованы этим не меньше, чем я, а я рад этому безмерно. Господин де Крон, займемся. Прошу вас, садитесь.
Граф Прованский с неизменной улыбкой на лице откланялся и вышел из кабинета, когда голоса женщин затихли и он мог быть уверен, что не наткнется ни на насмешливый взгляд, ни на язвительное замечание.
Лишь выйдя из кабинета Людовика XVI, королева оценила всю ту опасность, которую ей удалось избежать.
Она смогла оценить всю тонкость и сдержанность импровизированного свидетельства Жанны, а равно и незаурядный такт, с каким после такого успеха та осталась в тени.
И вправду, Жанна, которой неслыханно повезло с первого разу оказаться посвященной в интимные тайны, хотя куда более ловкие царедворцы, по десятку лет охотясь за ними, так и не могут проникнуть в них, и которая, естественно, поняла, что сыграла большую роль в этот важный для королевы день, ни в малейшей степени не пыталась извлечь из этого преимуществ, а уж надменная подозрительность великих мира сего очень хорошо умеет читать подобные намерения по лицам нижестоящих.
Словом, когда Жанна попросила позволения откланяться и удалиться, королева с любезной улыбкой удержала ее, сказав:
– Поистине, счастье, графиня, что вы удержали меня, не дав нам с принцессой де Ламбаль войти к Месмеру. Какая все-таки гнусность! Меня увидели то ли в дверях, тогда в прихожей, а сочинили, будто я прошла в залу пароксизмов. Кажется, это так именуется?
– Да, ваше величество, зала пароксизмов.
– Но как же так получилось, – удивилась принцесса де Ламбаль, – что агенты господина де Крона ошиблись, хотя присутствовавшие знали, где находится королева? По мне, тут какая-то тайна. Агенты начальника полиции утверждают, что королева была в зале пароксизмов.
– Да, действительно, – задумчиво сказала королева. – Господин де Крон в этом ни в коей мере не замешан: он человек порядочный и хорошо относится ко мне. Дорогая Ламбаль, агентов могли подкупить. У меня есть враги, вы же знаете. Эти слухи должны на чем-то основываться. Графиня, расскажите нам подробности. Кроме того, этот гнусный пасквиль изобразил дело так, будто я была в полнейшем упоении, впала в экстаз и магнетическое состояние до такой степени, что совершенно забыла о женском достоинстве. Есть ли в этом хоть какая-то доля правдоподобия? Была ли там в тот день какая-нибудь женщина?
Жанна покраснела: она ведь стала обладательницей тайны, даже намек на которую мог уничтожить ее роковое влияние на судьбу королевы.
Выдав эту тайну, Жанна теряла возможность оказаться полезной и даже необходимой ее величеству. И тогда все ее будущее погибло бы. Поэтому она решила проявить осторожность.
– Да, ваше величество, – сказала она, – там действительно была одна женщина, крайне возбужденная, и она обращала на себя внимание судорогами и исступлением. Но мне кажется…
– Вам кажется, – мгновенно подхватила королева, – что то была какая-нибудь актриса или, как их именуют, девица легких нравов, а не королева Франции?
– Разумеется, ваше величество.
– Графиня, вы очень хорошо ответили королю, а теперь я хочу поговорить о вас. Скажите, как обстоят ваши дела? Когда вы рассчитываете на признание ваших прав? Принцесса, нет ли у нас кого-нибудь, кто мог бы помочь графине?
Вошла г-жа де Мизери.
– Соблаговолит ли ваше величество принять мадемуазель де Таверне? – осведомилась она.
– Разумеется! До чего же она церемонная – никогда не пренебрежет правилами этикета. Андреа! Андреа! Входите же!
– Ваше величество слишком добры ко мне, – произнесла Андреа, присев в изящном реверансе.
Она взглянула на Жанну; та сейчас же узнала вторую немецкую даму из благотворительного общества, заставила себя залиться краской и приняла притворно скромный вид.
Принцесса де Ламбаль воспользовалась приходом Андреа, чтобы вернуться в Со к герцогу де Пантьевру[97].
Андреа уселась рядом с Марией Антуанеттой, устремив спокойный, пристально-испытующий взгляд на г-жу де Ламотт.
– Андреа, – сказала королева, – это та дама, которую мы посещали в последний день холодов.
– Я узнала ее, – ответила Андреа и кивнула.
Жанна, уже преисполненная спеси, принялась искать в ее лице признаки ревности, но обнаружила лишь полнейшее безразличие.
Андреа, имеющая те же пристрастия, что и королева, Андреа, женщина, превосходящая всех остальных женщин добротой, умом, великодушием, не будучи счастлива, замыкалась в непроницаемой скрытности, которую весь двор принимал за надменное целомудрие Дианы-девственницы.
– Вы знаете, – обратилась к ней королева, – что наговорили обо мне королю?
– Должно быть, самое худшее, – отвечала Андреа, – и только потому, что не сумели бы, как должно, сказать хорошее.
– Вот самая прекрасная фраза, какую мне доводилось когда-либо слышать, – заметила Жанна. – Я назвала ее прекрасной, потому что в ней точнейше выражено главное чувство всей моей жизни и потому что я со своим слабым разумом не сумела бы так сформулировать эту мысль.
– Я сейчас расскажу вам, Андреа, – продолжала королева.
– Я уже знаю. Его высочество граф Прованский только что рассказывал об этом, и одна моя подруга слышала его.
– Прекрасный способ распространять ложь, говоря чистую правду, – гневно бросила королева. – Ладно, оставим это. Я тут расспрашивала графиню, как обстоят ее дела. Кто вам покровительствует, графиня?
– Вы, ваше величество, – дерзко отвечала Жанна. – Вы, потому что позволили мне приехать сюда поцеловать вашу руку.
– У нее благородное сердце, – заметила королева Андреа, – и мне нравятся ее порывы.
Андреа промолчала.
– Ваше величество, – продолжала Жанна, – когда я пребывала в стесненных обстоятельствах и безвестности, немногие решались покровительствовать мне, но теперь, когда меня один раз увидели в Версале, весь свет наперегонки будет оспаривать право понравиться королеве, то есть, я хотела сказать, особе, которую ее величество удостоила взглядом.
– Что же, – поинтересовалась королева, усевшись, – не было никого, кто оказался бы достаточно мужествен или достаточно развращен, чтобы покровительствовать вам ради вас самой?
– Поначалу была госпожа де Буленвилье, мужественная женщина, – отвечала Жанна, – потом господин де Буленвилье, развращенный покровитель… Но после того, как я вышла замуж, никто, о, никто! – Она весьма искуссно сделала ударение на слове «никто». – Ах, прошу прошения, я забыла об одном благородном человеке, великодушном принце…
– Принц! Кто же это?
– Его высокопреосвященство кардинал де Роган.
Королева резко повернулась к Жанне и с улыбкой сообщила:
– Мой враг!
– Кардинал – враг вашего величества? – воскликнула Жанна. – Не может быть!
– Можно подумать, графиня, вас удивляет, что у королевы есть враг. Видно, что вы не жили при дворе.
– Но ведь кардинал преклоняется перед вашим величеством, я это точно знаю, и если я не ошибаюсь, его почтение к августейшей супруге короля равно его преданности.
– О графиня, я верю вам, – сказала Мария Антуанетта с обычной своей веселостью. – Верю – в некоторой части. Кардинал действительно преклоняется передо мной.
Сказав это, она повернулась к Андреа де Таверне и заразительно рассмеялась.
– Да, да, графиня, его высокопреосвященство преклоняется передо мной. Вот потому-то он мой враг.
Жанна де Ламотт разыграла удивленную провинциалку.
– Значит, графиня, вы – протеже принца-архиепископа Луи де Рогана. Расскажите, как это произошло.
– Очень просто, ваше величество. Его высокопреосвященство оказал мне поддержку самым благородным, самым деликатным образом, проявив самое изобретательное великодушие.
– Прекрасно. Принц Луи расточителен, в этом ему нельзя отказать. Как вы думаете, Андреа, не сможет ли кардинал исполниться преклонением и перед этой прекрасной графиней? Ну, графиня, а что скажете вы?
И Мария Антуанетта опять залилась заразительным веселым смехом, но Андреа не поддержала ее, все так же сохраняя серьезность.
«Возможно, это столь бурное веселье наигранно, – подумала Жанна. – Ну, ну, погладим».
Вслух же с самым значительным видом и самым проникновенным голосом она произнесла:
– Я имею честь уверить ваше величество, что господин де Роган…
– Хорошо, хорошо, – прервала ее излияния королева. – Уж коль вы так преданы ему, коль вы… его друг…
– О, ваше величество, – с умилительной смесью стыдливости и почтительности произнесла Жанна.
– Хорошо, хорошо, – повторила с мягкой улыбкой королева. – Но все-таки при случае поинтересуйтесь у него, что он сделал с прядью моих волос, которую подговорил украсть одного парикмахера, весьма дорого поплатившегося за свою проделку: я прогнала его.
– Ваше величество, я просто поражена, – выказала удивление Жанна. – Неужели господин де Роган решился на такое?
– Да, из преклонения. Все из того же преклонения. После того как он гнушался мною в Вене, после того как испробовал все способы и средства, чтобы не допустить заключения брака между королем и мной, он вдруг обнаружил, что я женщина и королева, а он, великий дипломат, совершил огромную глупость и может навсегда оказаться не в ладах со мной. И тут наш дражайший принц перепугался за свое будущее. Он стал действовать, как все представители его профессии, которые больше всего заискивают перед теми, кого больше всего боятся, а поскольку он знал меня совсем юной и поскольку считал меня тщеславной и глупой, он превратился в Селадона[98]. Испробовав вздыхания и томный вид, он, как вы уверяете, перешел на преклонение. Он преклоняется передо мной, не правда ли, Андреа?
– Ваше величество! – с поклоном промолвила та.
– Вот и Андреа не хочет скомпрометировать себя, но я, так и быть, рискну; королевская власть должна хоть в чем-то проявиться. Итак, графиня, и мне и вам известно, что кардинал преклоняется передо мной. Это бесспорно. Ну что ж, передайте ему, что я на него за это не гневаюсь.
Слова эти, таящие горькую иронию, глубоко запали в растленное сердце Жанны де Ламотт.
Будь Жанна чиста, благородна и прямодушна, она поняла бы, что это всего-навсего выражение высочайшего негодования женщины, обладающей возвышенным сердцем, выражение совершенного презрения, которое испытывает высокая душа к постыдным интригам тех, кто копошится у ее ног. Такие женщины, редчайшие ангелы, никогда не защищают свою репутацию от козней, которые строятся против них на земле.
Они даже не желают замечать ту грязь, которая их пачкает, ту смолу, в которой они оставляют самые яркие перья своих золотистых крыльев.
Жанна, натура вульгарная и испорченная, в этом проявлении гнева королевы из-за поведения кардинала увидела лишь сильную досаду. Она припомнила слухи довольно скандального свойства, ходившие при дворе и просочившиеся из Эй-де-Беф даже в парижские предместья, где наделали столько шуму.
Кардинал, любивший в женщине женщину, сказал Людовику XV, который питал к ним любовь точно такого же свойства, что дофина – не вполне женщина. Не забыты были и весьма своеобычные слова, произнесенные Людовиком XV во время свадьбы его внука, и вопросы, заданные некоему простодушному послу.
Жанна, совершенная женщина, ежели такое бывает, женщина с головы до ног, суетная и тщеславная во всем, испытывающая потребность нравиться и покорять, используя преимущества, отпущенные ей природой, была просто не способна поверить, чтобы женщина думала об этих деликатных материях иначе, чем она. «Ее величество испытывает сожаления, – решила она. – Но раз есть сожаления, должно быть и что-то большее».
И тогда, подумав, что следует ковать железо, пока оно горячо, она стала защищать г-на де Рогана со всем умом и актерством, каким природа, подобно заботливой матери, щедро наделила ее. Королева слушала.
«Слушает», – отметила Жанна.
И, введенная в заблуждение своей испорченной натурой, графиня даже не заметила, что королева слушает ее только из великодушия, так как при дворе никто никогда не скажет доброго слова о том, к кому дурно относится монарх.
Это нарушение всех традиций, отступление от обычаев дворца весьма понравилось и чуть ли не обрадовало королеву.
Мария Антуанетта увидела сердце там, куда Господь вложил лишь сухую жаждущую губку.
Беседа продолжалась при благожелательном внимании королевы. Жанна была как на иголках и чувствовала себя все более и более неловко: она не видела возможности уйти, не получив на это позволения, хотя еще совсем недавно так отлично сыграла роль случайной посетительницы, попросившей разрешения удалиться; вдруг в соседней комнате раздался молодой жизнерадостный голос.
– Граф д'Артуа! – сказала королева.
Андреа тут же встала. Жанна собралась уходить, но принц так стремительно ворвался в кабинет королевы, что уйти оказалось просто невозможно. Тем не менее г-жа де Ламотт разыграла то, что на театре именуется ложным уходом.
Увидев красивую даму, принц остановился и поклонился ей.
– Графиня де Ламотт! – представила ему королева Жанну.
– Очень рад! – промолвил граф. – Только, графиня, вы не должны из-за меня уходить.
Королева сделала знак Андреа, и та удержала Жанну. Этот знак означал: «Я должна была щедро отблагодарить госпожу де Ламотт, но не успела, так что мы еще к этому вернемся».
– Итак, вы возвратились с охоты на волков, – промолвила королева, подавая принцу руку по английскому обычаю, широко распространившемуся и вошедшему в моду.
– Да, сестра, и я прекрасно поохотился, убил семь волков, а это страшно много, – ответил принц.
– Сами убили?
– Я не очень в этом уверен, – рассмеялся граф д'Артуа, – но мне так сказали. А кстати, сестра, знаете, что я заработал семьсот ливров?
– И каким же образом?
– Так вот знайте: за голову каждого из этих ужасных хищников выплачивают по сто ливров. Это дорого, но я без колебаний отдал бы двести ливров за голову газетчика.
– Ах, так вам уже известна эта история?
– Граф Прованский рассказал мне ее.
– Вам уже третьему, – заметила Мария Антуанетта. – Право, Месье – беззаветный и неутомимый рассказчик. И как же он вам рассказывал ее?
– Так, что вы предстали белее горностая, белее Венеры-Афродиты. У нее есть еще другое имя, кончающееся на «ена»[99], вам его могут подсказать ученые. Например, мой брат граф Прованский.
– И тем не менее он рассказал вам эту историю?
– С газетчиком? Да, сестра. Ваше величество с честью вышли из нее. Можно бы даже сказать каламбуром, вроде тех, что ежедневно сочиняет господин де Бьевр[100], история с ванной отмыта.
– Чудовищная игра слов!
– Сестра, не обижайте паладина, который пришел предложить для вашей защиты свое копье и руку. К счастью, вам паладины не нужны. Ах, дорогая сестра, вам поистине везет!
– Вы это называете везением? Андреа, вы слышали?
Жанна рассмеялась. Граф не сводил с нее взгляда, и это придало ей смелости. Вопрос был обращен к Андреа, а ответила Жанна.
– Да, да, везением, – стоял на своем граф д'Артуа, – потому что, дорогая сестра, вполне могло случиться так, что, во-первых, госпожи де Ламбаль не было бы с вами.
– Неужели бы я пошла туда одна?
– Во-вторых, госпожа де Ламотт могла не встретиться вам и не помешать вам войти.
– Вы даже знаете, что там была госпожа де Ламотт?
– Сестра, когда граф Прованский рассказывает, он рассказывает все. И наконец, могло быть так, что госпожи де Ламотт не оказалось бы в Версале, чтобы свидетельствовать в вашу пользу. Вы, разумеется, скажете мне, что добродетель и невинность подобны фиалке, которую не обязательно видеть, чтобы распознать. Но фиалку, если ее видят, срывают для букета, а когда нанюхаются, его выбрасывают. Вот такую я вывожу мораль.
– Прекрасная мораль!
– Она такова, какова есть. Таким образом, я доказал, что вам повезло.
– Отнюдь не доказали.
– Хотите более убедительных доказательств?
– Они были бы нелишни.
– Ну что ж, – промолвил граф и шлепнулся на софу рядом с королевой. – Вы совершенно напрасно вините судьбу, так как вывернулись после небезызвестного приключения с кабриолетом…
– Раз, – сказала королева и загнула палец.
– После истории у Месмера…
– Хорошо, сочтем и это. Два. Дальше.
– И наконец, в истории с балом, – шепнул ей на ухо граф д'Артуа.
– С каким балом?
– С балом в Опере.
– Простите, где?
– Я сказал, с балом в Опере.
– Я вас не понимаю.
Граф д'Артуа расхохотался.
– Ну и сглупил же я, заговорив с вами о тайне.
– О тайне? Право же, брат, вам придется рассказать про этот бал в Опере: я заинтригована.
Жанна уловила слова «бал», «Опера» и удвоила внимание.
– Тс-с! – шепнул принц.
– Нет уж, давайте объяснимся, – настаивала королева. – Вы упомянули про какую-то историю в Опере. В чем там дело?
– Сестра, умоляю вас, сжальтесь.
– Граф, я настаиваю. Я хочу знать.
– А я прошу вас, не заставляйте меня говорить.
– Вы намерены огорчить меня?
– Ни в коем случае! Но мне кажется, я сказал уже вполне достаточно.
– Вы совершенно ничего не сказали.
– Сестричка, теперь вы меня интригуете… Так что же, вы это серьезно?
– Честное слово, я не шучу.
– Значит, вы хотите, чтобы я говорил?
– Да, и немедленно.
– Тогда, может быть, не здесь? – спросил граф д'Артуа, указав глазами на Андреа и Жанну.
– Нет, здесь! Здесь! Не может быть лишних свидетелей при объяснении.
– Сестра, поберегитесь!
– Я рискну.
– Разве вы не были на последнем балу в Опере?
– Я? На балу в Опере? – воскликнула королева.
– Ради Бога, тише.
– Нет, тут нужно кричать… Итак, вы утверждаете, что я была на балу в Опере?
– Да, несомненно, вы были там.
– Быть может, вы меня там видели? – насмешливо поинтересовалась королева.
– Да, я видел вас там.
– Меня?
– Да, вас.
– Однако!
– Именно это я и сказал себе, увидев вас там.
– А что ж вы не скажете, что разговаривали со мной? Это будет еще забавней.
– Я хотел поговорить с вами, но толпа масок разъединила нас.
– Вы сошли с ума!
– Я так и думал, что вы скажете это. Я совершил ошибку, заведя этот разговор.
Королева вдруг вскочила и в крайнем возбуждении сделала несколько шагов по комнате.
Граф с удивленным видом смотрел на нее.
Андреа трепетала от страха и беспокойства.
Жанна изо всех сил старалась не потерять самообладания.
Королева остановилась.
– Друг мой, хватит шуток, – обратилась она к принцу. – У меня весьма скверный характер, вы видите, я уже теряю терпение. Немедленно признайтесь, что вы хотели разыграть меня, и я буду только рада.
– Если вам так угодно, сестра, готов признаться.
– Шарль, будьте же серьезны!
– Я серьезен, как никогда.
– Ради Бога, скажите, вы ведь сочинили эту небылицу?
Граф д'Артуа искоса глянул на дам, потом произнес:
– Да, сочинил, извините меня.
Андреа и Жанна скрылись за гобеленовым занавесом.
– Так вот, сестра, я сказал правду, – прошептал граф, когда дамы ушли. – Надо было раньше предупредить меня.
– Вы видели меня на балу в Опере?
– Так же, как сейчас. И вы меня тоже видели.
Королева вскрикнула, позвала Жанну и Андреа, но тут же бросилась за занавес и, схватив их за руки, втащила в комнату.
– Сударыни, – объявила она, – граф д'Артуа утверждает, что видел меня в Опере.
Андреа тихо ахнула.
– Хватит уверток, – продолжала королева. – Докажите…
– Ну что ж, – вздохнул принц. – Я был с маршалом де Ришелье, с господином де Калонном, с… Да, Господи, с нами была тьма народу. У вас упала маска.
– Маска?
– Я хотел вам сказать: «Сестра, это уже переходит границы смелости», но вы исчезли: кавалер подал вам руку и увел.
– Кавалер? Боже мой, у меня такое чувство, что я схожу с ума.
– В голубом домино, – уточнил принц.
Королева провела ладонью по лбу.
– Когда это было? – спросила она.
– В субботу, накануне моего отъезда на охоту. Утром, когда я уезжал, вы еще спали, так что я не мог сказать вам то, что говорю сейчас.
– Господи! Господи! В котором часу вы меня видели?
– Должно быть, в третьем.
– Решительно, либо я сошла с ума, либо вы.
– Повторяю, это я… пусть это я ошибся… и тем не менее…
– Тем не менее?
– Не огорчайтесь так, ничего же не известно… Я было подумал, что вы с королем, но ваш спутник говорил по-немецки, а король знает только английский.
– По-немецки?.. Немец?.. Брат, но у меня же есть доказательство! В субботу я легла спать в одиннадцать.
Граф с самым недоверчивым видом улыбнулся и отвесил поклон.
Королева позвонила.
– Госпожа де Мизери подтвердит вам это, – сказала она.
Граф расхохотался.
– Тогда уж позовите заодно и Лорана, привратника, пусть он тоже засвидетельствует, дорогая сестричка, ведь это же я отлил эту пушку, так что не палите из нее в меня.
– О! – гневно воскликнула королева. – Мне не верят!
– Я поверил бы вам, если бы вы не так гневались и горячились, но доказательства! Если я говорю вам «да», то другие, придя сюда, скажут «нет».
– Другие? Какие еще другие?
– Бог мой, да те, кто видел вас так же, как я.
– Это уже любопытно! Значит, есть еще люди, которые видели меня? Так назовите их мне.
– Хоть сейчас. Кстати, там был Филипп де Таверне.
– Брат, – прошептала Андреа.
– Да, мадемуазель, он был там, – подтвердил принц. – Сестра, хотите расспросить его?
– Я немедленно вызываю его сюда.
– Боже мой! – вздохнула Андреа.
– В чем дело? – осведомилась королева.
– Моего брата вызывают, чтобы он свидетельствовал.
– Да, я так хочу, – бросила королева.
Королева отдала приказ: слуги помчались на розыски Филиппа, побывали у его отца, которого молодой человек только что покинул после описанной нами сцены.
Филипп, победивший на дуэли де Шарни и оказавший королеве весьма серьезную услугу, радостно шагал к Версальскому дворцу.
Посланцы нагнали его, передали приказ королевы. Филипп прибавил шагу.
Мария Антуанетта устремилась навстречу ему и, едва оказалась лицом к лицу с ним, задала вопрос:
– Сударь, вы способны сказать правду?
– Да, ваше величество, и не способен лгать, – ответил он.
– В таком случае скажите, только честно, видели ли вы меня неделю назад в публичном месте?
– Да, ваше величество.
В комнате стояла такая тишина, что, казалось, было слышно, как стучат сердца присутствующих.
– Где вы видели меня? – душераздирающим голосом спросила королева.
Филипп молчал.
– Сударь, только не надо меня щадить. Мой брат, присутствующий здесь, заявил, что видел меня на балу в Опере. А вы где видели меня?
– Там же, где и его высочество граф д'Артуа, – на балу в Опере, ваше величество.
Королева точно громом пораженная рухнула на софу. Но тут же со стремительностью раненой пантеры вскочила и объявила:
– Это невозможно, потому что я не была там. Поостерегитесь, господин де Таверне, я замечаю, вы строите из себя пуританина, это, быть может, хорошо в Америке с господином де Лафайетом, но тут, в Версале, живут обычные, учтивые французы.
– Ваше величество оскорбляет господина де Таверне, – побледнев от гнева и возмущения, заявила Андреа. – Если он говорит видел, значит, он видел.
– И вы тоже! – бросила Мария Антуанетта. – Не хватает только, чтобы вы тоже видели меня. Ей-богу, вместо друзей, встающих на мою защиту, у меня одни враги, которые губят меня. Но одно свидетельство, господа, это еще не доказательство.
– Я как раз вспомнил, – вмешался граф д'Артуа, – что в миг, когда я увидел вас и понял, что голубое домино – не король, то подумал: это племянник господина де Сюфрена. Как зовут того храброго офицера, который совершил подвиг с флагом? Вы, сестра, так хорошо приняли его однажды, что я решил: он ваш придворный кавалер.
Королева покраснела, Андреа побледнела как смерть. Они взглянули друг на друга, и обе вздрогнули, увидев, как каждая прореагировала на слова графа.
Филипп тоже залился мертвенной бледностью.
– Господин де Шарни? – пробормотал он.
– Шарни! Вот именно, – обрадовался граф д'Артуа. – Не правда ли, господин Филипп, осанкой голубое домино несколько смахивало на господина де Шарни?
– Я не заметил, ваше высочество, – сдавленным голосом ответил Филипп.
– Но почти тут же я понял, – продолжал граф д'Артуа, – что ошибся, так как господин де Шарни попался мне на глаза. Когда ваша маска упала, сестра, он стоял рядом с герцогом де Ришелье как раз напротив вас.
– И он видел меня? – совершенно забыв об осторожности, воскликнула королева.
– Если только не был слеп, – ответил принц.
В полном отчаянии королева стала дергать за сонетку.
– К чему это вы? – полюбопытствовал граф д'Артуа.
– Я хочу спросить и господина де Шарни, чтобы испить чашу до дна.
– Я не уверен, что господин де Шарни в Версале, – пролепетал Филипп.
– Почему?
– Мне говорили… Кажется, он плохо себя чувствует.
– Дело очень серьезное, и ему придется прийти, сударь. Я тоже плохо себя чувствую, но тем не менее готова идти на край света, босиком, чтобы доказать…
Филипп, сердце которого разрывалось на части, направился к Андреа; она смотрела в окно, выходящее на цветник.
– Что там? – поинтересовалась королева, подойдя к ней.
– Нет, ничего. Говорят господин де Шарни болен, а я вижу его.
– Вы видите Шарни? – вскричал Филипп и подбежал к сестре.
– Да, это он.
Королева, забыв обо всем, с необыкновенной силой распахнула окно и громко позвала:
– Господин де Шарни!
Шарни поднял голову и, потрясенный, растерянный, направился во дворец.
Г-н де Шарни вошел в комнату; он был несколько бледен, но держался прямо, и по его виду нельзя было сказать, что ему больно.
Увидев столь высокопоставленное общество, он еще более выпрямился, как положено солдату, и придал лицу почтительное выражение, как светский человек.
– Сестра, будьте благоразумны, – тихо обратился к королеве граф д'Артуа. – Мне кажется, вы расспрашиваете слишком многих.
– Брат, я готова расспрашивать всех подряд, пока не встречу человека, который скажет мне, что вы ошиблись.
В это время Шарни увидел Филиппа и приветствовал его вежливым поклоном.
– Вы – враг себе, – шепнул Филипп своему противнику. – Выйти раненым! Поистине, вы ищете смерти.
– От царапины о ветку в Булонском лесу не умирают, – парировал Шарни, счастливый тем, что может ответить врагу уколом, который куда болезненней, чем рана, нанесенная шпагой.
Подошла королева и положила конец этой беседе, смахивающей куда более на обмен репликами a parte[101], чем на диалог.
– Господин де Шарни, – обратилась она к нему, – эти господа говорят, что вы были на балу в Опере.
– Да, ваше величество, – с поклоном подтвердил Шарни.
– Ответьте, что вы там видели?
– Ваше величество спрашивает, что я там видел или кого я там видел?
– Именно, кого вы там видели, и, пожалуйста, господин де Шарни, без умолчаний и любезных недомолвок.
– Я должен говорить все, ваше величество?
Щеки королевы вновь покрыла бледность, уже в который раз с утра сменявшая лихорадочный румянец.
– Начнем в соответствии с иерархией с тех, кого я более всего почитаю, – сказал Шарни.
– Короче, меня вы видели?
– Да, ваше величество, когда, по несчастью, у вас упала маска.
Королева нервически скомкала кружева своего шейного платка.
– Сударь, – произнесла она голосом, по которому внимательный наблюдатель почувствовал бы, что она вот-вот готова разрыдаться, – взгляните на меня хорошенько. Вы уверены?
– Черты вашего величества запечатлены в сердцах ваших подданных. Достаточно однажды увидеть ваше величество, чтобы запомнить навсегда.
Филипп повернулся к Андреа, и она ответила ему долгим взглядом. Две муки, две ревности объединились в скорбном союзе.
– Сударь, – сказала королева, подойдя к Шарни, – заверяю вас, я не была на балу в Опере.
– Ваше величество! – воскликнул молодой человек, склоняясь в низком поклоне. – Разве вы не вольны ходить туда, куда вам вздумается? Да если бы ваше величество вступили в преисподнюю, преисподняя очистилась бы.
– Я не прошу вас оправдывать мои поступки, – заметила королева. – Я вас единственно прошу поверить, что меня там не было.
– Я буду верить всему, во что прикажет верить мне ваше величество, – ответил Шарни, до глубины души взволнованный такой настойчивостью, таким страстным смирением этой безмерно гордой женщины.
– Сестра! Сестра! Это уже чересчур, – шепнул на ухо Марии Антуанетте граф д'Артуа.
Эта сцена парализовала всех присутствующих: одних – из-за страданий, которые причиняет любовь или уязвленное самолюбие, других – от сочувствия, какое внушает изобличенная женщина, отчаянно борющаяся с неопровержимыми уликами.
– Они верят в это! Верят! – вскричала королева, обезумевшая от гнева, и вдруг в полном молчании рухнула в кресло, украдкой смахивая кончиком пальца с века слезу, свидетельство уязвленной гордости. Неожиданно она резко поднялась.
– Простите меня, сестра, – ласково обратился к ней граф д'Артуа. – Вас окружают преданные друзья, и тайну, которая так безмерно пугает вас, знаем мы одни. Она сокрыта в наших сердцах, и вырвать ее оттуда можно будет только вместе с жизнью.
– Тайна! – закричала королева. – Я не хочу тайны!
– Сестра!
– Никаких тайн. Мне нужно доказательство.
– Ваше величество, – сообщила Андреа, – к вам идут.
– Ваше величество, это король, – сдавленным голосом произнес Филипп.
– Его величество король! – провозгласил в передней придверник.
– Король! Тем лучше. Король – мой единственный друг, он не сочтет меня виновной, даже если ему покажется, будто он видел, что я совершила оплошность. Король здесь желанный гость.
Вошел Людовик XVI. Взгляд его был полным контрастом тому смятению и возбуждению, что было написано на лицах всех, окружавших королеву.
– Государь. – воскликнула Мария Антуанетта. – Вы пришли как нельзя кстати. Государь, новая клевета, новое оскорбительное обвинение, которое необходимо опровергнуть.
– Что такое? – подходя к ней, осведомился Людовик XVI.
– Сплетня, государь, гнусная сплетня. Она будет распространяться. Помогите мне, государь, потому что на сей раз меня обвиняют не враги, а мои друзья.
– Друзья?
– Эти господа: мой брат, прошу прощения, его высочество граф д'Артуа, господин де Таверне и господин де Шарни уверяют – меня уверяют! – что видели меня на балу в Опере.
– На балу в Опере? – нахмурив брови, воскликнул король.
– Да, государь.
В комнате повисло грозное молчание.
От г-жи де Ламотт не укрылась мрачная тревога короля. Отметила она и смертельную бледность королевы. Всего одним словом, одним-единственным словом она могла бы прекратить их мучения; одним словом могла бы уничтожить все прошлые обвинения и оберечь королеву на будущее.
Но сердце ее не дрогнуло, не заставило сделать это, а причиной были корыстные соображения. Жанна подумала: уже поздно; она солгала, рассказывая о событиях у Месмера, и теперь, если она изменит свои показания, станет ясно, что в первый раз она сказала ложь, бросила королеву на произвол судьбы при опровержении первого обвинения, а это значит, не стать ей новой любимицей королевы, и на всех надеждах на будущие профиты придется поставить крест. Поэтому она смолчала.
Король переспросил с обеспокоенным видом:
– На балу в Опере? Откуда эти сведения? Графу Прованскому известно об этом?
– Но это же неправда! – вскричала королева, и в голосе ее слышалось отчаяние несправедливо обвиненного. – Неправда! Граф д'Артуа заблуждается, господин де Таверне заблуждается. Вы заблуждаетесь, господин де Шарни. Но ведь можете же вы ошибиться!
Все трое поклонились.
– Послушайте, велите прийти сюда всем моим людям, всем без исключения, и допросите их. Этот бал был в субботу, да?
– Да, сестра.
– Так. Что же я делала в субботу? Пусть мне скажут, не то я и вправду поверю, что ходила на этот проклятый бал в Опере, но уверяю вас, господа, меня там не было.
Вдруг король, простерев руки, пошел к королеве; глаза у него сияли, на лице была улыбка.
– Так бал был в субботу, господа? Это точно? – спросил он.
– Да, государь.
– В таком случае, – произнес король с радостным и совершенно успокоенным видом, – вам достаточно спросить всего лишь свою камеристку Мари. Быть может, она припомнит, в котором часу я в тот день пришел к вам. Если не ошибаюсь, это было около одиннадцати.
– Верно, государь! – не помня себя от радости, воскликнула Мария Антуанетта.
И она бросилась ему в объятия, но тут же, покраснев и сконфузившись, оттого что все смотрят на нее, спрятала лицо на груди короля, который нежно поцеловал ее в голову.
– Ну что ж, придется мне купить очки, – заметил граф д'Артуа, оторопевший одновременно от изумления и от радости. – И тем не менее я эту сцену не отдал бы и за миллион. Вы согласны со мной, господа?
Бледный как мел, Филипп прислонился к стене. Безразличный и невозмутимый Шарни стер со лба пот.
– Поэтому, господа, – сказал король, наслаждаясь произведенным впечатлением, – у королевы просто не было возможности отправиться на бал в Оперу. Вы можете думать все, что вам угодно, а королева, уверен, удовлетворится моим свидетельством.
– Пусть граф Прованский думает что угодно, – бросил граф д'Артуа, – а я посоветую своей жене таким же образом доказывать алиби, когда ее будут обвинять, что она провела ночь вне дома.
– Брат!
– Целую вам руки, государь.
– Шарль, я иду с вами, – сообщил король, в последний раз поцеловав жену.
Филипп не шелохнулся.
– Господин де Таверне, а вы не намерены сопровождать графа д'Артуа? – сурово осведомилась королева.
Филипп весь напрягся. Кровь бросилась ему в голову, прилила к глазам. Он чуть не потерял сознание. У него едва хватило сил поклониться, взглянуть на Андреа, бросить угрожающий взгляд на де Шарни и не выдать своих немыслимых страданий.
Он вышел.
Королева оставила при себе Андреа и г-на де Шарни.
Положения Андреа, оказавшейся между братом и королевой, между привязанностью и ревностью, мы не смогли бы изобразить, не задержав хода драматической сцены, в которой король появился, чтобы привести ее к счастливой развязке.
А между тем ничто так не заслуживало нашего внимания, как страдания девушки: она чувствовала, что Филипп отдал бы жизнь, лишь бы не допустить беседы королевы с Шарни, да и сама понимала, что у нее разорвалось бы сердце, если бы, последовав за братом, чтобы утешить его, как и должно было ей сделать, она оставила бы Шарни с королевой и г-жой де Ламотт в неестественной обстановке, вернее, в куда более неестественной, чем даже наедине. А что будет именно так, она догадалась по скромному и одновременно непринужденному поведению Жанны.
Как объяснить то, что она чувствовала?
Была ли это любовь? Нет, любовь не принимается и не растет с такой стремительностью в стылой атмосфере придворных чувств. Любовь, это редкое растение, любит расцветать в щедрых, чистых, нетронутых сердцах. Она не дает корней в сердце, обезображенном воспоминаниями, на почве, промерзшей от слез, которые годами скапливались в ней. Нет, то, что м-ль де Таверне чувствовала к г-ну де Шарни, не было любовью. Да она и сама усиленно отвергала подобную мысль, потому что поклялась никого никогда не любить в этом мире.
Но тогда почему она так страдала, когда Шарни обратился к королеве с изъявлениями почтения и преданности? Несомненно, здесь присутствовала ревность.
Да, Андреа признавалась себе, что испытывает ревность, но не ревность, вызванную тем, что мужчина может полюбить не ее, а другую, но ревность женщины, которая могла бы внушить любовь и ответить на нее.
Она с грустью смотрела на проходящих мимо нее прелестных влюбленных нового двора. Эти дерзкие и пылкие люди не понимали ее и после положенных знаков уважения удалялись; одни, потому что ее холодность проистекала не из философских убеждений, другие же, потому что холодность эта составляла странный контраст с легкостью нравов прошлой эпохи, из которой, казалось бы, пришла Андреа.
И притом люди – и те, что ищут наслаждений, и те, что мечтают о любви, – опасались холодности двадцатипятилетней женщины, красивой, богатой и к тому же любимицы королевы, которая, оледенелая, бледная и молчаливая, бредет в одиночестве по дороге, где наивысшая радость и наивысшее счастье – привлечь к себе всеобщее внимание.
Быть живой загадкой не слишком приятно, и Андреа прекрасно понимала это: она видела, как постепенно перестают замечать ее красоту, в ее уме начинают сомневаться или даже отрицают его. Более того, она видела, что эта отчужденность становится привычкой у старых и инстинктом у новых придворных: уже стало обыкновением не обращаться к м-ль де Таверне и не заговаривать с ней, так же как никому не приходило в голову обратиться к версальским Латоне или Диане, огражденным холодным кольцом черной воды. Обычно бывало так: человек кланялся м-ль де Таверне и, исполнив тем самым долг вежливости, отворачивался и улыбался другой женщине.
Все эти мелочи отнюдь не ускользали от чуткого взора Андреа. Она, чье сердце, познав все муки, не ведало ни единой радости, чувствующая, что годы уходят, ведя за собой на смену бесцветную тоску и мрачные воспоминания, шепотом взывающая к тому, кто не столько прощает, сколько карает, и проводящая мучительные бессонные ночи в созерцании радостей, щедро дарованных счастливым версальским влюбленным, с безысходной горечью вздыхала:
– А я! Господи, а я!
Когда в последний вечер морозов она встретила Шарни и заметила, как взгляд молодого человека с интересом задержался на ней, опутывая ее сетью симпатии, она не увидела в нем той отчужденной сдержанности, какая ощущалась в каждом придворном. Для этого мужчины она была женщиной. Он пробудил в ней молодость, гальванизировал то, что было мертво, заставил покрыться румянцем мрамор Дианы и Латоны.
И м-ль де Таверне неожиданно потянулась к тому, кто возродил ее, заставил почувствовать, что она тоже жива. Ей было приятно смотреть на молодого человека, для которого она не была загадкой. И ей было невыносимо думать, что другая женщина обрежет крылья ее лазоревой иллюзии, отнимет мечту, только-только выпорхнувшую из золотых ворот.
Пусть нас простят за то, что мы так пространно объясняем, почему Андреа не вышла из кабинета королевы и не последовала за Филиппом, хотя и страдала из-за оскорбления, нанесенного ему, так как брат был для нее идолом, составлял предмет чуть ли не религиозного и даже любовного обожания.
М-ль де Таверне не хотела оставлять королеву с де Шарни, однако после изгнания брата вовсе не собиралась участвовать в беседе.
Она уселась у камина, почти повернувшись спиной к группе, образованной сидящей королевой, склонившимся в полупоклоне Шарни и Жанной, стоящей в нише окна, где ее притворная робость нашла убежище, а неподдельное любопытство – удобный наблюдательный пункт.
Королева несколько минут пребывала в молчании, не зная, как начать разговор после только что состоявшегося весьма деликатного объяснения.
У Шарни на лице было написано страдание, но поведение его не вызывало неудовольствия королевы.
Наконец Мария Антуанетта прервала молчание, отвечая и своим мыслям и мыслям присутствующих:
– Все это доказывает, что у нас достаточно врагов. Кто бы поверил, сударь, что при французском дворе происходят столь постыдные вещи? Кто бы подумал?
Шарни ничего не ответил.
– Как вы счастливы, – продолжала королева, – живя на корабле в открытом море под безбрежным небом! Нам, горожанам, толкуют про ярость и злобу волн. Ах, сударь, посмотрите на себя. Разве самые бешеные океанские валы не швыряли в вас в гневе пеной? Разве, когда они раскачивали корабль, вы иногда не падали на палубе? И что же? Взгляните на себя: вы здоровы, вы молоды, вы прославлены.
– Ваше величество!
– А разве англичане в ярости, – все более возбуждалась королева, – не осыпали вас гневом и железом, угрожая вашей жизни? Но что вам с того? Вы невредимы, вы сильны, вы одолели злобу врагов, и король поздравил вас, он благосклонен к вам, а народ знает и прославляет ваше имя.
– О ваше величество! – вновь пробормотал Шарни, со страхом видя все усиливающуюся лихорадочную нервозность Марии Антуанетты.
– К чему это я? – спросила королева. – А вот к чему. Да будут благословенны враги, осыпающие нас огнем и железом, да будут благословенны враги, грозящие нам всего лишь смертью!
– Господи, ваше величество, да у вас не может быть врагов, – возразил Шарни. – Орлу не опасна змея. Все ползающее внизу и привязанное к земле не существует для тех, кто парит в небе.
– Сударь, – с поспешностью ответила королева, – вы, я знаю, вернулись целы и невредимы из сражения, вышли целы и невредимы из бури, и вот вы торжествуете и любимы, меж тем как те, чью репутацию враг чернит ядовитой ложью, подобно тому как это происходит с нами, ничуть не рискуют жизнью, да, не рискуют, но после каждой такой бури они стареют; они приучаются клонить голову из страха встретиться, как сегодня довелось мне, с двойным оскорблением – от друзей и врагов, объединившихся для нападения. И потом, сударь, если бы вы знали, как тяжело понимать, что тебя ненавидят!
Андреа испуганно ждала ответа молодого человека, она боялась услышать сердечное утешение, которого, похоже, домогалась королева.
Однако Шарни, напротив, побледнев, промокнул лоб платком и, ища опоры, ухватился за спинку кресла.
Королева взглянула на него и бросила:
– А не душно ли тут у нас?
Г-жа де Ламотт схватила своей ручкой задвижку и дернула ее с силой, на какую способна разве только мужская рука.
Шарни с наслаждением вдохнул воздуха.
– Господин де Шарни привык к морскому ветру и задыхается в версальских будуарах.
– Вовсе нет, ваше величество, – отвечал Шарни. – Просто мне в два нужно заступать на службу, и если только ваше величество не прикажет мне остаться…
– Что вы, сударь, – промолвила королева. – Мы узнали все, что хотели знать. Не правда ли, Андреа?
Затем она повернулась к Шарни и слегка уязвленным тоном сказала:
– Вы свободны, сударь.
Шарни поклонился с поспешностью человека, торопящегося уйти, и исчез за портьерой.
Через несколько секунд послышалось что-то вроде слабого стона и шум, наподобие того, какой производят сбегающиеся люди.
Королева стояла у двери то ли просто из любопытства, то ли для того, чтобы проследить взглядом за Шарни, чей поспешный уход несколько удивил ее.
Она подняла занавеску, негромко вскрикнула и, казалось, готова была уже броситься в переднюю.
Но Андреа, не упускавшая ее из виду, оказалась между ней и дверью.
– Ваше величество! – предостерегающе промолвила она.
Королева пристально взглянула на Андреа, но та твердо выдержала ее взгляд.
Г-жа де Ламотт вытянула шею.
Между королевой и Андреа оставался небольшой промежуток, и в этот промежуток она могла увидеть, что господин де Шарни потерял сознание и что слуги и гвардейцы поднимают его с пола.
Королева, заметив движение г-жи де Ламотт, тут же закрыла дверь.
Но было уже поздно: г-жа де Ламотт все видела.
Мария Антуанетта, нахмурив брови, в задумчивости подошла к креслу и села; она была исполнена мрачной озабоченности, которая всегда приходит после сильного волнения. Казалось, она забыла, что в комнате есть люди.
Андреа, хоть и осталась стоять, прислонясь к стене, выглядела не менее рассеянной, чем королева.
С секунду все молчали.
– Вот ведь какая странная вещь, – внезапно громко произнесла королева, и эти слова прозвучали так неожиданно, что и Жанна и Андреа вздрогнули. – Мне кажется, господин де Шарни до сих пор не верит.
– Чему не верит, ваше величество? – не поняла Андреа.
– Да тому, что в ту ночь, когда был бал, я не покидала дворца.
– Ваше величество!
– Графиня, вам не кажется, что я права и господин де Шарни так и не поверил? – обратилась королева к г-же де Ламотт.
– Невзирая на слово короля? Это невозможно, ваше величество! – запротестовала Андреа.
– Он мог подумать, что король пришел мне на помощь ради защиты собственной репутации. Нет, он не поверил, не поверил. Это ясно видно.
Андреа прикусила губу.
– Мой брат не столь недоверчив, как господин де Шарни, – заметила она. – По нему было видно, что он вполне убежден.
– Это было бы скверно, – продолжала королева, даже не слушая, что говорит Андреа. – Это означало бы, что сердце молодого человека не столь благородно и чисто, как мне думалось.
И вдруг, гневно хлопнув в ладоши, она воскликнула:
– Но в конце концов, почему он должен поверить, если видел? Граф д'Артуа тоже видел, и господин Филипп тоже, по крайней мере он так утверждает, короче, все видели, и понадобилось ручательство короля, чтобы они поверили или, верней сказать, сделали вид, будто поверили. Нет, за всем этим что-то кроется, и я должна выяснить что, поскольку никто об этом не думает. Андреа, не правда ли, я должна провести розыск и узнать причину всех этих странностей?
– Вы правы, ваше величество, – ответила Андреа, – и я убеждена, что госпожа де Ламотт согласна со мной и тоже считает, что вы должны найти, в чем тут причина. Не правда ли, сударыня?
Захваченная врасплох г-жа де Ламотт вздрогнула и промолчала.
– В конце концов, – продолжала королева, – идут толки, что меня видели у Месмера.
– Ваше величество там были, – с улыбкой торопливо вставила г-жа де Ламотт.
– Да, – согласилась королева, – но я не делала ничего из того, что приписывается мне в памфлете. И потом, меня видели в Опере, но уж там-то я не была.
Королева задумалась и вдруг воскликнула:
– Я знаю, в чем дело!
– Знаете! – пролепетала графиня.
– Прекрасно, – промолвила Андреа.
– Пригласите господина де Крона, – с радостным видом приказала королева вошедшей г-же де Мизери.
Г-н де Крон, человек крайне учтивый, пребывал в некотором замешательстве после объяснения между королем и королевой.
Все-таки это мало приятно – досконально знать тайны женщины, особенно когда эта женщина – королева, и при этом по долгу службы блюсти интересы короны и следить за слухами и сплетнями.
Г-н де Крон предчувствовал, что на него обрушится вся ярость женщины и все негодование королевы, однако он отважно укрепился сознанием долга, а учтивость и светскость должны были послужить ему броней, дабы смягчить первые удары.
Он вступил в кабинет с безмятежным лицом, с улыбкой на устах.
Королева, напротив, не улыбалась.
– Господин де Крон, – сказала она, – давайте-ка теперь и мы с вами объяснимся.
– Всецело к услугам вашего величества.
– Господин начальник полиции, вы обязаны знать причину того, что произошло со мной!
Г-н де Крон с несколько растерянным видом оглянулся вокруг.
– Не опасайтесь, – бросила ему королева, – вы прекрасно знаете этих дам. Вы же знаете всех и вся.
– Да, – согласился начальник полиции, – я немножко знаю людей, знаю последствия, но не знаю причины, о которой соблаговолили сказать ваше величество.
– В таком случае мне придется огорчить вас и сообщить ее, – объявила королева, раздосадованная невозмутимостью начальника полиции. – Разумеется, я могла бы объявить вам свою тайну наедине и шепотом, как и положено говорить о тайнах, но теперь я осмеливаюсь говорить об этом открыто и громко. Так вот, я приписываю все последствия, как вы их изволили назвать, последствия, на которые я приношу жалобу, недостойному поведению некой особы, похожей на меня, которая выставляет себя напоказ всюду, где, как вы утверждаете, сударь, видели меня вы либо ваши агенты.
– Сходство! – воскликнул г-н де Крон, слишком озабоченный тем, как выдержать атаку королевы, и потому не обративший внимание ни на внезапный испуг Жанны, ни на восклицание Андреа.
– Что же, господин начальник полиции, вы считаете это предположение неправдоподобным? Вы предпочитаете думать, что либо я, либо вы ошибаемся?
– Ваше величество, этого я не говорил, но каково бы ни было сходство той женщины с вашим величеством, оно все-таки не может быть настолько велико, чтобы ее могли принять за вас.
– И тем не менее могли, потому что приняли.
– И я приведу кое-что в подтверждение слов вашего величества, – вмешалась Андреа.
– Да?
– Когда мы с отцом жили в Таверне-Мезон-Руж, у нас была служанка, которая по какой-то странной игре природы была…
– Похожа на меня?
– Как две капли воды, ваше величество.
– И где же эта девушка? Что с ней стало?
– В ту пору мы еще не знали, сколь ваше величество благородны, возвышенны, великодушны. Отец боялся, что такое сходство не понравится королеве, и потому, оказавшись в Трианоне, мы скрывали эту девушку от всех придворных.
– Вот видите, господин де Крон. А, вас это заинтересовало!
– Весьма, ваше величество.
– Что же было дальше, дорогая Андреа?
– Девушка эта обладала неспокойным, честолюбивым характером, ей надоело жить в уединении. Видимо, она свела дурные знакомства, и однажды вечером, ложась спать, я с удивлением обнаружила, что она исчезла. Ее искали. Никаких следов. Она скрылась.
– Надо думать, она что-нибудь украла у вас?
– Нет, ваше величество, у меня тогда ничего не было.
Жанна со вполне объяснимым интересом прислушивалась к разговору.
– И вам, господин де Крон, ничего об этом не известно? – осведомилась королева.
– Ничего, ваше величество.
– Выходит, существует женщина, поразительно похожая на меня, а вам об этом ничего не известно! В королевстве происходит столь важное событие, которое становится причиной серьезных беспорядков, и вы узнаете об этом отнюдь не первым! В таком случае ответьте, хороша ли ваша полиция?
– Заверяю вас, ваше величество, она не так уж плоха. Предоставим черни возносить начальника полиции чуть ли не до уровня Господа Бога, поскольку ваше величество, восседающая безумно высоко надо мной, на самом земном Олимпе, прекрасно знает, что королевские полицейские – всего лишь люди. Я отнюдь не повелеваю событиями, тем более что среди них случаются настолько странные, что человеческий разум едва способен их воспринять.
– Милостивый государь, если человек обретает всю возможную власть, чтобы проникать чуть ли не в мысли себе подобных, если через своих полицейских он оплачивает шпионов, если через шпионов он осведомлен обо всем, вплоть до малейших моих жестов перед зеркалом, и если потом вдруг оказывается, что этот человек не направляет события…
– Когда ваше величество провели ночь вне своих покоев, я знал об этом. Так ли уж плоха моя полиция? Это было в тот день, когда ваше величество ездили на улицу Сен-Клод на Болоте посетить вот эту даму. Но меня это не касается. Когда вы отправились с госпожой де Ламбаль к Месмеру, моя полиция оказалась вполне хороша, потому что агенты вас там видели. Когда вы пошли в Оперу…
Королева резко вскинула голову.
– Ваше величество, позвольте мне продолжить. Я говорю вам то же, что сказал его высочество граф д'Артуа. Если ваш деверь ошибся, приняв за вас другую, то ошибка полицейского агента, получающего в день жалкое экю, вполне извинительна. Агент полагал, что видел вас, и так мне и доложил. Так что в тот день моя полиция была еще вполне хороша. Быть может, ваше величество скажет, что мои агенты плохо проследили происшествие с газетчиком Рето, которому задал изрядную трепку господин де Шарни?
– Господин де Шарни? – разом воскликнули Андреа и королева.
– Событие это достаточно свежее, и спина газетчика еще болит от ударов трости. Подобные приключения способствовали успеху моего предшественника господина де Сартина, который с изрядным остроумием рассказывал про них покойному королю или его фаворитке.
– Господин де Шарни расправился с этим мерзавцем. Я узнал об этом, ваше величество, только благодаря моей оклеветанной полиции, и вы должны признать, что ей потребовалась некоторая сообразительность, чтобы узнать, что за этим происшествием последовала дуэль.
– Господин де Шарни дрался на дуэли? – воскликнула королева.
– С газетчиком? – спросила Андреа.
– Нет, что вы. Газетчик получил такую трепку, что не смог бы нанести господину де Шарни удар шпагой, от которого тому стало дурно у вас в передней.
– Он ранен? Ранен? – вскричала королева. – Но когда? Как? Господин де Крон, вы ошибаетесь.
– Ваше величество так часто считает меня оплошавшим, что на сей раз могли бы признать мою правоту.
– Но он только что был здесь.
– Я знаю.
– Ах, но я же видела, что ему плохо, – сказала Андреа.
Она так это произнесла, что королева, которой в ее тоне почудилась враждебность, резко повернулась к Андреа.
Взгляд королевы был похож на фехтовальный выпад, но Андреа решительно отразила его.
– Как! – возмутилась Мария Антуанетта. – Вы видели, что господину де Шарни плохо, и не сказали мне?
Андреа промолчала. Жанна решила прийти на помощь королевской любимице, так как задумала втереться к ней в дружбу.
– Мне тоже показалось, – заметила она, – что господин де Шарни во время разговора с вашим величеством с трудом стоял на ногах.
– Да, именно с трудом, – надменно подтвердила Андреа, не соблаговолив даже взглядом поблагодарить Жанну.
Г-н де Крон, вызванный для отчета, мог теперь в свое удовольствие и без помех наблюдать за тремя женщинами, две из которых – Жанна не относилась к их числу – забыли, что рядом с ними находится начальник полиции.
Но тут королева вновь обратилась к г-ну де Крону:
– Сударь, с кем и по какой причине дрался на дуэли господин де Шарни?
За это время Андреа успела овладеть собой.
– С дворянином, который… Но, помилуй Бог, ваше величество, теперь это уже не имеет значения. Сейчас оба противника в наилучших отношениях, потому что совсем недавно они разговаривали в присутствии вашего величества.
– В моем присутствии? Здесь?
– Да, здесь. И победитель вышел отсюда первым минут, пожалуй, двадцать тому назад.
– Господин де Таверне! – воскликнула королева, и глаза ее сверкнули гневом.
– Брат! – прошептала Андреа, мысленно коря себя, что оказалась такой эгоисткой и не поняла сразу, в чем дело.
– Да, полагаю, что именно с господином де Таверне и дрался господин де Шарни, – подтвердил начальник полиции.
Королева громко хлопнула в ладоши, что свидетельствовало о сильнейшей ярости.
– Это неприлично… неприлично… – повторяла она. – Как! Переносить американские нравы в Версаль! Нет, я этого не потерплю.
Андреа опустила голову, г-н де Крон тоже.
– Выходит, оттого что он бродил по лесам с господами Лафайетом и Вашингтоном, – королева намеренно произнесла эту фамилию на французский манер, – мой двор должен теперь превратиться в турнирное поле шестнадцатого века? Нет, и еще раз нет. Андреа, вы должны знать, что ваш брат дрался на дуэли.
– Да, теперь я знаю, ваше величество, – ответила Андреа.
– Из-за чего он дрался?
– Мы можем спросить об этом у господина де Шарни, который дрался с ним, – побледнев и сверкнув глазами, ответила Андреа.
– Я спрашиваю, – высокомерно заметила королева, – не о том, что делал господин де Шарни, а о том, что делал господин де Таверне.
– Если мой брат дрался, то не иначе как служа вашему величеству, – чеканя каждое слово, парировала Андреа.
– То есть вы хотите сказать, мадемуазель, что господин де Шарни дрался из противоположных соображений?
– Я имею честь заметить вашему величеству, что говорю только о своем брате, а не о других лицах, – все так же чеканя слова, возразила Андреа.
Королева сдержалась, но для этого ей пришлось собрать все силы.
Она встала с кресла, обошла комнату, сделала вид, будто смотрится в зеркало, взяла с лаковой этажерки книгу, пробежала несколько строчек и отбросила ее.
– Благодарю вас, господин де Крон, – обратилась она к начальнику полиции, – вы убедили меня. Я была несколько расстроена всеми этими сообщениями, лживыми вымыслами. Да, полиция у нас неплохая, сударь, но я прошу вас, подумайте насчет того сходства, о котором я вам говорила. Надеюсь, сударь, вы не забудете? Прощайте.
Она благосклонно протянула ему руку, и г-н де Крон вышел безмерно осчастливленный и переполненный новыми наблюдениями и сведениями.
Андреа почувствовала некий оттенок в слове «прощайте» и присела в медлительном, церемонном реверансе. Королева попрощалась с нею небрежно, но без видимого раздражения.
Жанна, собираясь попросить позволения удалиться, склонилась перед королевой, словно перед алтарем.
Вошла г-жа де Мизери.
– Ваше величество обещали принять господ Бемера и Босанжа? – спросила она у королевы.
– Совершенно верно, дорогая Мизери, совершенно верно. Пусть войдут. Госпожа де Ламотт, останьтесь, я хочу, чтобы король окончательно помирился с вами.
Говоря это, королева следила в зеркале за выражением лица Андреа, которая неторопливо шла к двери кабинета.
Возможно, Мария Антуанетта, проявляя благосклонность к новой любимице, хотела уязвить Андреа и вызвать в ней ревность. Однако Андреа, не нахмурившись, не вздрогнув, скрылась за гобеленовой портьерой.
– Сталь! Сталь! Ей-богу, эти Таверне из чистой стали, но и из золота, – вздохнула королева и тут же с улыбкой обратилась к вошедшим Бемеру и Босанжу: – Здравствуйте, господа ювелиры. Что новенького вы мне принесли? Вы же знаете, у меня нет денег.
Г-жа де Ламотт вновь заняла свой пост – стоя в удалении, как и подобает женщине скромной и незначительной, но в то же время жадно прислушиваясь, раз уж ей позволили остаться и слушать.
Гг. Бемер и Босанж, парадно одетые, не переставая кланялись, пока не приблизились к креслу королевы.
– Ювелиры, – неожиданно заговорила она, – приходят сюда лишь затем, чтобы предложить драгоценности. Вы выбрали неподходящее время, господа.
Слово взял г-н Бемер, по обоюдному согласию всегда выступавший оратором.
– Ваше величество, – начал он, – мы явились к вам вовсе не с предложением покупки, мы не решились бы оказаться столь навязчивыми.
– Вот как? – удивилась королева, уже раскаиваясь, что проявила излишнее легкомыслие, пусть даже в разговоре о драгоценностях. – Вы ничего не намерены мне продать?
– Ни в коем случае, ваше величество, – продолжил Бемер, пытаясь поймать нить мысли. – Мы явились исполнить свой долг, и только это придало нам смелости.
– Долг… – недоуменно повторила королева.
– Речь идет о том прекрасном бриллиантовом ожерелье, которое ваше величество не соблаговолили взять.
– Ах, вот как, ожерелье… Так что же, мы снова возвращаемся к нему? – рассмеялась королева.
Бемер сохранял полнейшую серьезность.
– Да, действительно, господин Бемер, ожерелье прекрасное, – вздохнула Мария Антуанетта.
– Настолько прекрасное, что ваше величество – единственная, кто достоин его носить.
– Утешает меня только одно, – произнесла королева с чуть заметным вздохом, но вздох этот не укрылся от г-жи де Ламотт, – что стоит оно… полтора миллиона, так, кажется, господин Бемер?
– Да, ваше величество.
– А это значит, – продолжала королева, – что в наши благословенные времена, когда сердца народов охладели так же, как Божье солнце, уже нет монархов, которые могли бы купить бриллиантовое ожерелье за полтора миллиона ливров.
– Полтора миллиона! – повторила, словно эхо, г-жа де Ламотт.
– Таким образом, господа, то, что я не могу купить да и не должна покупать, не получит никто. Вы мне скажете, что оно и по частям прекрасно. Да, вы правы, но я не буду завидовать из-за двух или трех камней: я способна позавидовать только обладательнице шестидесяти.
И королева с удовлетворением потерла руки, причем удовлетворение это проистекало и от желания несколько поставить на место гг. Бемера и Босанжа.
– В этом ваше величество как раз заблуждается, – заметил г-н Бемер, – и именно потому мы хотели исполнить наш долг по отношению к вашему величеству. Ожерелье продано.
– Продано! – воскликнула королева, повернувшись к ним.
– Продано! – повторила г-жа де Ламотт, у которой такая реакция возбудила недоверие к кажущемуся самоотречению ее покровительницы.
– И кому же? – поинтересовалась королева.
– Ваше величество, это государственная тайна.
– Ах, государственная тайна! Прекрасно, мы можем посмеяться, – весело воскликнула королева. – То, о чем не говорят, часто становится тем, о чем не смогут не говорить, не правда ли, Бемер?
– Ваше величество…
– Ох, уж эти мне государственные тайны! Но мы-то с ними на короткой ноге. Имейте в виду, Бемер, если вы мне не выдадите вашу тайну, я велю ее украсть господину де Крону.
И королева искренне расхохоталась, демонстрируя тем самым свое отношение к так называемой тайне, препятствующей Бемеру и Босанжу назвать имя покупателей ожерелья.
– С вашим величеством, – степенно промолвил Бемер, – нельзя поступать так, как с прочими клиентами. Мы явились к вашему величеству, чтобы сообщить, что ожерелье продано, так как оно действительно продано, и мы не можем назвать имя покупателя, поскольку сделка была совершена втайне и для ее заключения приехал посол инкогнито.
При слове «посол» у королевы начался новый приступ смеха. Она повернулась к г-же де Ламотт и бросила:
– Особенно меня умиляет в Бемере его способность верить в то, что он сейчас мне сказал. Ну, Бемер, назовите мне только страну, откуда прибыл этот посол. Нет, это уже будет чересчур, – со смехом заметила Мария Антуанетта. – Скажите лишь первую букву ее названия. Ну?
Она снова залилась смехом.
– Это его превосходительство посол Португалии, – сообщил Бемер, понизив голос, словно бы для того, чтобы сберечь тайну хотя бы от г-жи де Ламотт.
Услышав столь недвусмысленное и определенное признание, королева вдруг перестала смеяться.
– Посол Португалии? – переспросила она. – Но его же здесь нет, Бемер.
– Он нарочно приехал, ваше величество.
– К вам… инкогнито?
– Да, ваше величество.
– И кто же он?
– Господин да Суза.
Королева не промолвила ни слова. Несколько секунд она молча покачивала головой и лишь потом с видом женщины, примирившейся со своей судьбой, проговорила:
– Что ж, я рада за ее величество королеву Португалии: бриллианты действительно прекрасны. Не будем больше об этом говорить.
– Напротив, ваше величество, благоволите позволить мне говорить о них… то есть позволить нам, – поправился Бемер, взглянув на компаньона.
Босанж поклонился.
– Графиня, а вы видели эти камни? – спросила королева, глянув на Жанну.
– Нет, ваше величество.
– Поразительно красивые!.. Как жаль, что господа ювелиры не захватили их с собой.
– Вот они, – поспешно произнес Босанж. И он достал из шляпы, которую держал под мышкой, маленький плоский футляр, скрывавший драгоценное ожерелье.
– Взгляните, взгляните, графиня, вы – женщина, вам это понравится, – сказала королева.
И она чуть отодвинулась от севрского столика, на который Бемер как раз выложил ожерелье, причем выложил так умело, что свет, падая на камни, заиграл на их многочисленных гранях. Жанна восхищенно вскрикнула. И впрямь, это было поразительно прекрасно: вспышки огней, то зеленых, то красных, то бесцветных, как свет. Бемер покачивал футляр, заставляя переливаться этот поток текучего пламени.
– Восхитительно! Восхитительно! – повторяла Жанна, охваченная лихорадочным восторгом.
– Полтора миллиона ливров, которые поместятся на ладони, – произнесла королева с подчеркнуто философической бесстрастностью, какую выказал бы в подобных обстоятельствах г-н Руссо из Женевы.
Но Жанна в этом пренебрежении увидела нечто иное, а не только пренебрежение; она не теряла надежды переубедить королеву и после долгого созерцания ожерелья сказала:
– Господин ювелир прав: только одна королева в целом свете достойна носить такое ожерелье, и это вы, ваше величество.
– И тем не менее мое величество не будет носить его, – ответила Мария Антуанетта.
– Мы не могли, не смели позволить уйти ожерелью из Франции, не принеся к стопам вашего величества наши безмерные сожаления. Это украшение теперь знает и оспаривает вся Европа. Если какая-нибудь монархиня наденет его вследствие отказа королевы Франции, наша национальная гордость смирится с этим, но для этого необходимо, чтобы ваше величество еще раз окончательно и бесповоротно отказались от ожерелья.
– Я уже отказалась от него, и отказалась публично, – ответила королева. – Меня слишком громко восхваляли за этот отказ, чтобы я могла раскаиваться в нем.
– О ваше величество, – промолвил Бемер, – если народ восхищался тем, что ваше величество предпочли ожерелью корабль, дворянство, которое, между прочим, тоже французы, не нашло бы ничего странного в том, что королева, приобретя военный корабль, приобрела ожерелье.
– Не будем больше говорить об этом, – сказала королева, бросая последний взгляд на футляр.
Жанна вздохнула, можно сказать, вместе с королевой.
– Вы вздыхаете, графиня? Поверьте, будь вы на моем месте, вы поступили бы точно так же.
– Не знаю, не знаю, – пробормотала Жанна.
– Ну как, насмотрелись? – поспешила спросить королева.
– Ах, ваше величество, я все еще любуюсь.
– Позвольте, господа, ей еще полюбоваться. Право же, от бриллиантов не убудет: они как стоили, так и стоят полтора миллиона ливров. К сожалению.
Это последнее слово дало Жанне удобный повод заговорить.
Королева сожалеет, следовательно, ей хочется иметь это ожерелье. Раз ей хочется его иметь, значит, она страдает от неутоленного желания.
Такова, надо думать, была логика Жанны, потому что она сказала:
– Эти полтора миллиона ливров на вашей шее заставили бы умереть от зависти любую женщину, будь она даже Клеопатрой или Венерой.
И, взяв из футляра царственное ожерелье, Жанна с ловкостью и очаровательной непосредственностью застегнула его на шее Марии Антуанетты, так что в мгновение ока ее атласную кожу залили фосфорически переливающиеся отсветы.
– Ах, государыня, как вы величественны! – воскликнула Жанна.
Мария Антуанетта чуть ли не бросилась к зеркалу; увидев себя, она пришла в восторг.
Ее изящная шея, столь же гибкая, как у Джейн Грей[102], изысканная, как стебель лилии, шея, которой, подобно цветку Вергилия, суждено было пасть под ударом стального лезвия, с непередаваемым изяществом несла в обрамлении вьющихся золотистых локонов струю мерцающих огней. Жанна осмелилась приоткрыть плечи королевы, чтобы последние ряды бриллиантов легли на мраморную грудь. Да, то была блистательная королева и прекрасная женщина. Любой, будь то возлюбленный или подданный, пал бы к ее ногам. Забыв обо всем на свете, Мария Антуанетта любовалась собой. Но вдруг она стала с испугом снимать ожерелье, говоря:
– Достаточно, достаточно.
– Оно коснулось вашего величества и больше не может принадлежать никому! – воскликнул Бемер.
– Это невозможно, – твердо заявила королева. – Господа, я немножко поиграла с бриллиантами; но продолжать игру было бы ошибкой.
– У вашего величества есть достаточно времени, чтобы свыкнуться с этой мыслью, – вкрадчиво произнес Бемер. – Завтра мы вернемся.
– Позже платить – все равно платить. И потом, что значит позже платить? Вы же торопитесь. С вами, вне всяких сомнений, расплачиваются на самых выгодных условиях.
– Да, ваше величество, наличными, – мгновенно ответил Бемер.
Торговец всегда остается торговцем.
– Забирайте! Забирайте! – воскликнула королева. – спрячьте бриллианты в футляр. Живей! Живей!
– Ваше величество, очевидно, забыли, что подобный драгоценный убор – это деньги. И через сто лет ожерелье будет стоить столько же, сколько сейчас.
– Графиня, дайте мне полтора миллиона ливров, – с принужденной улыбкой обратилась королева к Жанне, – и тогда посмотрим.
– Ах, если бы они у меня были! – вскричала Жанна и умолкла. Многословные излияния всегда проигрывают умелой недоговоренности.
Напрасно Бемер и Босанж добрых четверть часа укладывали и закрывали ожерелье, королева не встала, не подошла к ним.
И все же по ее взволнованному лицу, по молчанию было ясно: борьба с собой дается ей трудно.
Королева, как всегда, когда она испытывала досаду, схватила книгу и, не читая, перелистала несколько страниц.
Попросив позволения удалиться, ювелиры задали вопрос:
– Ваше величество отказывается?
– Да, и еще раз да, – вздохнула Мария Антуанетта, на сей раз уже явно.
Ювелиры ушли.
Жанна заметила, что королева нервно постукивает ногой по бархатной подушке: на ней даже была небольшая вмятина.
«Страдает», – подумала графиня, стоя на том же месте.
Вдруг королева поднялась, обошла комнату и остановилась перед Жанной, которая гипнотизировала ее взглядом.
– Графиня, – отрывисто произнесла она, – похоже, король не придет. Отложим наше прошение до ближайшей аудиенции.
Жанна почтительно поклонилась и, пятясь, дошла до двери.
– Но я подумаю о вас, – милостиво добавила королева. Жанна приложилась губами к ее руке так, словно тем самым вручала ей сердце, и вышла, оставив королеву во власти огорчений и расстройства.
«Огорчение бессилия, расстройство от неутоленного желания, – мысленно сказала себе Жанна. – И она – королева! О нет, она – женщина!» С этой мыслью графиня покинула дворец.
18. Два честолюбия, готовые перейти в любовь
Жанна хоть и не была королевой, но была женщиной.
Поэтому, расположившись в карете, она принялась сравнивать прекрасный Версальский дворец, богатую, роскошную обстановку с бывшей своей комнатой на пятом этаже на улице Сен-Жиль, величественных лакеев – со своей старой служанкой.
Но почти мгновенно жалкая мансарда и старуха служанка растаяли в тумане прошлого, подобно тем видениям, что, исчезнув, перестают существовать. И Жанне представился ее домик в Сент-Антуанском предместье, такой изысканный, такой изящный, такой комфортабельный, как сказали бы в наши дни, и лакеи, пусть не в так богато расшитых ливреях, но столь же почтительные и услужливые. Этот дом и эти лакеи были ее собственным Версалем, там она была королевой не меньше, чем Мария Антуанетта; любое ее желание, если только оно не выходило за пределы, нет, не скажем, необходимого, но разумного, исполнялось так же точно и быстро, как если бы у нее был скипетр.
Эти мысли способствовали тому, что Жанна вернулась к себе с сияющим лицом и улыбкой на устах. Час был еще не поздний; она взяла бумагу, перо, чернила, написала несколько строчек, вложила листок в надушенный тонкий конверт и позвонила.
Звонок не успел умолкнуть, а дверь уже отворилась, и на пороге появился лакей.
– Да, я была права: даже королеве служат не лучше, – пробормотала Жанна, после чего, протянув конверт, сказала: – Письмо его высокопреосвященству кардиналу де Рогану.
Лакей подошел, взял конверт и, не произнеся ни слова, с безмолвной исполнительностью, отличающей слуг из хороших домов, вышел.
Графиня впала в глубокую задумчивость, но причина последней была отнюдь не новой – она была связана с мыслями, которые Жанна обдумывала в дороге.
Не прошло и пяти минут, как в дверь заскреблись.
– Войдите! – крикнула графиня де Ламотт. Появился тот же лакей.
– В чем дело? – поинтересовалась г-жа де Ламотт с легким недовольством, оттого что приказ ее до сих пор не исполнен.
– Я вышел, чтобы исполнить приказ вашего сиятельства, – доложил лакей, – а в дверь как раз стучится его высокопреосвященство. Я сказал, что послан к нему во дворец. Он взял у меня письмо вашего сиятельства, прочитал и выскочил из кареты, сказав: «Отлично! Доложите обо мне».
– И что же дальше?
– Его высокопреосвященство здесь, он ждет, угодно ли будет вашему сиятельству принять его.
Губы графини тронула чуть заметная улыбка. Секунды через две она с явным удовлетворением сказала:
– Просите.
Зачем нужны были г-же де Ламотт эти две секунды – чтобы заставить князя церкви ждать у нее в передней или чтобы окончательно обдумать и завершить свой план?
Вошел принц.
А был ли готов у Жанны план, когда она вернулась к себе и послала за кардиналом, когда так обрадовалась, узнав, что кардинал уже здесь?
Да, потому что прихоть королевы, подобная одному из тех блуждающих огоньков, что озаряют долину во время мрачных и страшных событий, прихоть королевы, но, главное, все-таки женщины, открыла взору графини-интриганки все тайные извивы души, слишком к тому же горделивой, чтобы принимать предосторожности и скрывать их.
Дорога из Версаля в Париж долгая, и, когда рядом сидит бес алчности, у него оказывается вполне достаточно времени, чтобы нашептать на ухо самые дерзкие, самые корыстные планы.
У Жанны закружилась голова от суммы в полтора миллиона ливров, олицетворенных в бриллиантах гг. Бемера и Босанжа, что сияли на белом атласе футляра. Да и то сказать, разве полтора миллиона ливров не могли показаться княжеским богатством любому, а уж подавно бедной попрошайке, которая еще не забыла, как протягивала к сильным мира сего руку за подаянием.
Конечно, расстояние от Жанны де Валуа с улицы Сен-Жиль до Жанны де Валуа из Сент-Антуане кого предместья было куда длиннее, чем от Жанны де Валуа из Сент-Антуанского предместья до Жанны де Валуа, обладательницы ожерелья.
Она уже проделала большую половину пути, ведущего к богатству.
И это богатство, которого так алкала Жанна, не было некоей иллюзией наподобие слова «договор», наподобие землевладения, которые, несомненно, являются первостепенными видами собственности, но для постижения которых нужно напрячь умственные способности либо зрение.
Нет, ожерелье было нечто иное, нежели договор или земля; ожерелье было богатством зримым, оно существовало, стояло перед глазами, сверкая и очаровывая, а поскольку королева желала его, Жанна де Валуа тоже могла помечтать о нем; поскольку же королева сумела от него отказаться, г-жа де Ламотт тоже вполне могла ограничить в отношении него свои амбиции.
И вот тысячи неопределенных мыслей, этих странных призраков с туманными очертаниями, о которых поэт Аристофан[103] говорил, что они уподобляются людям в момент, когда те охвачены страстями, желание, какая-то неистовая страсть завладеть ожерельем – все это, пока Жанна ехала из Версаля в Париж, терзало ее наподобие волков, лисиц и крылатых змей.
Кардинал, который должен был осуществить ее мечты, прервал их течение, неожиданно явившись и тем самым отвечая желанию г-жи де Ламотт видеть его.
У него тоже были свои мечты и честолюбивые устремления, которые он укрывал под маской предупредительности, изображая влюбленного.
– Наконец-то я вижу вас, дорогая Жанна! – воскликнул он. – Вы поистине стали необходимы мне, и весь мой день омрачается мыслью, что вы далеко от меня. Надеюсь, вы в добром здравии вернулись из Версаля?
– Как видите, ваше высокопреосвященство.
– И довольны?
– Восхищена.
– Значит, королева приняла вас?
– Как только я приехала, меня провели к ней.
– Вам повезло. Судя по вашему торжествующему виду, готов биться об заклад, что королева говорила с вами.
– Я провела почти три часа в кабинете ее величества.
Кардинал вздрогнул, и лишь малого недоставало, чтобы он восторженно не повторил вслед за Жанной: «Три часа!»
Но он сдержался.
– Вы поистине волшебница, – промолвил он, – никто не в силах противиться вам.
– О принц, вы преувеличиваете.
– Скажите, вы вправду провели у королевы три часа?
Жанна кивнула.
– Три часа! – с улыбкой протянул кардинал. – О чем только не успеет переговорить умная женщина за три часа!
– Заверяю вас, монсеньор, времени даром я не теряла.
– Готов прозакладывать голову, – забросил удочку кардинал, – что за все эти три часа вы ни минуты не думали обо мне.
– Неблагодарный!
– Вот как? – бросил кардинал.
– Я не только думала о вас, я сделала куда больше.
– Что же?
– Я говорила о вас.
– Говорили обо мне? С кем же? – осведомился прелат, чье сердце лихорадочно заколотилось, а голос, несмотря на все усилия сдержаться, все-таки выдал волнение.
– С кем же, как не с королевой?
Произнеся эти столь сладостные для слуха кардинала слова, Жанна ухитрилась не взглянуть в лицо собеседнику, словно ее ничуть не интересовало произведенное ею впечатление.
Внутри у г-на Рогана все оборвалось.
– О, расскажите, дорогая графиня! Право же, все связанное с вами настолько интересует меня, что я буду умолять вас не упустить ни единой подробности.
Жанна улыбнулась; она не хуже кардинала знала, что интересует его.
Она заранее мысленно составила подробнейший рассказ и, несомненно, если бы кардинал не попросил ее, сама перешла бы к нему; неспешно, растягивая каждый слог, она начала повествование обо всех встречах, обо всех беседах, и каждое ее слово служило доказательством, что по счастливой случайности, одной из тех, какие делают судьбу придворных, она оказалась в Версале как раз тогда, когда сложились особые обстоятельства, благодаря которым она, чужачка, одним махом стала чуть ли не первейшей подругой королевы. Да и то сказать, Жанна де Ламотт нежданно-негаданно оказалась посвященной во все горести королевы, узнала всю ограниченность королевской власти.
Г-н де Роган, казалось, запоминал из рассказа только то, что королева говорила относительно Жанны.
Жанна же в своем повествовании больше упирала на то, что королева говорила насчет г-на де Рогана.
Рассказ только-только был завершен, как тут же вошел тот самый лакей и доложил, что ужинать подано.
Жанна взглядом пригласила кардинала. Кардинал кивком дал согласие отужинать.
Он подал руку хозяйке дома, весьма быстро привыкшей к своему новому положению, и повел ее в столовую.
Когда ужин подошел к концу и кардинал неспешно, смакуя, пил напиток любви и надежды, слушая рассказ волшебницы, которая раз двадцать прерывала и вновь возобновляла его, он вдруг понял, что отныне ему придется считаться с этой женщиной, держащей в руке монаршие сердца.
И еще он заметил, с удивлением, граничащим с испугом, что вместо того, чтобы дорожиться, как это сделала любая женщина, внимания которой домогаются и которая чувствует, что она нужна, Жанна сама идет навстречу желаниям собеседника с готовностью, весьма отличной от той гордой неприступности, которую она проявляла на прошлом ужине, происходившем в этом же доме и в этой же столовой. На сей раз, принимая у себя гостя, Жанна вела себя как женщина, которая вольна распоряжаться не только собою, но и другими. Ни малейшего стеснения во взгляде, никакой сдержанности в голосе. Разве не провела она целый день с цветом французского дворянства, беря уроки высокого аристократизма? Разве несравненная королева не называла ее «дорогая графиня»? Словом, кардинал, сам будучи выдающимся человеком, не смог противиться этому сознанию превосходства и покорился.
– Графиня, – сказал он, взяв ее за руку, – в вас кроются две женщины.
– Какие же? – спросила графиня.
– Вчерашняя и сегодняшняя.
– И какую же предпочитает ваше высокопреосвященство?
– Даже не знаю. Но только сегодняшняя – это Армида, Цирцея[104], нечто неотразимое.
– Которой вы, надеюсь, не собираетесь оказывать сопротивление, хоть вы и принц?
Принц соскользнул со стула и пал к ногам г-жи де Ламотт.
– Вы просите милостыни? – поинтересовалась она.
– И жду, что вы мне ее подадите.
– Сегодня день щедрости, – сказала Жанна. – Графиня де Валуа получила подобающее ей место, она принята ко двору и, еще немного, станет одной из самых надменных женщин в Версале. Так что она вполне может протянуть руку, кому ей заблагорассудится.
– Даже если это будет принц? – спросил г-н де Роган.
– Даже если это будет кардинал, – ответила Жанна.
Кардинал запечатлел долгий и пылкий поцелуй на этой прелестной своенравной ручке, после чего, задав взглядом вопрос и прочтя утвердительный ответ в глазах и улыбке Жанны, встал. Он вышел в переднюю и что-то сказал своему скороходу.
Минуты через две раздался стук колес отъезжающей кареты. Графиня подняла голову.
– Все, графиня, я сжег свои корабли, – объявил кардинал.
– Но в этом нет большой доблести, – заметила графиня, – потому что вы уже в гавани.
19. Глава, в которой из-под масок показываются лица
Долгие разговоры являются счастливой привилегией людей, которым нечего сказать друг другу. После блаженства молчать и желать, бесспорно, не меньшее блаженство – много и долго разговаривать без слов.
Спустя два часа после отсылки кареты кардинал и графиня как раз дошли до такого состояния, о котором мы говорим. Графиня сдалась, кардинал победил, и, однако же, кардинал был рабом, а графиня победительницей.
Двое мужчин обманываются, подавая друг другу руки. Мужчина и женщина обманываются, целуясь.
Но здесь каждый обманывал друг друга лишь потому, что другой хотел быть обманутым.
У каждого была своя цель. Для достижения ее необходимо было сближение. Так что каждый достигал своей цели.
Кардинал даже не дал себе труда скрывать нетерпение. Он лишь ограничился ничтожной уловкой, переведя разговор на Версаль и на почести, которые ожидают новую любимицу королевы.
– Королева великодушна, – заметил он, – и ничего не жалеет для тех, кого любит. У нее редкостное умение давать мало многим и много немногим друзьям.
– Так вы полагаете, что она богата? – спросила г-жа де Ламотт.
– Она умеет добывать средства одним-единственным словом, жестом, улыбкой. Ни один министр, за исключением, быть может, Тюрго[105], не отваживался отказать, когда королева что-либо просила.
– А вот я, – сказала г-жа Ламотт, – видела королеву, не столь богатую, как вы рассказываете. То была бедная королева или, вернее, бедная женщина.
– Как это понимать?
– Можно ли назвать богатым человека, вынужденного обрекать себя на лишения?
– На лишения? Ну-ка, ну-ка, дорогая Жанна, рассказывайте.
– Я расскажу лишь то, чему была свидетельницей, ничего не убавляя и не прибавляя.
– Я весь внимание.
– Представьте себе жесточайшие пытки, которые претерпела эта несчастная королева.
– Пытки? Какие же?
– Дорогой принц, известно ли вам, что это такое – желание женщины?
– Нет, но я жажду, графиня, чтобы вы просветили меня.
– Так вот, у королевы есть одно несбыточное желание.
– И кого же она желает?
– Не кого, а что.
– Хорошо, что же она желает?
– Бриллиантовое ожерелье.
– Погодите, погодите. Уж не имеете ли вы в виду бриллианты Бемера и Босанжа?
– Именно их.
– Ну, графиня, это давняя история.
– Давняя она или новая – неважно. И все же скажите, разве не должна приводить королеву в совершенное отчаяние невозможность получить то, что едва не получила простая фаворитка. Проживи Людовик XV еще две недели, и Жанна Вобернье[106] имела бы то, что недостижимо для Марии Антуанетты.
– А вот тут, дорогая графиня, вы заблуждаетесь. Королева раз пять-шесть могла получить эти бриллианты, но всякий раз отказывалась.
– Вот как?
– Уверяю вас, король предлагал ей ожерелье, но она отказалась принять его даже из рук короля.
И кардинал рассказал историю с военным кораблем. Жанна жадно слушала, но, когда кардинал закончил, бросила:
– Ну и что?
– Как это – ну и что?
– Что все это доказывает?
– Думаю, что она их не хотела.
Жанна пожала плечами.
– Да неужто вы, знающий женщин, знающий двор, знающий королей, можете поверить в это?
– Бог мой, я просто говорю, что она отказалась.
– Мой дорогой принц, это свидетельствует лишь об одном: королеве нужно было произнести красивое слово, которое снискало бы ей популярность, что она и сделала.
– Так вот какова ваша вера в королевские добродетели, – усмехнулся кардинал. – Экий же вы скептик! Да в сравнении с вами апостол Фома – пламенный верующий.
– Пусть я скептик, пусть я верующая, но в одном я вас уверяю…
– В чем же?
– В том, что королева, хоть и отказалась от ожерелья, безумно жаждет иметь его.
– Дорогая моя, все это ваши выдумки. Поверьте мне, у королевы при всех ее недостатках есть одно великое достоинство.
– Какое?
– Она бескорыстна! Она равнодушна к золоту, серебру, к драгоценным камням. Она ценит минералы по их качествам, и для нее цветок, приколотый к корсажу, равноценен бриллиантам в ушах.
– Я вовсе не спорю. Но только сейчас я утверждаю, что она умирает от желания повесить на шею шесть десятков бриллиантов.
– Докажите же, графиня!
– Нет ничего проще: я недавно видела ожерелье.
Вы?
И не только видела, но и держала в руках.
– Где?
– Все там же, в Версале.
В Версале?
– Да, когда ювелиры принесли его, чтобы попытаться в последний раз соблазнить королеву.
– Да, оно прекрасно.
– Оно великолепно.
– Значит, как истинная женщина вы понимаете, какие мысли пробуждает это ожерелье.
– Я даже понимаю, что из-за него можно потерять аппетит и сон.
– Какая жалость, что у меня нет корабля, чтобы отдать его королю!
– Корабля?
– Да. Король взамен дал бы мне ожерелье, а как только я получил бы его, вы смогли бы спокойно есть и спать.
– Вы смеетесь?
– Клянусь вам.
– В таком случае я скажу вам кое-что, чем вы будете изрядно удивлены.
– Ну, скажите.
– Я не взяла бы это ожерелье.
– Тем лучше, графиня, потому что я все равно не смог бы вам его подарить.
– Увы, этого не можете ни вы, ни кто другой, что прекрасно понимает королева, и оттого она так жаждет его иметь.
– Но повторяю, король предлагал ей это ожерелье.
Жанна сделала неуловимый жест, словно говорящий о том, как ей надоело все это выслушивать.
– А я, – объявила она, – говорю вам, что женщины, как правило, любят, когда подарки им делают люди, не принуждающие принимать их.
Кардинал внимательно посмотрел на Жанну.
– Я не вполне понимаю, – сказал он.
– Вот и отлично, и вообще довольно об этом. Что вам, в конце концов, до этого ожерелья, коль вам его никогда не иметь?
– О, будь я королем, а вы королевой, я принудил бы вас принять его.
– Ну что ж, хоть вы и не король, принудьте королеву принять его и посмотрите, будет ли она гневаться на такое принуждение.
Кардинал вновь взглянул на Жанну.
– А вы уверены, что не ошибаетесь? – спросил он. – Королеве и впрямь хочется иметь его?
– Безумно хочется. Послушайте, дорогой принц, вы мне говорили, или я слышала от кого-то другого, что вы не огорчились бы, если бы стали министром?
– Вполне возможно, графиня, что я говорил это.
– В таком случае, дорогой принц, побьемся об заклад…
– На какой предмет?
– Что королева назначит министром человека, который устроит так, что через неделю это колье будет лежать на ее туалете.
– О, графиня.
– Я сказала то, что думаю. Или вы предпочитаете, чтобы я не высказывала вслух свои мысли?
– Ни в коем случае!
– Впрочем, сказанное мной к вам не имеет ни малейшего отношения. Вы ведь, ясное дело, не швырнете полтора миллиона ради королевского каприза, ей-ей, это была бы слишком дорогая плата за министерский портфель, которого вы достойны и который получите даром. Так что считайте все, что я тут наговорила, глупой болтовней. Я ведь словно попугай: меня выставили на солнце, оно ослепило меня, и вот я все твержу, что мне жарко. Ах, монсеньор, знали бы вы только, какое это тяжкое испытание для бедной провинциалки – такой вот счастливый день! Чтобы смотреть, не жмурясь, на ослепительное сияние, нужно быть, как вы, орлом.
Кардинал мечтательно задумался.
– Я понимаю, – промолвила Жанна, – теперь вы худо обо мне думаете, считаете меня настолько вульгарной и ничтожной, что даже не удостаиваете разговором.
– С чего вы взяли?
– Я осмелилась судить о королеве.
– Графиня!
– Ну что вы хотите? Я решила, что ей хочется иметь это ожерелье, потому что, глядя на него, она вздохнула. Будь я на ее месте, мне страшно хотелось бы получить его. Так что извините мою слабость.
– Вы восхитительная женщина, графиня. В вас невероятным образом сочетаются, как вы выразились, слабость или, вернее, мягкость сердца и сила ума. В иные моменты в вас настолько мало от женщины, что я просто пугаюсь. Но зато в другие вы так прелестны, что я благословляю за это небо и благословляю вас.
И галантный кардинал подкрепил комплимент поцелуем.
– Ладно, не будем больше об этом, – сказал он.
«Не будем так не будем, – подумала Жанна, – но, похоже, рыбка клюнула».
Однако, сказав «не будем больше об этом», кардинал тут же вернулся к этой теме:
– И вы считаете, что это Бемер приходил?
– Вместе с Босанжем, – с самым невинным видом уточнила Жанна.
– Босанж… постойте, – словно припоминая, проговорил кардинал. – Босанж… Это, кажется, его компаньон?
– Да, высокий, худой.
– Точно, он.
– А где он живет?
– То ли на набережной Феррайль, то ли на набережной Эколь, точно не знаю, во всяком случае, где-то неподалеку от Нового моста.
– Вы правы, у Нового моста. Проезжая там в карете, я заметила эту фамилию над одной из дверей.
«Однако, – подумала Жанна, – рыбка все глубже и глубже заглатывает крючок».
Жанна не ошиблась: крючок был проглочен, и весьма основательно.
Словом, на следующее утро, покинув домик в Сент-Антуане – ком предместье, кардинал велел везти себя прямиком к г-ну Бемеру.
Он собирался сохранить инкогнито, но Бемер и Босанж все-таки были придворными ювелирами и, едва он заговорил, стали обращаться к нему «ваше высокопреосвященство».
– Да, вы правы, титулуя меня, – сказал им кардинал, – но, уж коль скоро вы меня узнали, постарайтесь хотя бы, чтобы не узнали другие.
– Ваше высокопреосвященство может быть спокойно. Мы ждем приказов вашего высокопреосвященства.
– Я приехал к вам купить бриллиантовое ожерелье, которое вы вчера демонстрировали королеве.
– Мы в полном отчаянии, но ваше высокопреосвященство пришли слишком поздно.
– Как так?
– Оно продано.
– Это невозможно. Еще вчера вы его вновь предлагали ее величеству.
– Которая опять отказалась, монсеньор, отчего в силе осталась прежняя сделка.
И с кем же она заключена? – поинтересовался кардинал.
– Это тайна, монсеньор.
– Слишком много тайн, господин Бемер.
И кардинал встал.
– Но, ваше высокопреосвященство…
– Я-то думал, сударь, – не дал ему закончить кардинал, – что ювелир французской короны должен радоваться, что может продать эти прекрасные драгоценности во Франции, но вы предпочитаете Португалию. Как вам угодно, господин Бемер.
– Монсеньору все известно! – воскликнул ювелир.
– А что вы нашли в этом удивительного?
– Но если монсеньору все известно, то, значит, только от королевы.
– И что из того? – бросил г-н де Роган, не отрицая предположения, польстившего его тщеславию.
– Но, монсеньор, это многое меняет.
– Объяснитесь, я не понял вас.
– Ваше высокопреосвященство, вы позволите мне говорить с вами со всей откровенностью?
– Говорите.
– Ну так вот, королева хочет иметь наше ожерелье.
– Вы так думаете?
– Мы совершенно уверены.
– Почему же тогда она не купила его?
– Потому что она отказалась принять его от короля, а перемена этого решения, которое принесло ей столько восхвалений, значила бы, что она уступила капризу.
– Королева выше того, что о ней говорят.
– Да, если это говорит народ или даже придворные, но если король…
– Но разве вы не знаете, что король хотел подарить это ожерелье королеве?
– Разумеется, но он поспешил поблагодарить королеву, когда она отказалась от него.
– Ну, а что думает на этот счет господин Бемер?
– Что королева хотела бы иметь ожерелье, но не участвуя в его покупке.
– Вы ошибаетесь, сударь, – ответил кардинал. – Речь вовсе не об этом.
– И это крайне досадно, монсеньор, потому что это единственная причина, по которой мы можем взять назад слово, данное португальскому послу.
Кардинал задумался.
Как бы мощна ни была дипломатия дипломатов, она всегда пасует перед дипломатией купцов. Во-первых, дипломат почти всегда ведет торг из-за ценностей, которыми он не обладает; торговец же держит, сжимает в когтях вещь, возбуждающую вожделение: купить ее у него, даже заплатив втридорога, – это почти что отнять.
Г-н де Роган, видя, что находится во власти этого человека, сказал:
– Если вам угодно, сударь, можете предположить, что королеве хочется иметь ваше ожерелье.
– Но это же все меняет, ваше высокопреосвященство. Когда речь идет о том, чтобы дать преимущество королеве, я могу расторгнуть любую сделку.
– За сколько вы продаете ожерелье?
– За полтора миллиона ливров.
– И как же будет происходить продажа?
– Португалец платит мне задаток, я сам везу ожерелье в Лиссабон, и там мне выдают вексель на предъявителя.
– У нас такой способ платежа, господин Бемер, не практикуется, но задаток, если он в разумных пределах, вы получите.
– Сто тысяч ливров.
– Это можно найти. А остальное?
– Ваше высокопреосвященство, очевидно, хотели бы рассрочку? – поинтересовался Бемер. – При гарантии вашего высокопреосвященства все возможно. Но только в рассрочке кроется убыток, поскольку, прошу заметить, монсеньор, при сделке на такую сумму цифры вырастают сами по себе без всяких пропорций. Процентные деньги с полутора миллионов при пяти процентах составляют семьдесят пять тысяч, а пять процентов для купца – это чистое разорение. Приемлемая ставка – десять процентов.
– Значит, по вашим подсчетам, это будет сто пятьдесят тысяч?
– Да, монсеньор.
– Договоримся, господин Бемер, так: вы продаете ожерелье за миллион шестьсот тысяч и оставшиеся полтора миллиона получаете в три срока в течение года. Согласны?
– Ваше высокопреосвященство, в этом случае мы теряем пятьдесят тысяч ливров.
– Не думаю, сударь. Получи вы завтра полтора миллиона ливров, вы оказались бы в затруднительном положении: ювелир не покупает земли такой стоимости.
– Нас двое, монсеньор: у меня есть компаньон.
– Я согласен с вами, но это не имеет никакого значения, и вам куда удобнее будет получать каждые четыре месяца по пятьсот тысяч, то есть по двести пятьдесят каждому.
– Ваше высокопреосвященство забывает, что эти бриллианты принадлежат не нам. О, будь они нашей собственностью, мы были бы достаточно богаты, чтобы не беспокоиться ни с сроках платежей, ни о продаже их для возмещения капитала.
– А кому же они принадлежат?
– Примерно десятку наших кредиторов. Мы покупали камни по отдельности. За один мы должны в Гамбурге, за другой в Неаполе, еще за один в Буэнос-Айресе, за два в Москве. Наши кредиторы ждут продажи ожерелья, чтобы получить деньги. Нашей тут будет лишь прибыль, которую мы получим, но, увы, монсеньор, за то время, что мы пытаемся продать это злосчастное ожерелье, то есть почти за два года, мы потеряли уже двести тысяч. Так что сами судите, в барыше ли мы.
Г-н де Роган прервал Бемера:
– Все это прекрасно, но я не видел самого ожерелья.
– Вы правы, ваше высокопреосвященство, вот оно.
И Бемер после обычных предосторожностей протянул г-ну де Рогану драгоценное украшение.
– Великолепно! – воскликнул кардинал, любовно притрагиваясь к застежке, которая, как он полагал, касалась шеи королевы.
Когда же его пальцы насытились симпатическими токами, что могли остаться на поверхности камней, он спросил:
– Мы договорились? Дело слажено?
– Да, ваше высокопреосвященство, и я сию же минуту еду в посольство, чтобы расторгнуть договоренность.
– Вот уж не думал, что посол Португалии сейчас находится в Париже!
– Да, господин да Суза как раз тут, он приехал инкогнито.
– Чтобы договориться о покупке, – рассмеялся кардинал.
– Да, монсеньор.
– Бедный Суза! Я ведь хорошо знаю его. Бедный Суза!
И кардинал снова захохотал.
Г-н Бемер счел своим долгом разделить веселость высокого покупателя.
И они, стоя над футляром с ожерельем, долго и весело прохаживались насчет португальского посла.
Г-н де Роган собрался уходить.
Г-н Бемер остановил его.
– Не соблаговолит ли ваше высокопреосвященство сказать, как будет произведен расчет? – осведомился он.
– Как обычно.
– Через управляющего вашего высокопреосвященства?
– Нет, нет, это не касается никого, кроме меня. Вы будете иметь дело только со мной.
– И когда?
– Прямо с завтрашнего дня.
– Сто тысяч ливров?
– Завтра я вам их доставлю.
– Хорошо, монсеньор. А векселя?
– Завтра здесь же я их и подпишу.
– Так будет лучше всего, монсеньор.
– И поскольку, господин Бемер, вы – человек, знающий, что такое тайна, хорошенько запомните: в ваших руках оказалась одна из величайших тайн.
– О, ваше высокопреосвященство, я все понимаю и буду достоин доверия, как вашего, так и ее величества королевы, – хитро ввернул г-н Бемер.
Г-н де Роган покраснел и вышел, взволнованный, но счастливый, как и подобает человеку, который в приступе страсти идет на полное разорение.
На следующий день г-н Бемер с чопорным видом отправился в португальское посольство.
Когда он собирался постучаться в дверь, первый регистратор посольства г-н Дюкорно давал отчет первому секретарю г-ну Босиру, а посол дон Мануэл да Суза излагал новый план кампании компаньону и одновременно первому камердинеру.
После последнего визита г-на Бемера на улицу Жюсьен особняк совершенно преобразился!
Весь персонал, выгрузившийся, как мы уже рассказывали, из двух почтовых карет, разместился в соответствии с должностями и функциями, каковые предназначалось исполнять каждому в доме нового посла.
Следует отметить, что компаньоны, распределив роли, которые они отменно исполняли перед тем, как сменить их, имели возможность лично следить, чтобы не стать жертвами обмана, что, надо признать, всегда воодушевляет, сколь бы тяжки ни были труды.
Г-н Дюкорно, очарованный сообразительностью слуги, не меньше восхищался и послом, который был столь мало озабочен национальными предрассудками, что весь штат посольства, начиная от первого секретаря и кончая последним лакеем, набрал из одних французов.
Он был переполнен восхищением до такой степени, что, знакомя г-на де Босира с цифрами и суммами, завел с ним долгий разговор, пересыпанный похвалами главе посольства.
– Понимаете, – объяснял Босир, – Суза – не из тех замшелых португальцев, цепляющихся за нравы четырнадцатого века, каких вы найдете тьмы и тьмы у нас в провинциях. Нет, Суза – это дворяне, повидавшие мир, владеющие миллионами, и, приди им в голову такая прихоть, они вполне могли бы стать где-нибудь и королями.
– Но такая прихоть к ним не приходит, – остроумно заметил г-н Дюкорно.
– А зачем им это, господин регистратор? Ежели у тебя несколько миллионов и княжеский титул, разве ты не равен королям?
– Господин секретарь, но это уже почерпнуто из философских доктрин! – воскликнул удивленный Дюкорно. Я не ожидал услышать из уст дипломата максимы равенства.
– Ну, мы составляем исключение, – ответил Босир, несколько раздосадованный собственной оплошностью. – Хоть мы и не вольтерьянцы или там армяне наподобие Руссо[107], но осведомлены и о философских идеях, и о естественных теориях неравенства сословий и умственных способностей.
– Знайте же, – с воодушевлением воскликнул регистратор. – Португалии повезло, что она такое маленькое государство!
– Вот как? Почему же?
– Потому, сударь, что, имея у власти таких людей, она очень скоро станет великой.
– О, вы нам льстите, дорогой регистратор! Мы занимаемся политикой, как философы. Это выглядит благородно, но находит мало последователей. Однако оставим это. Значит, вы говорите, в кассе сто восемь тысяч ливров?
– Да, господин секретарь, сто восемь тысяч.
– И никаких долгов?
– Ни денье.
– Образцовый порядок! Дайте мне, пожалуйста, ведомость.
– Вот она. Господин секретарь, а когда же представление ко двору? Должен вам сказать, в квартале все страшно любопытствуют, идут бесконечные толки, более того, все прямо-таки обеспокоены.
– Даже так?
– Да, и время от времени около особняка появляются люди, которым явно хотелось бы, чтобы двери у нас были стеклянными.
– Люди? – переспросил Босир. – Это что же, жители квартала?
– Не только. Господин посол прибыл с секретной миссией, и сами понимаете, полиция тут же принялась выведывать, что это за миссия.
– Да, я тоже так думаю, – согласился весьма встревоженный Босир.
– Подойдите-ка сюда, господин секретарь, – сказал Дюкорно и подвел Босира к зарешеченному окну, частично глядящему на угол одного из флигелей дома. – Видите, там, на улице, фигуру в изрядно засаленном коричневом балахоне?
Вижу.
– Как он смотрит сюда, а?
– И впрямь. Как вы думаете, кто он?
– Откуда ж мне знать… Быть может, шпион господина де Крона.
– Вполне возможно.
– Между нами говоря, господин секретарь, господин де Крон как начальник полиции и в подметки не годится господину де Сартину. Вы знали господина де Сартина?
– Что вы, сударь, откуда!
– О, уж он бы раз десять все разнюхал. Правда, вы предпринимаете меры предосторожности…
Тут прозвенел звонок.
– Господин посол вызывает, – поспешно сказал Босир, которому от этого разговора стало немножко не по себе.
Он с силой распахнул дверь и обеими ее створками сшиб наземь двух своих компаньонов, одного с пером за ухом, третьестепенного писца, а второго с метелкой в руке, лакея, которые сочли беседу чрезмерно долгой и захотели принять в ней участие, хотя бы даже на слух.
Из этого Босир заключил, что ему не доверяют, и решил удвоить осторожность.
Однако, направляясь к послу, он успел пожать в темноте руки двум своим друзьям и сообщникам.
20. Г-н Дюкорно совершенно не понимает, что происходит
Лицо дона Мануэла да Суза было не таким желтым, как обычно, потому что оно побагровело. Он только что имел весьма тягостное объяснение с г-ном командором, то есть своим личным камердинером.
Впрочем, объяснение еще не завершилось.
Когда вошел Босир, петушки вырывали друг у друга последние перья.
– Господин Босир, рассудите нас, – обратился к нему командор.
– В чем? – с видом третейского судьи осведомился Босир, обменявшись взглядом с послом, своим естественным союзником.
– Вызнаете, – сказал лакей, – что сегодня должен прийти господин Бемер, чтобы окончательно договориться насчет ожерелья.
– Да, знаю.
– И что ему нужно будет заплатить сто тысяч ливров.
– И это знаю.
– Но эти сто тысяч ливров являются собственностью нашего товарищества, не так ли?
– Какие могут быть сомнения?
– Вот видите, господин де Босир согласен со мной, – повернувшись к дону Мануэлу, заявил командор.
– Погодите, погодите, – остановил его жестом Португалец.
– Я согласился с вами лишь в том, что эти сто тысяч принадлежат товариществу, – пояснил Босир.
– И этого вполне достаточно, мне больше ничего не надо, – сказал лакей-командор. – Исходя из этого, сундук, в котором лежат эти сто тысяч, не может находиться в том помещении, что соединяется с комнатой господина посла.
– С чего бы это? – удивился Босир.
– И господин посол, – продолжал лакей, – должен каждому из нас дать ключ от этого сундука.
– Вот уж нет! – заявил Португалец.
– Ваши доводы?
– Да, ваши доводы? – присоединился Босир.
– Меня подозревают, – начал Португалец, поглаживая свежую щетину на подбородке, – почему же мне тогда не заподозрить остальных? Мне кажется, если меня могут обвинять в намерении обокрасть товарищество, то и я вправе иметь подозрения, что хотят обворовать меня. Мы все стоим друг друга.
– Согласен, – кивнул лакей, – но именно поэтому у нас у всех равные права.
– Ну, милейший, ежели вы желаете установить здесь равенство, то тогда вы должны вынести решение, чтобы каждый по очереди исполнял роль посла. Возможно, для публики это будет не столь убедительно, но зато все компаньоны могут быть спокойны. Надеюсь, вам все ясно?
– И притом, – продолжил Босир, – прошу вас заметить, господин командор, что вы ведете себя не по-товарищески. Разве мы не уговорились, что дон Мануэл имеет неоспоримые привилегии?
– Да, верно, – подхватил посол, – и господин де Босир разделяет их со мной.
– Пока дело не завершено, – заметил командор, – ни о каик привилегиях речи быть не может.
– Согласен, но нельзя забывать о приличиях, – заметил Босир.
– Я пришел с этим требованием не только от себя, – сбавил тон несколько пристыженный командор. – Все наши товарищи того же мнения.
– И все не правы, – отрезал Португалец.
– Да, не правы, – подтвердил Босир. Командор вскинул голову.
– Это я был не прав, – заявил он, – спросив мнения господина де Босира. Секретарю проще простого сговориться с послом.
– Господин командор, – с поразительным хладнокровием обратился к нему Босир, – вы – подлец, и я отрубил бы вам уши, если бы они у вас были, поскольку вам их уже неоднократно урезали.
– Что такое? – встрепенулся командор.
– Мы спокойно сидим в кабинете господина посла и могли бы по-свойски договориться. Но вы оскорбили меня, заявив, что я сговорился с доном Мануэлом.
– Меня вы тоже оскорбили, – холодно бросил Португалец, приходя на помощь Босиру.
– Я не какой-нибудь фанфарон! – воскликнул лакей.
– Я это знаю и потому вздую вас, командор, – сообщил Босир.
– Помогите! – завопил тот, но возлюбленный м-ль Оливы уже вцепился в него, а Португалец, чуть не задушив, схватил его за горло.
Однако первые люди посольства не успели довершить расправу, как раздался звонок, возвещавший о визитере.
– Ладно, отпустим, – сказал дон Мануэл.
– Пусть займется своим делом, – добавил Босир.
– Компаньонам все будет известно, – приводя себя в порядок, пригрозил командор.
– Можете говорить им все, что угодно, у нас есть что ответить.
– Господин Бемер! – возвестил снизу привратник.
– Вот это, дорогой командор, кладет конец всему, – заметил Босир, дав легкий подзатыльник противнику. – У нас больше не будет повода спорить из-за этих ста тысяч ливров, поскольку они сейчас исчезнут вместе с господином Бемером. Так что ступайте, господин лакей, прислуживать!
Командор, ворча, вышел и принял почтительный вид, приличествующий встрече придворного ювелира.
В промежутке между его уходом и приходом Бемера Босир и Португалец вновь обменялись взглядами, ничуть не менее выразительными, чем в первый раз.
Бемер пришел вместе с Босанжем. Вид у них был смиренный и смущенный, что, впрочем, не должно было обмануть хитрых наблюдателей из посольства.
Босир предложил им сесть. Они уселись, и первый секретарь продолжил свои наблюдения, искоса поглядывая и на посла, дабы поддерживать с ним связь.
Дон Мануэл, как обычно, выглядел надутым и официальным.
В сложившихся тяжелых обстоятельствах Бемер как человек решительный заговорил первым.
Он объяснил, что высочайшие политические резоны не позволяют им продолжить начатые переговоры.
Мануэл ахнул.
Босир хмыкнул.
Бемер все больше и больше чувствовал себя не в своей тарелке.
Дон Мануэл обратил его внимание на то, что сделка уже заключена и наличные готовы.
Бемер выстоял.
Дон Мануэл, опять же через посредство Босира, сообщил, что его правительство уже получило или вот-вот подучит уведомление о заключении сделки и разорвать ее означает нанести ее величеству королеве Португалии в некотором роде оскорбление.
Г-н Бемер объяснил, что он взвесил все последствия подобных соображений, но вернуться к первоначальным своим планам решительно не в состоянии.
Босир решил не соглашаться на разрыв сделки; он прямо заявил Бемеру, что отказаться от своего слова способен лишь дурной купец и бесчестный человек.
Тут вмешался Босанж, желая защитить торговое сословие, подвергшееся столь суровым обвинениям в их с его компаньоном лице.
Но ему не удалось показать свое красноречие.
Босир заткнул ему рот одним-единственным вопросом:
– Вам кто-то надбавил цену?
Ювелиры, которые не были сильны в политике и вдобавок имели самое высокое представление о дипломатии вообще и о португальских дипломатах в частности, залились краской, тем самым как бы подтверждая обвинения.
Босир счел, что попал в точку, а поскольку главное для него было довести до конца дело, сулившее богатство, он притворился, будто совещается на португальском с послом.
– Господа, – обратился он после этого к ним, – вас соблазнили дополнительным барышом. Ну что ж, дело естественное. Это доказывает только, что бриллианты стоят дороже. Так вот, ее величество королева Португалии вовсе не желает, покупая задешево, нанести ущерб честным купцам. А что, если мы надбавим пятьдесят тысяч ливров?
Бемер покачал головой.
– Сто тысяч. Сто пятьдесят тысяч, – продолжал Босир, решивший, поскольку это не сулило ему никаких неприятностей, набавлять хоть до миллиона, лишь бы получить свою долю в сто пятьдесят тысяч ливров.
Пораженные ювелиры несколько секунд пребывали в замешательстве, но потом, посовещавшись, ответили:
– Нет, господин секретарь, даже не пытайтесь нас искушать. Сделка не состоится, воля, стократ более могущественная, нежели наша, велит нам продать ожерелье во Франции. Надеюсь, вы нас понимаете. Извините и не гневайтесь на нас, это вовсе не мы отказываем вам: некто, куда более высокопоставленный, чем мы и даже чем вы, воспротивился этой сделке.
Босир и Мануэл не нашли что возразить. Более того, они сказали нечто наподобие комплимента ювелирам и попытались изобразить безучастность.
Они прилагали для этого огромные усилия и потому не заметили, что господин командор, он же лакей, желающий знать, как продвигаются переговоры по делу, которому он желал удачного завершения, подслушивает в передней под дверью.
Но достойный этот сообщник оказался неловок: он слишком низко наклонился к двери, поскользнулся и ударился о филенку; удар был довольно громкий.
Босир ринулся в переднюю и обнаружил там испуганного лакея.
– Что ты тут делаешь, мерзавец? – возопил Босир.
– Сударь, я принес утреннюю почту, – отвечал командор.
– Хорошо, ступайте, – бросил Босир. Взяв депеши, он отослал командора.
Депеши эти составляли всю корреспонденцию, приходящую в канцелярию; письма из Португалии и Испании, представлявшие весьма мало интереса для большинства, были предметом ежедневных трудов г-на Дюкорно, но прежде чем попасть в канцелярию, они проходили через руки Босира или дона Мануэла и снабдили обоих первых лиц многими полезными сведениями о посольских делах. Услыхав слово «почта», ювелиры радостно вскочили с видом людей, получивших позволение откланяться после тягостной аудиенции.
Их не стали задерживать, и лакей получил приказ проводить гостей во двор.
Едва он спустился с лестницы, дон Мануэл и Босир обменялись взглядами из разряда тех, что предшествуют действиям.
– Ну что? – сказал дон Мануэл. – Дело лопнуло.
– Вчистую, – согласился Босир.
– Из ста тысяч, а это весьма незначительная добыча, каждый из нас получит по восемь тысяч четыреста ливров.
– Не стоило и мараться, – заметил Босир.
– Не правда ли? А между тем в сундуке, – и дон Мануэл указал в ту сторону, где находился сундук, – лежат сто восемь тысяч ливров.
– По пятьдесят четыре тысячи на брата.
– Правильно сказано, – одобрил дон Мануэл. – Разделим их.
– Согласен. Да только командор теперь, когда ему стало известно, что дело лопнуло, не отстанет от нас.
– Я придумаю какое-нибудь средство, – каким-то необычным тоном произнес дон Мануэл.
– А я уже придумал, – сказал Босир.
– Какое же?
– А вот какое. Командор возвратится к нам?
– Да.
– И потребует выдать долю ему и всем остальным компаньонам?
– Да.
– И нам тогда придется иметь дело со всеми?
– Да.
– Давайте позовем командора, якобы для того, чтобы посвятить его в тайну, и тут предоставьте действовать мне.
– Кажется, я догадываюсь, – протянул дон Мануэл. – Сходите-ка за ним.
– А я только собирался предложить это сделать вам.
Ни тот, ни другой не хотел оставить «друга» наедине с денежным сундуком. Доверие – все-таки редкостная драгоценность.
Дон Мануэл заявил, что достоинство посла не позволяет ему ходить за лакеем.
– Для него вы никакой не посол, – ответил Босир. – Впрочем, мне все равно.
– Так вы идете?
– Нет, я позову его из окна.
И Босир кликнул в окно г-на командора, который как раз собирался завести разговор с привратником.
Услышав зов, командор поднялся наверх.
Посла и секретаря он обнаружил в комнате, смежной с той, где находилась касса.
Босир, улыбнувшись, обратился к нему:
– Бьюсь об заклад, я знаю, о чем вы говорили с привратником.
– Я?
– Да. Вы рассказывали ему, что дело с Бемером не выгорело.
– Да нет же!
– Врете!
– Клянусь вам, нет!
– Ну, слава Богу, потому что в противном случае вы бы сделали огромную глупость и лишились кругленькой суммы денег.
– Как это? – удивленно воскликнул командор. – О каких деньгах речь?
– Вы же не можете не понимать, что лишь мы втроем знаем секрет.
– Да, правда.
– И что у нас в руках сто восемь тысяч ливров, так как остальные уверены, что их унесли с собой Бемер и Босанж.
– Черт возьми! – обрадовался командор. – А ведь верно.
– По тридцать три тысячи триста тридцать три франка и шесть су на брата, – заметил Мануэл.
– Больше! Больше! – закричал командор. – Там еще остается восемь тысяч.
– Совершенно верно, – сказал Босир. – Так вы согласны?
– Согласен ли я? – потирая руки, усмехнулся лакей. – Еще бы не согласен! Давайте делить, вот мое слово.
– Слово негодяя! – громовым голосом возвестил Босир. – Недаром совсем недавно я объявил вас подлецом. Дон Мануэл, вы у нас силач, возьмите-ка этого мерзавца. Откроем глаза нашим компаньонам, что это за птица.
– Сжальтесь! Сжальтесь! – завопил бедняга. – Я пошутил!
– Тащите его, тащите, – продолжал Босир. – Пусть до справедливого суда посидит в темной комнате.
– Сжальтесь! – вновь возопил командор.
– Осторожней, – сказал Босир дону Мануэлу, который держал коварного командора. – Как бы господин Дюкорно не услышал.
– Если вы меня не отпустите, – пригрозил командор, – я всех вас выдам.
– А я придушу тебя! – яростно рявкнул дон Мануэл, подталкивая камердинера к темной гардеробной. – Ушлите Дюкорно, – по пути шепнул он на ухо Босиру.
Босир не стал ждать, чтобы ему повторили дважды. Он поспешно прошел в комнату, смежную с комнатой посла; сам же посол в это время запирал командора в темном узилище.
Прошла минута, Босир не возвращался. И тут дона Мануэла осенило: он один, денежный сундук рядом; открыть его, взять сто тысяч ливров в кассовых билетах и сбежать с добычей через сад – все это у такого опытного вора не займет и двух минут.
Дон Мануэл прикинул: Босиру, чтобы услать Дюкорно и вернуться обратно, потребуется самое малое минут пять.
Дон Мануэл кинулся к двери комнаты, где находились деньги. Она оказалась закрыта на засов. Но дон Мануэл был силен и ловок: он сумел бы открыть городские ворота ключиком от часов.
«Босир не доверяет мне, потому что у меня одного есть ключ, и потому запер дверь на засов. Что ж, он прав», – подумал Португалец.
С помощью шпаги он взломал дверь, подбежал к сундуку и взревел от ярости. Сундук был раскрыт и пуст. В его благословенных недрах не было ничего!
Босир, у которого был второй ключ, вошел через другую дверь и похитил все деньги.
Дон Мануэл как безумный помчался к привратницкой: там сидел привратник и напевал.
У Босира было пять минут форы.
На вопли и сетования дона Мануэла сбежались все обитатели посольского особняка, он рассказал им, в чем дело, в подтверждение своих слов выпустил на свободу командора, но наткнулся лишь на недоверие и злобу.
Его обвинили в том, что он составил заговор с Босиром, который просто опередил его и бежал со всею добычей.
Все маски были сорваны, всякая таинственность отброшена, а почтенный г-н Дюкорно все никак не мог взять в толк, с кем он оказался связанным.
Он едва не лишился чувств, увидев, что вся эта компания дипломатов намеревается повесить дона Мануэла в каретном сарае. Такого он не смог вынести и закричал:
– Повесить господина да Суза! Да это же государственное преступление! Одумайтесь!
Его решили посадить в подвал: он кричал чересчур громко.
И в этот миг раздались три торжественных удара в ворота, заставившие задрожать компаньонов.
Тишина воцарилась среди них.
Тройной стук повторился.
И тотчас резкий голос прокричал по-португальски:
– Именем его превосходительства посла Португалии откройте!
– Посол! – пронесся ропот среди прохвостов; в следующую секунду они ринулись в особняк и в несколько минут разбежались – кто через сад, кто через соседские стены, кто по крышам, следуя принципу «спасайся, кто может».
Настоящий посол, действительно только что прибывший в Париж, смог войти к себе лишь с помощью полицейских, которые взломали дверь при огромном стечении зевак, привлеченных столь интересным зрелищем.
Потом полицейские обшарили весь особняк и арестовали г-на Дюкорно, который был препровожден в Шатле, где и провел ночь.
Так закончилось приключение с мнимым португальским послом.
Если бы посольский привратник побежал за Босиром, как ему приказал дон Мануэл, то, признаем открыто, ему пришлось бы изрядно побегать.
Едва выбравшись из вертепа, Босир помчался курцгалопом по улице Кокийер, а на улице Сент-Оноре перешел на полный аллюр.
Боясь преследования, он путал следы и бежал галсами без всякого направления и смысла по улочкам, что опоясывают Хлебную биржу; через несколько минут он был почти уверен, что никто не сможет его преследовать, а равно еще в одном – что силы его на исходе и что даже хорошая скаковая лошадь не сумела бы пробежать больше.
На улице Виарм, что окружает всю биржу, Босир плюхнулся на мешок с зерном и притворился, будто внимательно созерцает колонну Медичи, которую Башомон[108] купил, чтобы спасти ее от разрушения, так как ее хотели разбить, и подарил ратуше.
Но на самом-то деле Босир не смотрел ни на колонну г-на Филибера Делорма[109], ни на солнечные часы, которыми ее украсил г-н де Пенгре[110]. Он пытался отдышаться, и из глубины его легких со свистом и хрипом вырывалось тяжелое дыхание, точь-в-точь как из старых, залатанных мехов.
В течение многих долгих секунд ему никак не удавалось заглотнуть достаточно воздуха, чтобы справиться с одышкой.
Наконец он преуспел в этом, правда, ценой столь шумного вздоха, что его услыхали бы все обитатели улицы Виарм, не будь они заняты продажей и взвешиванием зерна.
«Ну вот, – подумал Босир, – мечта моя осуществилась, я богат».
И он снова вздохнул.
«Теперь я смогу стать совершенно порядочным человеком, у меня такое ощущение, будто я начинаю толстеть».
И он напыжился, словно и впрямь уже растолстел.
«Став порядочным человеком, я сделаю, – продолжал Босир безмолвный монолог, – порядочной женщиной и Оливу. Она красива, вкусы ее бесхитростны».
Бедняга!
«Ей понравится уединенная жизнь в провинции на ферме, которую мы будем звать своей землей, неподалеку от какого-нибудь городка, где нас будут принимать за сеньоров.
Николь – хорошая, у нее всего лишь два недостатка: лень и гордыня».
Всего! Бедный Босир! Всего-навсего два смертных греха!
«Что ж, я ублаготворю эти ее недостатки, – с некоторым сомнением продолжал Босир, – и она станет превосходной женщиной».
Дальше он не стал продолжать, дыхание у него успокоилось.
Он стер пот со лба, удостоверился, что сто тысяч ливров все так же лежат у него в кармане, и, чувствуя себя отдохнувшим телом и душой, задумался.
На улице Виарм его не разыскивают, но это не значит, что вообще не будут искать. Господа из посольства не такие люди, чтобы с легким сердцем смириться с утратой своей добычи.
Они разделятся на несколько шаек и начнут с того, что проверят дом, в котором жил похититель.
И в этом-то вся беда. В этом доме живет Олива. К ней нагрянут, ее, быть может, станут пытать и, кто знает, не возьмут ли в заложницы.
Этим негодяям известно, что м-ль Олива – предмет страстной любви Босира, так отчего же, зная это, им не воспользоваться его страстью?
Босир едва не сошел с ума, мучаясь на распутье между двумя смертельными опасностями.
Любовь все-таки победила.
Нет, он не допустит, чтобы кто-нибудь даже пальцем коснулся его возлюбленной. И он стрелой понесся на улицу Дофины.
Впрочем, Босир был совершенно уверен, что опередил своих врагов и, как они ни быстры, им не поспеть раньше его.
К тому же он вскочил в фиакр, показал кучеру монету в шесть ливров и крикнул:
– К Новому мосту!
Лошади не поскакали, а полетели.
Спускался вечер.
Босир велел везти себя на земляную насыпь моста за статуей Генриха IV. В это время туда как раз подкатывали экипажи: там было известное место свиданий, хоть и не самое изысканное.
Рискнув выглянуть из-за занавески, Босир стал высматривать, что делается на улице Дофины.
Он достаточно неплохо знал обычаи полицейских, которых десять лет старательно изучал, чтобы уметь вовремя от них ускользнуть.
На спуске с моста со стороны улицы Дофины он заметил двух человек, стоящих поодаль друг от друга, которые, вытянув шеи, что-то высматривали на ней.
То были шпионы. Шпионы на Новом мосту были не такая уж редкость, поскольку пословица того времени гласила: чтобы в любое время увидеть прелата, публичную девицу и белую лошадь, надо всего лишь пройти по Новому мосту.
А белые лошади, сутаны священнослужителей и платья веселых девиц всегда были объектом внимания полицейских.
Босир был всего лишь раздосадован и смущен; он сгорбился и, подволакивая ногу, чтобы изменить походку, прошел сквозь толпу и достиг улицы Дофины.
Никаких признаков того, чего он боялся! Вон уже виден дом и окна, в которых так часто показывалась прекрасная Олива, его звезда. Но сейчас окна были закрыты; Николь, вероятно, либо отдыхала на софе, либо читала какую-нибудь дрянную книжку, либо лакомилась сластями.
И вдруг Босиру показалось, что впереди в проходе мелькнул стеганый камзол солдата полицейской стражи.
А там дальше, на углу, еще несколько.
Босира бросило в холодный пот, самый опасный для здоровья. Однако поворачивать было нельзя, и он пошел вперед, к дому.
Да, у Босира хватило духу, проходя мимо дома, взглянуть на него. Ах, что за картина!
Весь проход был забит солдатами полицейской стражи, среди которых весь в черном выделялся комиссар тюрьмы Шатле.
Их лица… Бросив всего один беглый взгляд, Босир увидел, до чего они растеряны, обескуражены, разочарованы. У кого-то есть привычка читать по лицам полицейских, у кого-то нет, но ежели она есть, как была у Босира, нет нужды вторично смотреть на них, чтобы понять, что эти господа промахнулись.
Босир решил, что г-н де Крон, осведомленный неведомо как или неведомо кем, хотел специально сцапать его, но получил лишь м-ль Оливу. Inde irae[111].
Оттого они так разочарованы. Разумеется, будь это обычные обстоятельства, не лежи в кармане у Босира сто тысяч ливров, он бросился бы в толпу альгвасилов[112], крича, как Нис[113]: «Меня! Меня! Это я сделал!»
Но мысль, что полицейские заполучат сто тысяч и до конца жизни будут насмехаться над ним, мысль, что столь героическое и чувствительное движение души, ежели он, Босир, последует ему, пойдет на пользу лишь людям начальника полиции, восторжествовала над, скажем так, всеми сомнениями и пригасила сердечные страдания.
«Будем рассуждать логически, – сказал себе Босир. – Хорошо, я дам схватить себя. Тогда прости-прощай сто тысяч ливров. Николь от этого пользы никакой не будет, а я останусь без денег. Да, я докажу, что безумно люблю ее. Но она вправе будет мне сказать: «Вы – тупица. Лучше бы вы меня меньше любили, но позаботились обо мне». Нет, решительно надо брать ноги в руки и спрятать в надежном месте деньги, потому что они основа всего – свободы, счастья, философии».
Сказав себе это, Босир прижал к сердцу ассигнации и помчался в сторону Люксембургского сада; дело в том, что вот уже час им руководил инстинкт, а поскольку в прежние времена он сотни раз находил м-ль Оливу в Люксембургском саду, ноги сами понесли его туда.
Однако для человека, сильного в логике, это было не самое разумное решение.
Действительно, полицейские, знавшие привычки воров не хуже, чем Босир знал привычки полицейских, естественно, стали бы искать его в Люксембургском саду.
Но то ли по воле неба, то ли по воле дьявола случилось так, что г-н де Крон на сей раз совершенно не интересовался Босиром.
Только возлюбленный Николь выскочил на улицу Сен-Жермен-де-Пре, как его чуть не сшибла роскошная карета, на всем скаку направлявшаяся к улице Дофины.
Благодаря проворству, свойственному парижанам и неведомому остальным европейцам, Босир едва-едва успел увернуться от дышла. От удара кнутом и от ругательства кучера он увернуться все-таки не сумел, но обладатель ста тысяч ливров даже не остановился из-за столь незначительного посягательства на свою честь, тем паче что за ним гнались и бывшие сотоварищи, и полицейские.
Итак, Босир отскочил в сторону, но когда выпрямлялся, увидел в карете м-ль Оливу и какого-то чрезвычайно красивого мужчину, который что-то оживленно ей говорил.
Босир вскрикнул, но на его крик обратили внимание разве что лошади. Нет, он побежал бы за каретой, если бы она не ехала к улице Дофины, единственной улице Парижа, где Босир ни за что не хотел бы в этот момент появиться.
И потом, откуда взяться Оливе в этой карете? Нет, вздор, ему просто почудилось, померещилось; у страха глаза велики, и потому он всюду видит Николь.
Вдобавок он рассудил, что м-ль Олива никак не может оказаться в этой карете, так как полицейские арестовали ее у себя дома, на улице Дофины.
Несчастный Босир, изнемогающий душевно и физически, дунул по улице Фоссе-Мсье-ле-Пренс, достиг Люксембургского сада, пересек уже почти опустевший квартал и выбрался за рогатки, намереваясь найти укрытие в известной ему комнатенке, владелица которой питала к нему безмерное уважение.
Забравшись в эту клетушку, он спрятал кассовые билеты под одну из каменных плиток пола, поставил на эту плитку ножку кровати и рухнул на ложе, истекая потом и извергая проклятия, но, правда, богохульства у него перемежались благословениями Меркурию[114], а приступы лихорадочной слабости – возлиянием подслащенного вина с корицей, напитка вполне подходящего, чтобы восстановить правильное потоотделение и вселить в сердце уверенность.
Теперь он уже был совершенно уверен, что полиция его не найдет. Он был уверен, что никто не обчистит его.
Он был уверен, что Николь, даже если ее арестовали, ни в каких преступлениях не замешана, а времена, когда можно было без всякой вины навечно запрятать человека в тюрьму, прошли.
И еще он был уверен, что, имея сто тысяч ливров, он сумеет вырвать свою неразлучную спутницу м-ль Оливу даже из тюрьмы, если ее туда посадят.
Правда, оставались еще сообщники из посольства, а разобраться с ними будет куда трудней.
Но Босир придумал хитрый ход. Они останутся во Франции, а он уедет в Швейцарию, страну свободы и высокой нравственности; уедет, как только м-ль Олива окажется на свободе.
Но ничему из того, что задумывал Босир, попивая горячее вино, не суждено было сбыться – так было предначертано.
Человек почти всегда совершает ошибку, воображая, будто он видит, как обстоят дела, хотя все это от него сокрыто, но еще большую ошибку он совершает, воображая, будто ничего не видит, хотя все обстоятельства ему открыты.
Это соображение мы еще растолкуем читателю.
22. М-ль Олива начинает задумываться, чего от нее хотят
Если бы г-н Босир захотел дать веру своим глазам, которые, кстати сказать, прекрасно видели, вместо того чтобы напрягать разум, который в ту пору ослеп, он избавил бы себя от многих огорчений и разочарований.
В карете Босир действительно заметил м-ль Оливу вместе с человеком, которого он не узнал, потому что до того видел всего один раз, но, увидев дважды, ни с кем бы не спутал. М-ль Олива, как обычно, утром пошла прогуляться в Люксембургский сад, но в два часа не вернулась на обед, потому что с нею встретился, заговорил и стал задавать странные вопросы таинственный знакомец, с которым она была на балу в Опере.
Дело было так. Когда она, собираясь возвращаться, уже заплатила за стул и улыбнулась хозяину кофейни, чьей постоянной клиенткой была, Калиостро вынырнул из аллеи, подошел к ней и взял под руку.
Олива негромко вскрикнула.
– Куда вы собрались? – спросил он.
– Как – куда? Домой, на улицу Дофины.
– Что ж, вы доставите большую радость людям, которые вас там поджидают, – сообщил таинственный вельможа.
– Людям, которые меня там поджидают? Каким людям? Меня никто не ждет.
– Ах, если бы так! Там вас ждут не меньше дюжины визитеров.
– Дюжины визитеров? – воскликнула Олива и рассмеялась. – А почему бы не целый полк?
– Поверьте, если бы можно было прислать на улицу Дофины полк, он был бы послан.
– Вы меня удивляете!
– Вы еще больше удивились бы, если бы я дал вам пойти на улицу Дофины.
– Почему?
– Потому что, дорогая моя, вас там арестуют.
– Арестуют?
– Вне всяких сомнений. Эта дюжина господ – полицейские, посланные господином де Кроном.
Олива вздрогнула: некоторые люди почему-то неизменно боятся некоторых вещей.
Тем не менее, довольно старательно покопавшись в своей совести, она успокоилась.
– Я ничего не совершила. За что меня арестовывать?
– Из-за чего арестовывают женщин? Из-за интриг, из-за всяких глупостей.
– Я не занимаюсь никакими интригами.
– Но, может быть, когда-то давно?..
– Ну, тут я ничего не могу сказать.
– Короче, вас собираются арестовать, вне всякого сомнения, по ошибке, но тем не менее собираются. Ну что, вы идете на улицу Дофины?
М-ль Олива стояла бледная и перепуганная.
– Вы играете со мной, как кот с несчастной мышью, – сказала она. – Послушайте, если вы что-то знаете, скажите мне. А может, это Босира пришли арестовать?
И она впилась в Калиостро умоляющим взглядом.
– Вполне возможно. Я подозреваю, что совесть у него не столь чиста, как у вас.
– Бедный!
– Можете его пожалеть, но если он арестован, не идите по его стопам и не дайте возможности арестовать себя.
– Скажите, а какой вам интерес покровительствовать мне? Какой вам интерес заниматься мной? Послушайте, – дерзко заявила она, – это же неестественно, чтобы человек вроде вас…
– Остановитесь, не то скажете глупость, а сейчас каждая секунда на вес золота, потому что люди господина де Крона, видя, что вы не возвращаетесь, способны отправиться искать вас здесь.
– Здесь? А кто знает, что я здесь?
– Можно подумать, что это так трудно узнать! Я же узнал. Итак, продолжаю. Я заинтересован в вас, и вам это прекрасно известно, а остальное вас не касается. Идемте быстрей на улицу д'Анфер, там вас ждет моя карета. Как! Вы все еще сомневаетесь?
– Да.
– В таком случае мы совершим достаточно неблагоразумный поступок, но уж тогда, надеюсь, вы убедитесь раз и навсегда. Мы проедем в карете мимо вашего дома, и когда вы увидите господ из полиции с достаточно далекого расстояния, чтобы не быть арестованной ими, но с достаточно близкого, чтобы судить об их намерениях, вы по достоинству оцените мое доброе к вам отношение.
Говоря это, он провел м-ль Оливу к калитке, выходящей на улицу д'Анфер. Подкатила карета, Калиостро и Олива сели в нее и поехали на улицу Дофины, где и увидел их Босир.
Разумеется, закричи он, побеги следом за каретой, Олива принудила бы Калиостро взять его, дабы спасти, ежели его преследуют, или спасаться вместе с ним, ежели он ни в чем не замешан.
Но Калиостро, заметив беднягу, отвлек внимание м-ль Оливы, указав ей на толпу, уже собравшуюся вокруг полицейских.
Едва Олива увидела полицейских стражников, вторгшихся в ее дом, она бросилась в объятия своего покровителя с отчаянием, которое растрогало бы любого, но только не этого железного человека.
Он лишь пожал руку молодой женщине и укрыл ее от посторонних взоров, задернув занавеску.
– Спасите меня! Спасите! – повторяла перепуганная м-ль Олива.
– Обещаю вам это, – ответил Калиостро.
– Но вы же сказали, что полицейским известно все. Они меня всюду найдут.
– Вовсе нет. Там, где вы будете, вас никто не разыщет. И потом, если они пришли арестовать вас у себя, то ко мне они не придут.
– К вам? – испуганно переспросила Олива. – Значит, мы едем к вам?
– Только, пожалуйста, без глупостей, – бросил Калиостро. – Можно подумать, вы забыли, о чем мы уговорились. Я, моя красавица, не ваш любовник и становиться им не намерен.
– Значит, вы хотите упрятать меня в тюрьму?
– Если вы предпочитаете больницу, вы свободны.
– Нет, нет, я вверяюсь вам, – отвечала перепуганная Николь. – Можете делать со мной что угодно.
Карета покатила на улицу Нев-Сен-Жиль в дом, где мы уже видели Филиппа де Таверне.
Когда Николь вошла в небольшую комнату на третьем этаже вдали от слуг и вообще от чьих-либо взглядов, Калиостро сказал:
– Главное, чтобы вы чувствовали себя здесь счастливой.
– Счастливой? А с чего? – горько обронила Николь. – Счастливой, утратив свободу, не имея возможности прогуляться! Здесь так уныло. Даже сада нету. Нет, здесь я умру.
И она обвела комнату рассеянным взглядом, исполненным безнадежности.
– Вы правы, – согласился Калиостро. – Я хочу, чтобы вы ни в чем не испытывали нужды. Вам будет здесь плохо, да к тому же мои люди в конце концов увидят вас, и это будет вас беспокоить.
– А еще они могут продать меня, – добавила Олива.
– Этого, дорогое дитя, вы можете не бояться, мои люди не продают то, что купил я. Но я озабочусь предоставить вам другое жилище, чтобы вы могли чувствовать себя совершенно спокойно.
Олива, похоже, была несколько утешена этим обещанием. Впрочем, новая ее обитель ей понравилась. В ней было удобно, а к тому же она обнаружила много интересных книжек.
Прежде чем уйти, покровитель сказал ей:
– Дорогое дитя, я вовсе не хочу, чтобы вы тут томились и изнывали от тоски. Как только захотите увидеть меня, позвоните, я тотчас же приду, ежели буду дома, а ежели окажусь в отъезде, то сразу после возвращения.
После этого он поцеловал ей руку и ушел.
– Ах, да! – крикнула она ему вслед. – Главное, узнайте, что с Босиром.
– Этим я займусь сразу же, – успокоил ее граф. Спускаясь по лестнице, он думал:
«Конечно, поселить ее в доме на улице Сен-Клод будет святотатством. Но ее не должны видеть, а там ее не увидит никто. А ежели окажется нужным, чтобы некая особа увидела ее, она увидит ее именно в этом доме на улице Сен-Клод. Ну что ж, принесем и эту жертву. Погасим последнюю искру светоча, что горел когда-то».
Граф надел широкую епанчу, поискал в секретере ключи, выбрал, растроганно глядя на них, несколько, вышел из дома и зашагал по улице Сен-Луи на Болоте.
Граф Калиостро в одиночестве дошел до старого дома на улице Сен-Клод, который наши читатели, надо надеяться, еще не окончательно забыли. Когда граф стоял у его ворот, уже стемнело, и на бульваре он заметил лишь несколько редких прохожих.
С улицы Сен-Луи доносился цокот лошадиных копыт, где-то, дребезжа старой железной оковкой, захлопнулось окно, в соседнем особняке скрежетал засов, запирая массивные ворота, – вот и все звуки, что раздавались в этот час на улице.
Да еще в тесном дворике монастыря лаяла, верней, давилась лаем собака. В церкви Сен-Поль пробило три четверти, и с порывом холодного ветра этот унылый звон долетел до улицы Сен-Клод.
Было без четверти девять.
Граф, как мы уже говорили, стоял у ворот. Он вынул из-под епанчи большой ключ, вставил его в скважину, давя скопившийся в ней сор, который в течение многих лет нанесло туда ветром.
Сухая травинка, застрявшая в стрельчатой скважине, круглое семечко, которое должно было превратиться в мальву или сурепку, но попало в это темное вместилище, крохотный осколок камня, прилетевший со строящегося соседнего дома, мошкара, забиравшаяся в это железное убежище и заполнившая в конце концов своими иссохшими трупами весь объем скважины, – все это под давлением ключа скрипело и перетиралось в порошок.
Но если ключ совершил в скважине оборот, замку остается только открыться.
Время все-таки сделало свое. Дерево в стыках вспучилось, петли были изъедены ржавчиной. Между каменными плитами выросла трава, и сырые ее испарения зазеленили низ ворот; все щели были заполнены какой-то замазкой, вроде той, из которой ласточки делают гнезда; повсюду на полотнищах ворот торчали, подобные сводам, могучие наросты древесных грибов, скрывая доски своей наслоившейся за долгие лета плотью.
Калиостро почувствовал сопротивление; он толкнул ворота ладонью, потом локтем, потом плечом, и все баррикады подались и рухнули с недовольным треском.
Ворота растворились, и глазам Калиостро открылся двор, опустелый, поросший мхом, похожий на кладбище.
Он закрыл за собой ворота и прошел, ступая по упрямому, густому пырею, заглушившему даже каменные плиты.
Никто не видел, как он входил, никто не видел его за этими толстыми стенами. Он мог остановиться на миг и войти в свою прошлую жизнь, как только что вошел во двор этого дома.
Из двенадцати ступеней крыльца целыми остались всего три.
Остальные, подмытые дождевой водой, разрушенные корнями постенницы и дикого мака, расшатались, а потом и рухнули со своих опор. Упав, камень раскололся, осколками овладела трава и разрослась, гордо вздымая перистые метелки, словно стяги опустошения.
Калиостро поднялся на крыльцо, качавшееся у него под ногами, и вторым ключом открыл дверь огромной передней.
Только там он зажег фонарь, который принес с собой. И хотя, зажигая свечу, он старательно защищал огонек, могильное дыхание дома тут же погасило ее.
Дуновение смерти мгновенно ответило на появление жизни, тьма убила свет.
Калиостро снова зажег фонарь и продолжил свой путь.
В углах столовой поросшие плесенью буфеты почти потеряли первоначальную форму, нога скользила на ослизлом полу. Все двери были распахнуты, позволяя мысли свободно следовать за взглядом в мрачные глубины, куда уже вступила смерть.
Граф почувствовал вдруг, как по коже у него пробежали мурашки: откуда-то из гостиной, где когда-то начиналась лестница, донесся звук.
Некогда этот звук означал появление любимого существа, он означал для хозяина дома жизнь, надежду, счастье. А сейчас, не означая ничего, пробуждал лишь воспоминания о былом.
У Калиостро похолодели руки, он нахмурил брови и, затаив дыхание, пошел к статуе Гарпократа[115], возле которой находилась пружина, незримый, таинственный механизм, управляющий дверью, что связывала открытую и тайную части дома.
Пружина действовала безотказно, хотя источенная жучком обшивка, поворачиваясь, потрескивала. Едва граф ступил на потайную лестницу, как вновь раздался непонятный звук. Калиостро посветил фонарем, чтобы определить причину, и увидел всего-навсего огромного ужа, который медленно полз вниз по лестнице и хлестал хвостом по скрипучим ступенькам.
Пресмыкающееся спокойно взглянуло черными глазками на Калиостро, скользнуло в какую-то дырку в деревянной обшивке стены и исчезло.
Вне всякого сомнения, то был дух опустелого дома.
Граф продолжил свой путь.
И все время, пока он поднимался по лестнице, его сопровождало воспоминание или, лучше сказать, некий призрак; когда же в свете фонаря на стене возник движущийся силуэт, граф вздрогнул и подумал, что его собственная тень превратилась в чужую, воскресшую, чтобы посетить вместе с ним таинственное жилище.
С такими мыслями он подошел к чугунной доске камина, что служил для прохода из оружейной залы Бальзамо в благоуханную обитель Лоренцы Феличани.
Пустые комнаты, голые стены. В печи лежал непотревоженный толстый слой золы, в которой поблескивали несколько золотых и серебряных капелек. Тонкая, белая, ароматная зола – вот и все, что осталось от мебели Лоренцы; Бальзамо сжег ее до последней щепки; тут покоились шкафы, отделанные черепаховыми панцирями; клавесин и ларец розового дерева; дивной красоты кровать с украшениями из севрского фарфора – это его перегоревший прах слюденисто поблескивал в золе, похожий на мраморную пыль; тут покоились чеканные и резные металлические украшения, расплавившиеся в жарком пламени закрытой печи, а также занавеси и обои из шелковой парчи; тут покоились шкатулки из алоэ и сандала, чей пронзительный запах, когда они горели, через трубу распространялся по тем районам Парижа, куда дул ветер, так что в течение двух дней прохожие поднимали головы, чтобы вдохнуть эти чуждые ароматы, примешавшиеся к парижскому воздуху, и какой-нибудь носильщик с рынка или гризетка из квартала Сент-Оноре прожили эти два дня, опьяненные крепкими, горячащими фимиамами, какие зефир разносит по склонам Ливана и равнинам Сирии.
И этот аромат до сих пор сохранился в пустой остывшей комнате. Калиостро наклонился, взял щепотку золы и долго с какой-то неистовой страстью нюхал ее.
– Ну вот, – прошептал он, – я смог вдохнуть то, что осталось от существа, некогда прикасавшегося к предметам, которые стали этой золой.
Потом он выглянул через зарешеченное окно на унылый соседний двор, а через лестничный проем на провалы, что оставил пожар, бушевавший в секретной части дома и уничтоживший верхний этаж.
Какое величественное и мрачное зрелище! Комнаты Альтотаса больше не существовало, от стен остались лишь несколько зубчатых обломков, вылизанных языками огня и закопченных дымом.
Человек, не знающий горестной истории Бальзамо и Лоренцы, просто не сумел бы удержаться и не оплакать эти руины. Все в доме свидетельствовало о рухнувшем величии, об угасшем великолепии, об утраченном счастье.
Вызвав сладостные тени опустелого дома и признав могущество небес, Калиостро готов был уже поверить, что справился с обычной людской слабостью, как вдруг взгляд его был привлечен блеском какой-то вещицы, валяющейся на полу среди этой мерзости запустения.
Он наклонился и в щели паркета увидел наполовину погребенную в пыли маленькую серебряную стрелку, которая, казалось, только что выпала из женских волос.
То была итальянская шпилька, какими в ту эпоху дамы прикалывали локоны к прическе, ставшей чрезмерно тяжелой от пудры.
Калиостро – философ, ученый, пророк, наблюдатель людских нравов, желавший, чтобы само небо считалось с ним, человек, подавивший в своем сердце столько скорбей и причинивший столько горя другим, атеист, шарлатан, насмешливый скептик – поднял эту шпильку, поднес ее к губам и, зная, что никто не может его тут увидеть, позволил слезе скатиться из глаза, шепнув:
– Лоренца!
Но это уже был конец. Поистине, в этом человеке было нечто демоническое.
Он искал борьбы, а что касается счастья, оно для него заключалось в борьбе.
Поцеловав священную реликвию, Калиостро растворил окно, просунул руку сквозь прутья решетки и швырнул крохотный кусочек металла в соседний монастырский двор, а упал он в грязь или повис на ветке – не все ли равно.
Так он покарал себя за то, что дал волю чувствам.
«Прощай, – мысленно сказал он, – бездушная безделушка, которая исчезнет, быть может, навсегда! Прощай, воспоминание, ниспосланное мне, вне всяких сомнений, чтобы я расчувствовался и размяк. Отныне я думаю лишь о земном.
Да, дом этот будет осквернен. Да что я говорю, будет! Он уже осквернен! Я открыл дверь, внес свет в его стены, видел гробницу изнутри, рылся в смертном прахе.
Дом уже осквернен! И ради благой цели он будет осквернен окончательно.
Женщина пройдет по этому двору, поднимется по этой лестнице, возможно, будет петь под этими сводами, где до сих пор еще трепещет последний вздох Лоренцы.
Пусть! Это святотатство будет оправдано тем, что послужит моему делу. Если Бог здесь проигрывает, выигрыш может достаться лишь Сатане».
Калиостро поставил фонарь на лестницу.
– Эту лестничную клетку надо будет снести. И всю внутреннюю часть дома тоже. Тайна улетучится, дом перестанет быть святилищем и станет секретным убежищем.
И Калиостро торопливо написал в записной книжке несколько строк:
Моему архитектору г-ну Ленуару.
Расчистить двор и вестибюль, восстановить службы конюшни, разрушить внутренний флигель, снизить особняк до трех этажей. Срок – неделя.
Написав записку, Калиостро произнес:
– Ну, а теперь поглядим, видно ли отсюда окно графини.
Он подошел к одному из окошек третьего этажа и оглядел дом, стоящий на противоположной стороне улицы Сен-Клод, ту часть его фасада, что возвышалась над воротами. Окна комнаты, занимаемой Жанной де Ламотт, находились, самое большее футах в шестидесяти.
– Прекрасно, – промолвил Калиостро. – Женщины неизбежно увидят друг друга.
Взяв фонарь, он спустился по лестнице. Примерно через час с небольшим Калиостро вернулся к себе и отослал план перестройки дома архитектору.
Нам остается добавить, что на следующий день полсотни рабочих заполнили дом, там зазвучали молотки, пилы, кирки, собранная в кучу трава дымилась в углу двора, а вечером, возвращаясь к себе, прохожий, верный своей привычке бросать взгляд на заброшенный дом, увидел, что во дворе подвешена к деревянному кружалу за лапу огромная крыса, а вокруг стоят каменщики и подручные и насмехаются над ее седыми усами и монашеской дородностью.
Молчаливая обитательница особняка была замурована в своей норе грудой сброшенного тесаного камня. Когда же лебедка подняла камни на стену, ее, уже полумертвую, вытащили за хвост и отдали для развлечения и поношения юным овернцам, которые готовили известь для кладки. То ли от позора, то ли задохнувшись, она издохла.
Прохожий произнес последнее надгробное слово: – Она была счастлива целых десять лет! Sic transit gloria mundi[116].
Через неделю особняк, как и распорядился Калиостро, был полностью отремонтирован.
Спустя два дня после визита к Бемеру его высокопреосвященство кардинал де Роган получил записку следующего содержания:
Его высокопреосвященству кардиналу де Рогану, вне всяких сомнений, известно, где он сегодня ужинает.
– А, это от прелестной графини, – пробормотал кардинал, понюхав листок. – Надо пойти.
А вот по какому поводу г-жа де Ламотт попросила свидания у кардинала.
Из пяти лакеев, предоставленных ей для услужения его высокопреосвященством, Жанна выделила одного – черноволосого, с карими глазами и желто-смуглым лицом, весьма изрядно расцвеченным сангвиническим румянцем. Признаки эти, по ее мнению, свидетельствовали о деятельной натуре, а равно о смышлености и упорстве.
Она призвала его и через четверть часа благодаря мягкости и проницательности добилась всего, чего хотела.
Лакей проследил за кардиналом и доложил, что его высокопреосвященство в течение двух дней дважды бывал у г-д Бемера и Босанжа.
Жанне этих сведений было вполне достаточно. Такой человек, как г-н де Роган, не торгуется. Ловкие же торговцы вроде Бемера не упустят покупателя. Значит, ожерелье продано.
Продано Бемером.
А куплено оно г-ном де Роганом! И он ни словом не обмолвился об этом своей наперснице, своей возлюбленной!
Крайне важный признак. Жанна нахмурилась, поджала гонкие губы и написала кардиналу записку, которую мы только что прочли.
Вечером явился г-н де Роган. Но прежде он велел отвезти в дом графини корзину с токайским вином и всевозможными редкими деликатесами, все равно как если бы он собрался поехать отужинать к Гимар или м-ль Данжевиль[117].
Этот нюанс не ускользнул от внимания Жанны, как, впрочем, не ускользало ничто; она решила не выставлять на стол ничего из того, что прислал кардинал; когда же они остались наедине, завела с ним беседу:
– Знаете, монсеньор, меня весьма огорчает одно обстоятельство.
– Какое, графиня? – поинтересовался г-н де Роган с напускным недовольством, которое, правда, отнюдь не свидетельствует, что выражающий его и впрямь испытывает недовольство.
– Мне крайне досадно узнать, что монсеньор не только больше меня не любит, но и никогда не любил.
– Графиня! Да как вы могли такое сказать?
– Не пытайтесь оправдываться, монсеньор. Это будет зряшная трата времени.
– Для меня, – ловко ввернул кардинал.
– Нет, для меня, – откровенно сказала графиня де Ламотт. – Более того…
– О графиня! – воскликнул кардинал.
– Не отчаивайтесь, ваше высокопреосвященство, мне ведь это в высшей степени безразлично.
– Безразлично, люблю я вас или нет?
– Совершенно верно.
– И почему же вам это безразлично?
– Потому что я вас не люблю.
– А знаете, графиня, то, что вы сейчас сказали, не слишком-то любезно.
– Да, действительно, мы начинаем не с нежностей, но примем это за реальность.
– И какова же эта реальность?
– Такова, что я вас никогда не любила, да и вы меня тоже.
– О нет, что касается меня, я так не сказал бы! – воскликнул кардинал почти искренним тоном. – Я питаю к вам весьма сильные чувства. Так что не стоит писать меня в одну строку с вами.
– Ах, монсеньор, давайте будем уважать друг друга настолько, чтобы можно было говорить друг другу правду.
– И какова же эта правда?
– Нас связывают узы, не менее сильные, чем любовь.
– Какие?
– Корысть.
– Корысть? Фи, графиня!
– Ваше высокопреосвященство, я отвечу вам тем же, что нормандский крестьянин сказал сыну про виселицу: «Если она тебе не по нраву, не отбивай охоту у других». Ну, а насчет презренной корысти, монсеньор… Эк, вы ею пренебрегаете!
– Ну хорошо, графиня. Предположим, что мы оба корыстны. Но как я могу способствовать вашим интересам, а вы моим?
– Прежде всего, ваше высокопреосвященство, меня так и подмывает устроить вам сцену.
– Так устраивайте, графиня.
– Вы не выказали мне доверия, а следовательно, и уважения.
– Я? Но когда же это было?
– Когда? Не станете же вы отрицать, что ловко вытянули из меня сведения, которые я сама умирала от желания сообщить вам.
– Какие сведения? О чем?
– О том, что некой высокопоставленной даме нравится некая вещь. И вы теперь можете удовлетворить ее желание иметь эту вещь, не сказав мне об этом.
– Вытянул сведения, догадался о желании некой дамы иметь некую вещь, удовлетворил это ее желание! Право, графиня, вы говорите загадками, точно сфинкс! Я вижу пока женскую головку и шею, но львиных когтей не увидел. Похоже, вы мне сейчас продемонстрируете их. Ну что ж.
– Ничего я вам, монсеньор, не буду демонстрировать, поскольку вы сами ничего не желаете видеть, я просто дам вам разгадку. Сведения – это то, что я узнала в Версале, дама – это королева. И для удовлетворения ее желания вы вчера купили у господ Бемера и Босанжа их знаменитое ожерелье.
– Графиня! – вздрогнув, выдавил побледневший кардинал.
Жанна взглянула на него чистыми глазами.
– Ну что вы смотрите на меня с таким ужасом? – спросила она. – Разве вы вчера не заключили сделку с придворными ювелирами?
Роганы никогда не лгут, даже женщинам. Поэтому кардинал промолчал.
Но он покраснел, а это такая обида, какую ни один мужчина не прощает женщине, ставшей ее причиной, и поэтому Жанна поспешила взять г-на де Рогана за руку.
– Простите, принц, – сказала она, – мне не терпелось показать вам, что вы заблуждаетесь на мой счет. Вы ведь считали меня глупой и скверной?
– О графиня!
И наконец…
– Ни слова больше! Позвольте теперь сказать мне. Быть может, я сумею убедить вас, потому что отныне ясно вижу, с кем имею дело. Я ожидал найти в вас красивую, умную женщину, очаровательную возлюбленную, но нашел гораздо большее. Послушайте.
Жанна придвинулась к кардиналу, и рука ее все так же оставалась между его ладонями.
– Вы согласились стать моей любовницей, не любя меня. Вы только что сами сказали мне это, – продолжал г-н де Роган.
– И повторяю еще раз, – бросила Жанна.
– Итак, у вас есть цель?
– Разумеется.
– И какова же она, графиня?
– Вам нужно, чтобы я ее назвала?
– Нет, мне она и так ясна. Вы хотите способствовать моей фортуне. А разве не ясно, что как только моя фортуна будет сделана, я первым делом позабочусь сделать вашу? Так это, или я заблуждаюсь?
– Вы не заблуждаетесь, ваше высокопреосвященство, все именно так. И поверьте мне в одном: я следовала к этой цели без неприязни и отвращения, дорога была приятной.
– Вы очень любезны, графиня, и говорить с вами о делах – одно удовольствие. Начнем с того, что вы угадали совершенно точно. Вам известно, что я питаю к некой особе почтительную привязанность?
– Да, принц, я заметила это на балу в Опере.
– Эта привязанность всегда будет безответной. Не дай мне Бог когда-нибудь поверить в противное!
– Королева иногда становится просто женщиной, – заметила графиня, – а вы, насколько мне известно, заслуживаете не меньшего, чем кардинал Мазарини[118].
– Он был весьма привлекательный мужчина, – улыбнувшись, бросил г-н де Роган.
– И превосходный первый министр, – совершенно невозмутимо заключила Жанна.
– Графиня, с вами думать и высказываться – излишний труд. Вы думаете и высказываетесь за ваших друзей. Да, я очень хочу стать первым министром. К этому меня побуждает все: и мое происхождение, и знание дел, и определенная благожелательность, каковую выказывают мне кое-какие иностранные дворы, и любовь, которую питает ко мне французский народ.
– Одним словом, все, кроме одного, – заметила графиня.
– Вы имеете в виду неприязнь?
– Да, неприязнь королевы. И эта ее неприязнь – поистине неодолимое препятствие. То, что нравится королеве, в конце концов начинает нравиться королю; то, что ненавистно ей, он отвергает с порога.
– А я ей ненавистен?
– О!
– Будем откровенны, графиня. Я не думаю, что вам следует останавливаться на полпути.
– Ну что ж, монсеньор, королева не терпит вас.
– В таком случае, на мне можно ставить крест. У меня остается только ожерелье.
– А вот тут, принц, вполне возможно, что вы ошибаетесь.
– Но ожерелье-то уже куплено!
– По крайней мере королева убедится, что, хоть она и не любит вас, вы любите ее.
– О графиня!
– Монсеньор, но мы же уговорились называть вещи их именами.
– Ну, хорошо. Так вы говорите, что не теряете надежды увидеть меня в один прекрасный день первым министром?
– Я убеждена, что так и будет.
– Я остался бы весьма недоволен собой, если бы не спросил, что я должен буду сделать для вас.
– Принц, я скажу вам это, как только у вас появится такая возможность.
– Уговорились. В первый же день я жду вас.
– Благодарю. А теперь давайте поужинаем.
Кардинал взял руку Жанны и пожал – именно такого пожатия Жанна ждала несколько дней назад. Но то время уже прошло.
Жанна отняла руку.
– В чем дело, графиня?
– Ваше высокопреосвященство, я сказала: поужинаем.
– Но я не голоден.
– Тогда поговорим.
– Но мне больше нечего сказать.
– В таком случае расстанемся.
– И это вы называете нашим союзом? – сказал кардинал. – Вы спроваживаете меня?
– Монсеньор, чтобы по-настоящему быть полезными друг другу, будем оставаться сами собой.
– Вы правы, графиня. Простите, я и на этот раз ошибся в отношении вас. Но клянусь вам, это уже в последний.
Кардинал взял руку Жанны и поцеловал с такой почтительностью, что не увидел насмешливой, дьявольской улыбки, какая появилась на губах графини, когда он объявил, что в последний раз заблуждается на ее счет.
Жанна поднялась и проводила принца до самой передней. Там он остановился и полушепотом спросил:
– И что же дальше, графиня?
– Никаких сложностей не будет.
– Что делать мне?
– Ничего. Ждите от меня вестей.
– Вы едете?
– Да, в Версаль.
– Когда?
– Завтра.
– И я получу ответ?
– Немедленно.
– В таком случае, моя покровительница, я совершенно полагаюсь на вас.
– Да, позвольте мне действовать.
После этого она возвратилась наверх, легла в постель и, рассеянно глядя на мраморного Эндимиона, ожидающего Диану, прошептала:
– Да, свобода многого стоит.
Став обладательницей столь важной тайны, исполнясь надежд на блистательное будущее, имея две столь могучие опоры, Жанна чувствовала себя способной перевернуть весь мир. Она дала себе две недели сроку, чтобы затем в свое удовольствие полакомиться сочной гроздью, которую судьба подвесила у нее над головой.
Явиться при дворе не как просительница, не бедной попрошайкой, которую выставила г-жа де Буленвилье, но как наследница Валуа, обладательница ренты в сто тысяч ливров, супруга герцога и пэра, слыть любимицей королевы и управлять в эту эпоху интриг и невзгод государством, правя через Марию Антуанетту королем, – вот вкратце та блистательная картина, которая разворачивалась в пылком воображении графини де Ламотт.
Едва наступил день, она помчалась в Версаль. Письма о том, что ей дается аудиенция, у нее не было, но Жанна так верила в свою удачу, что ни секунды не сомневалась: этикет отступит перед ее желанием.
И она оказалась права.
Вся дворцовая прислуга, думающая только о том, как бы угадать склонности хозяев, уже заметила, сколь приятно было Марии Антуанетте общество красавицы графини.
Этого оказалось вполне достаточно, чтобы смышленый придверник, весьма озабоченный своим продвижением, встал в галерее, по которой королева шла из церкви, и как бы невзначай обратился к одному из дежурных камер-юнкеров.
– Сударь, как быть с графиней де Ламотт-Валуа, у которой нет приглашения на аудиенцию?
Королева беседовала вполголоса с г-жой де Ламбаль. Фамилия Жанны, произнесенная слугой, привлекла ее внимание.
Она обернулась:
– Кто-то, кажется, сказал, что здесь графиня де Ламотт-Валуа? – осведомилась королева.
– Да, ваше величество, – ответил камер-юнкер.
– Кто это сказал?
– Вот этот придверник, ваше величество.
Придверник поклонился.
– Я приму госпожу де Ламотт-Валуа, – объявила королева, продолжая свой путь, но тут же снова обернулась. – Проводите ее в ванную комнату.
И Мария Антуанетта пошла дальше.
Когда придверник кратко рассказал Жанне, как он все устроил, та тотчас же полезла за кошельком, но придверник с улыбкой остановил ее:
– Прошу вас, ваше сиятельство, соблаговолите приберечь вашу благодарность: вскоре вы сможете отплатить мне гораздо большим.
Жанна опустила кошелек в карман.
– Вы правы, друг мой, благодарю вас.
«Почему бы, – подумала она, – мне не оказать покровительство придвернику, который только что оказал покровительство мне? Ведь то же самое я делаю для кардинала».
Вскоре Жанну провели к королеве. Вид у Марии Антуанетты был серьезный и даже несколько недовольный, быть может, оттого что она выказала слишком большую благосклонность, приняв нежданно явившуюся графиню.
«Королева воображает, – подумала подруга г-на де Рогана, – что я опять явилась как просительница. Не успею я произнести и двух фраз, как она либо повеселеет, либо велит выставить меня за дверь».
– Сударыня, – сказала королева, – я еще не нашла случая поговорить с королем.
– О, ваше величество были и без того безмерно добры ко мне, и я больше ничего не жду. Я пришла…
– Так с чем же вы пришли? – осведомилась Мария Антуанетта, привычная улавливать переход от одной мысли к другой. – Вы не испросили аудиенции. Быть может, какая-нибудь срочность… для вас?
– Срочность – да, ваше величество, но не для меня.
– В таком случае для меня. Хорошо, графиня, говорите.
И королева провела Жанну в ванную комнату, где уже дожидались служанки. Графиня, видя вокруг королевы столько народу, не начинала разговора.
Сев в ванну, королева отослала служанок.
– Ваше величество, – начала Жанна, – вы видите, я весьма смущена.
– Почему же? Я ведь вам уже сказала.
– Ваше величество знает – мне кажется, я рассказывала об этом, – скольким я обязана великодушию его высокопреосвященства кардинала де Рогана.
Королева нахмурила брови.
– Нет, не знаю, – ответила она.
– Мне казалось…
– Неважно. Продолжайте.
– Его высокопреосвященство оказал мне честь позавчера посетить меня.
Вот как?
– По делам благотворительного общества, в котором я председательствую.
– Хорошо, графиня. Я тоже пожертвую… на вашу благотворительность.
– Ваше величество заблуждается. Я позволю себе сказать, что ничего не намерена просить. Его высокопреосвященство, по своему обыкновению, много говорил мне о доброте королевы, об ее неисчерпаемом милосердии.
– И просил, чтобы я оказала покровительство его протежируемым?
– Именно, ваше величество.
– Хорошо, я сделаю это, но не ради кардинала, а ради тех несчастных, которых я всегда привечаю, с чем бы они ни пришли. Передайте только его высокопреосвященству, что я весьма стеснена в средствах.
– Увы, ваше величество, именно это я ему и сказала, и в этом причина моего смущения, о чем я уже имела честь говорить вам.
– Да, да.
– Я рассказала кардиналу, какое пылкое человеколюбие преисполняет сердце вашего величества, едва прозвучит просьба какого-нибудь несчастного, как великодушие беспрестанно опустошает кошелек королевы, и без того не слишком тугой.
– Ах, вы правы!
– Вот вам пример, ваше высокопреосвященство, сказала я ему. Ее величество стала рабой собственной доброты. Она приносит себя в жертву ради бедняков. Благодеяние, которое она делает, обращается во зло, и тут я сама себя обвиняю.
– Почему же, графиня? – спросила королева, внимательно слушающая то ли потому, что Жанна сумела заинтересовать ее своей сказочкой, то ли потому, что Мария Антуанетта с ее выдающимся умом почувствовала: за этой длинной преамбулой, за этим подготовительным маневром последует нечто весьма интересное для нее.
– Я сказала, ваше величество, что королева пожертвовала мне крупную сумму несколько дней назад, что за последние два года она давала деньги не менее тысячи раз и что, не будь королева столь чувствительна и столь великодушна, у нее были бы уже два миллиона и она могла бы, ни на кого не оглядываясь, сделать себе подарок – купить то прекрасное бриллиантовое ожерелье, от которого она так благородно, так мужественно и, позвольте уж мне сказать это, ваше величество, так напрасно отказалась.
Королева вспыхнула и взглянула на Жанну. Совершенно ясно, самое важное заключалось в этих последних словах. Но что это – подвох? Или всего-навсего лесть? Естественно, уже сама постановка вопроса свидетельствовала, что для королевы в этой теме заключалась опасность. Но ее величество увидела в лице Жанны столько доброты, столько искренней доброжелательности, такое чистосердечие, что просто невозможно было заподозрить обладательницу подобного лица в злокозненности или угодливости.
Но поскольку душе королевы было свойственно подлинное благородство, а благородству всегда присуща сила, силе же – правдивость, Мария Антуанетта вздохнула и призналась:
– Да, ожерелье великолепно, то есть, я хочу сказать, было великолепно, и мне очень приятно, что женщина, имеющая вкус, оценила мой отказ от него.
– Ах, если б вы знали, ваше величество, – воскликнула Жанна, кстати прерывая королеву, – как легко узнать подлинные чувства людей, когда проявляешь участие к тем, кого люди любят!
– Что вы имеете в виду, графиня?
– Я хочу сказать, что, рассказав господину де Рогану о вашем героическом отказе от ожерелья, я увидела, как он побледнел.
– Побледнел?
– Да, и в тот же миг глаза его наполнились слезами. Я, ваше величество, не знаю, действительно ли господин де Роган красавец и образец вельможи, как считают многие; я знаю одно – лицо господина де Рогана, озаренное в тот момент огнем его души и залитое слезами, которые вызвало ваше бескорыстное благородство – ах, да что я говорю! – ваша возвышенная самоотверженность, никогда не изгладится из моей памяти.
Королева несколько секунд молча погружала в воду клюв позолоченного лебедя, что плавал в мраморной ванне.
– Ну, хорошо, графиня, – наконец сказала она, – раз уж господин де Роган показался вам столь красивым и совершенным, как вы только что сообщили, я не требую, чтобы вы смотрели на него моими глазами. Это светский прелат, пастырь, который пасет овечек в той же мере для себя, что и для Господа.
– О ваше величество…
– Что? Разве я оклеветала его? Разве не такова его репутация? И разве он немножко не гордится этим? Вам никогда не случалось видеть, как в дни торжественных богослужений он поднимает и трясет в воздухе свои красивые руки – а они у него и вправду красивые, – чтобы от них отлила кровь и они стали еще белее, и как от этих рук, украшенных пастырским перстнем, богомолки не отрывают глаз, пылающих ярче, чем бриллиант кардинала?
Жанна поклонилась.
– У кардинала много побед, – запальчиво продолжала королева. – Некоторые из них изрядно скандальные. Кардинал влюбчив, как прелаты времен Фронды. Пусть им за это восхищается кто угодно, кроме меня.
– О ваше величество, – отвечала Жанна, ободренная такой откровенностью, а главное, состоянием королевы, – я не знаю, думал ли кардинал о богомолках, когда с таким пылом говорил мне о добродетелях вашего величества, но зато я видела, что свои красивые руки он при этом не поднял в воздух, а прижал к сердцу.
Королева покачала головой и несколько принужденно рассмеялась.
«Вот те на! – подумала Жанна. – Неужели дела обстоят гораздо лучше, чем я надеялась? Неужели досада станет нашим союзником? Ну, тогда нам будет совсем просто».
Но королева тут же приняла безразличный и неприступный вид.
– Продолжайте, – велела она.
– О ваше величество, вы меня парализуете. Скромность, заставляющая его даже отвергать хвалы…
– Это вы о кардинале? Ну-ну…
– Но почему, ваше величество?
– Потому, графиня, что скромность его мне кажется подозрительной.
– Мне не следует, – крайне почтительно ответила Жанна, – защищать того, кто имел несчастье впасть в немилость у вашего величества. Я ни минуты не сомневаюсь в его виновности, ибо он прогневал королеву.
– Господин де Роган не прогневал меня, он меня оскорбил. Но я – королева и христианка, и, следовательно, вдвойне обязана забыть об оскорблении.
Королева произнесла эти слова с лишь ей одной свойственной царственной добротой.
Жанна промолчала.
– Вы ничего не хотите сказать?
– Я вызвала бы неудовольствие вашего величества и навлекла бы на себя немилость и порицание, высказав суждение, не совпадающее с королевским.
– Вы придерживаетесь касательно кардинала иного мнения, нежели я?
– Совершенно противоположного, ваше величество.
– В тот день, когда вы узнаете, что делал принц Луи, дабы навредить мне, вы так не станете говорить.
– Я знаю лишь то, что видела, а видела я то, что он делал, дабы услужить вашему величеству.
– Говорил учтивые слова?
Жанна поклонилась.
– Был почтителен, сетовал, рассыпался в комплиментах? – продолжала Мария Антуанетта.
Жанна молчала.
– Вы питаете к кардиналу столь пылкую приязнь, графиня, что я больше не стану переубеждать вас.
И королева рассмеялась.
– Я предпочла бы, ваше величество, чтобы вы разгневались, а не рассмеялись, – промолвила Жанна. – В чувстве, которое питает к вам кардинал, столько преклонения, что я уверена: он умер бы, увидев, что королева смеется над ним.
– Однако он изрядно переменился.
– Но ваше величество соблаговолили говорить мне в прошлый раз, что господин де Роган вот уже десять лет, как страстно…
– Я пошутила, графиня, – сухо бросила королева.
Жанне пришлось замолчать, и Марии Антуанетте показалось, будто графиня отказалась от борьбы, но это была большая ошибка. Тот миг, когда женщины подобного типа, в которых совмещены тигр и змея, отступают, всегда является прелюдией к нападению; сосредоточенная передышка предшествует броску.
– Вы упомянули про ожерелье, – неосторожно вспомнила королева. – Признайтесь, вы думали о нем.
– Днем и ночью, ваше величество, – с радостью воскликнула Жанна. Такую же радость испытывает полководец на поле боя, видя, что противник совершил роковую ошибку. – Оно прекрасно и пойдет вашему величеству.
– Пойдет?
– Да, ваше величество, пойдет.
– Разве оно не продано?
– Да, продано.
– Португальскому послу?
Жанна отрицательно покачала головой.
– Нет? – радостно переспросила королева.
– Нет, ваше величество.
– Но кому же тогда?
– Его купил господин де Роган.
Королева подскочила от неожиданности, но тут же холодно протянула:
– Ах, вот как…
– Поверьте, ваше величество, – с красноречием, исполненным вдохновения и пыла, принялась убеждать ее Жанна, – господин де Роган совершил прекрасный поступок. То был благородный порыв. Ах, какой дивный порыв! А возвышенная душа вашего величества не может не испытывать симпатии к добрым и высоким чувствам. Должна вам признаться, что, как только господин де Роган услышал от меня о временных затруднениях вашего величества, он воскликнул:
«Как! Королева Франции отказалась от того, от чего не решилась бы отказаться жена генерального откупщика? Да этак французская королева в один прекрасный день принуждена будет увидеть, что госпожа де Неккер щеголяет в этих бриллиантах!»
Господин де Роган еще не знал, что португальский посол ведет переговоры о покупке ожерелья. Я рассказала ему и про это. Его негодование усилилось.
«Нет, – объявил он, – речь уже идет не о том, чтобы доставить удовольствие королеве. Речь идет о королевском достоинстве. Мне известны настроения при иностранных дворах, известны их тщеславие и кичливость. Там будут смеяться над королевой Франции, у которой нет денег, чтобы удовлетворить свою законную прихоть. Нет, этому не бывать!»
И он тут же ушел от меня. Через час я узнала, что он купил ожерелье.
– За полтора миллиона ливров?
– За миллион шестьсот.
– А с какой целью он его покупал?
– Чтобы оно, уж коль не может принадлежать вашему величеству, не могло принадлежать никакой другой женщине.
– А вы уверены, что господин де Роган купил его не затем, чтобы подарить какой-нибудь своей любовнице?
– Я убеждена, он сделал это скорее с целью уничтожить его, чтобы оно не могло украшать ничью шею, кроме шеи королевы.
Мария Антуанетта задумалась, и на ее благородном лице можно было совершенно ясно прочесть все, что происходило у нее в душе.
– Господин де Роган прекрасно показал себя, – наконец произнесла она. – Это благородный поступок и тонкое доказательство преданности.
Жанна с восторгом слушала эти слова.
– Поблагодарите господина де Рогана, – продолжала королева.
– О ваше величество, с радостью!
– Добавьте, что господин де Роган доказал мне свою дружбу, и я как порядочный человек, если воспользоваться выражением Екатерины, принимаю его дружбу и считаю себя обязанной отплатить за нее. Одним словом, я принимаю, но не дар господина де Рогана.
– А что же?
– А чувства, которые им двигали. Господин де Роган решился истратить собственные деньги или свой кредит, чтобы доставить мне удовольствие. Я все ему возмещу. Полагаю, Бемер потребовал задаток?
– Да, ваше величество.
– Сколько? Двести тысяч ливров?
– Двести пятьдесят.
– Это как раз трехмесячное содержание, которое мне дает король. Его как раз сегодня принесли мне раньше срока, но это неважно, главное, что принесли.
Королева позвонила, явились горничные, которые завернули ее в подогретые простыни тонкого батиста, после чего одели.
Пройдя вместе с Жанной к себе в кабинет, королева сказала:
– Откройте, пожалуйста, ящик.
– Верхний?
– Нет, следующий. Видите бумажник?
– Да, ваше величество.
– В нем лежит двести пятьдесят тысяч ливров. Пересчитайте.
Жанна пересчитала.
– Передайте их кардиналу. Еще раз поблагодарите его. Скажите еще, что я обещаю каждый месяц выплачивать ему такую же сумму. Так мы будем рассчитываться. Таким образом я получу ожерелье, которое мне безумно нравится, и пусть даже мне придется ограничивать себя, чтобы расплатиться за него, зато я не поставлю в затруднительное положение короля.
Несколько секунд она собиралась с мыслями.
– И еще я смогу получить подтверждение, – промолвила королева, – что у меня есть участливый друг, сумевший оказать мне услугу…
Королева вновь умолкла и потом продолжила:
– И подруга, сумевшая понять меня.
После этих с лов Мария Антуанетта протянула Жанне руку, и та поспешно приникла к ней.
А когда Жанна уже уходила, королева, поколебавшись, совсем тихо, словно испугавшись собственных слов, сказала:
– Графиня, передайте господину де Рогану, что ему будут рады в Версале и что я самолично хочу поблагодарить его.
Жанна вылетела из покоев королевы не то что вне себя, а просто обезумев от радости. Она сжимала кассовые билеты, словно стервятник свежую добычу.
Никто не ощутил значительности – в прямом и переносном смысле – богатства, которое увозила с собой Жанна де Валуа, в большей степени, чем лошади, везшие ее из Версаля.
Если когда-либо лошади, стремящиеся выиграть приз, и летели галопом по воздуху, то ими были именно эти клячи, запряженные в наемную карету.
Поощренный графиней возница убедил их, будто они – легконогие скакуны с полей Элиды[119] и должны выиграть своему хозяину два золотых таланта, а себе тройную порцию ячменя.
Когда г-жа де Ламотт приехала к кардиналу, тот еще не выезжал и пребывал в своем особняке в окружении визитеров.
Жанна дала ему знать о своем прибытии куда церемонней, чем королеве.
– Вы из Версаля? – спросил кардинал.
– Да, монсеньор.
Он впился в нее взглядом, но она была непроницаема. От Жанны не укрылась его нервозность, унылость, тревога, но она была безжалостна.
– И как? – поинтересовался он.
– Как? Скажите, ваше высокопреосвященство, чего вы хотите? Начнем с этого, чтобы потом мне не слишком упрекать себя.
– Ах, графиня, вы говорите это с таким видом…
– Печальным, да?
– Убийственным.
– Вы хотели, чтобы я повидалась с королевой?
– Да.
– Я видела ее. Вы хотели, чтобы она, которая неоднократно выказывала нерасположение к вам и недовольство, когда при ней произносили ваше имя, позволила говорить о вас?
– Да, я понимаю, что мне следовало отказаться от искушения такого желания.
– Вовсе нет. Королева говорила со мной о вас.
– Вернее сказать, вы были настолько добры, что говорили обо мне?
– Да, именно так.
– И ее величество выслушала вас?
– О, это долгий рассказ.
– Нет, нет, графиня, не говорите больше ни слова, я представляю, какую неприязнь проявила ее величество…
– Да нет, не особенную. Я осмелилась заговорить об ожерелье…
– О том, что я задумал…
– Купить его для нее…
– Графиня, но это же великолепно! И она слушала вас?
– Разумеется.
– Вы сказали, что я хочу поднести это ожерелье ей?
– Она решительно отказалась.
– Я погиб.
– Отказалась принять в подарок, но в долг…
– В долг? Вы так тонко подали мое предложение?
– Настолько тонко, что она согласилась.
– Я ссужаю королеву!.. Графиня, да возможно ли это?
– Это гораздо больше, чем сделать ей подарок, не так ли?
– Тысячекратно!
– Я так и подумала. Во всяком случае, ее величество изъявила согласие.
Кардинал вскочил, тут же снова сел. Потом подбежал к Жанне и схватил ее за руки.
– Не обманывайте меня, – сказал он, – помните, одним-единственным словом вы можете сделать меня несчастнейшим из людей.
– Со страстью не играют, монсеньор, это значит выставить человека на посмеяние, но люди вашего сана и достоинства никогда не могут быть смешными.
– Да, вы правы. Значит, все, что вы сказали…
– Чистейшая правда.
– И у меня с королевой общая тайна?
– Да, тайна… Губительная.
Кардинал вновь подбежал к Жанне и нежно пожал ей руку.
– Мне нравится такое рукопожатие, – заметила графиня. – Так пожимает руку мужчина мужчине.
– Нет, осчастливленный человек – ангелу-хранителю.
– Не преувеличивайте, ваше высокопреосвященство.
– Нет, нет. Моя радость так велика, и моя благодарность… навеки…
– Монсеньор, вы опять преувеличиваете и то и другое. Нам ведь нужно предложить королеве полтора миллиона ливров, да?
Кардинал вздохнул.
– Букингем, монсеньор, рассыпав жемчуга по полу королевской комнаты, потребовал бы у Анны Австрийской кое-что другое.
– О том, что получил Букингем, графиня, я не смею мечтать даже во сне.
– Вы обо всем объяснитесь с королевой сами, поскольку ее величество велела мне заверить вас, что она будет рада видеть ваше высокопреосвященство в Версале.
Графиня произнесла эти слова, не подумав, какое они произведут действие, потому что кардинал побледнел, словно отрок, впервые получивший любовный поцелуй.
Шатаясь как пьяный, он схватился за спинку кресла.
«А, – подумала Жанна, – так это куда серьезней, чем я предполагала. Я-то мечтала о герцогстве и пэрстве, о тысячной ренте, но, похоже, получу титул принцессы и ренту в полмиллиона ливров; господин де Роган старается не из честолюбия и не из алчности – им движет любовь».
Г-н де Роган мгновенно взял себя в руки. Радость – не та болезнь, что затягивается надолго, а кардинал был достаточно умен и счел, что лучше всего будет обсудить с Жанной деловую сторону, дабы заставить ее забыть, как он тут только что говорил о любви.
Жанна ничуть не препятствовала ему в этом.
– Друг мой, – спросил кардинал, заключив Жанну в объятия, – а что собирается делать королева с долгом, в который вы заставили ее поверить?
– Вы интересуетесь этим, потому что предполагается, будто у королевы нет денег?
– Ну, разумеется.
– Она собирается выплачивать его вам, как выплачивала бы Бемеру, с той лишь разницей, что если бы она купила ожерелье у Бемера, об этом узнал бы весь Париж; после ее знаменитых слов насчет военного корабля такая покупка совершенно невозможна; король недовольно поморщится, а вся Франция скорчит возмущенную гримасу. Королева хочет получить эти бриллианты в розницу и платить в рассрочку. Вы предоставите ей такую возможность, и станете для нее кассиром, умеющим хранить тайну и к тому же платежеспособным, если она вдруг окажется в стесненном положении, вот и все. Она счастлива и платит, так что не спрашивайте больше ни о чем.
– Платит? Но как?
– Королева, монсеньор, из тех женщин, которые все понимают, и к тому же она знает, что вы в долгах. При этом она горда, она – не любовница, которая принимает подарки. Когда я сказала ей, что вы уже уплатили двести пятьдесят тысяч ливров задатку…
– Вы ей это сказали?
– А почему бы не сказать?
– Но это могло вынудить ее тут же отказаться.
– Нет, это заставило ее найти средства и согласиться. Ничего даром – вот девиз королевы.
– Боже мой!
Жанна с безмятежным видом полезла в карман и извлекла бумажник ее величества.
– Что это? – поинтересовался г-н де Роган.
– Бумажник, в котором двести пятьдесят тысяч ливров в ассигнациях.
– Ах, вот как!
– Королева с сердечной благодарностью посылает их вам.
– О!
– Все точно. Я пересчитала.
– Да нет, я не об этом.
– А что вы так смотрите?
– Смотрю на бумажник. Что-то я не припоминаю у вас такого.
– Он вам нравится. А ведь он отнюдь не роскошен и не очень красив.
– Да, нравится, сам не знаю почему.
– У вас хороший вкус.
– Вы решили поиздеваться надо мной? С чего это вы заговорили про мой хороший вкус?
– Потому что вы совпадаете во вкусах с королевой.
– Значит, это бумажник…
– Королевы.
– Она вам его отдала?
– Разумеется.
Г-н де Роган вздохнул:
– Понятно.
– Впрочем, если это вам доставит радость… – промолвила Жанна с улыбкой, способной погубить святого.
– Можете в этом не сомневаться, графиня, но я не хочу отнимать его у вас.
– Возьмите бумажник.
– Графиня, – не в силах сдержать радость, воскликнул кардинал, – вы самый драгоценный, самый душевный друг, самый…
– Да, да, конечно.
– И я это буду помнить…
– По гроб жизни. Так принято говорить. Ах, ваше высокопреосвященство, у меня есть одно-единственное достоинство.
– Какое?
– Я занимаюсь вашими делами с удовольствием и превеликим рвением.
– Ну, а если бы вы, друг мой, не получали от этого удовольствия, то я немножко порадовал бы вас, поскольку, пока вы были в Версале, немножко для вас потрудился.
Жанна удивленно взглянула на кардинала.
– Сущая безделица, – бросил он. – Ко мне пришел мой банкир и предложил мне акции какого-то предприятия то ли по осушению, то ли по использованию болот, я не очень понял.
– Ну, и…
– Дело выгодное, и я согласился.
– И правильно сделали.
– Сейчас вы убедитесь, что я первым делом всегда думаю о вас.
– Вторым, монсеньор, большего я не заслуживаю.
– Итак?
– Мой банкир предложил мне две сотни акций, и четверть из них я взял на вашу долю.
– О, монсеньор!
– Позвольте, я продолжу. Два часа спустя он вернулся. Продажа этих акций в тот же день привела к повышению их курса на сто процентов и принесла мне сто тысяч ливров.
– Превосходная спекуляция.
– И вот, дорогая графиня, то есть, я хотел сказать, дорогой друг, ваша доля.
Кардинал отсчитал двадцать пять тысяч из присланных королевой двухсот пятидесяти и вручил их Жанне.
– Прекрасно, ваше высокопреосвященство, услуга за услугу. Но больше всего мне льстит, что вы подумали обо мне.
– И так будет всегда, – заверил кардинал, целуя Жанне руку.
– Я в долгу не останусь, – ответила Жанна. – Итак, монсеньор, до скорой встречи… в Версале.
И Жанна удалилась, отдав предварительно кардиналу листок, где королева записала сроки платежей, и первый из них – через месяц – составлял сумму в пятьсот тысяч ливров.
27. Мы снова встречаемся с доктором Луи
Возможно, наши читатели, помнящие, в каком тяжелом положении мы оставили г-на де Шарни, будут признательны нам, если мы проведем их в переднюю малых покоев королевы в Версале, куда отважный моряк, который никогда не пугался ни стихий, ни людей, бежал, боясь выказать слабость перед тремя женщинами – королевой, Андреа и г-жой де Ламотт.
Однако, дойдя до середины передней, г-н де Шарни почувствовал, что более не способен сделать ни шагу. Он пошатнулся, вытянул руки. Слуги заметили, что молодой человек лишился сил, и бросились к нему на помощь.
Молодой офицер потерял сознание и, когда через несколько секунд пришел в себя, то не сомневался, что королева видела это; вероятно, встревоженная, поддавшись первому движению души, она выбежала бы к нему, если бы ее не остановила Андреа, действовавшая скорее под влиянием жгучей ревности, нежели руководствовавшаяся желанием соблюсти приличия. Впрочем, каковы бы ни были чувства, побудившие Андреа высказать свое мнение королеве, она поступила правильно, потому что едва ее величество возвратилась к себе в кабинет и двери за нею закрылись, как тут же сквозь них донесся возглас:
– Его величество король!
Да, действительно, король шел из своих покоев на террасу; перед государственным советом он решил взглянуть на охотничьи экипажи, которые несколько дней назад нашел в довольно запущенном состоянии.
Войдя в сопровождении нескольких офицеров свиты в переднюю, король остановился, увидев человека, привалившегося к подоконнику; поза его встревожила двух гвардейцев, которые бросились к нему с помощью, поскольку не привыкли к тому, чтобы офицеры ни с того ни с сего лишались чувств.
Они поддерживали г-на де Шарни, наперебой повторяя:
– Сударь! Сударь! Что с вами?
Но молодой человек лишился голоса и был не в силах ответить им. Король, поняв по его молчанию, что дело серьезное, ускорил шаг.
– Кто-то потерял сознание, – заметил он.
Услышав голос короля, гвардейцы обернулись и отпустили г-на де Шарни, и тот из последних сил постарался не упасть, а опуститься на пол.
– Что вы делаете, господа! – воскликнул король.
Г-на де Шарни, окончательно лишившегося чувств, осторожно подняли и посадили в кресло.
– Да это же господин де Шарни! – объявил король, узнавший молодого офицера.
– Господин де Шарни? – раздались голоса.
– Да, племянник господина де Сюфрена.
Слова эти произвели магическое воздействие. На г-на де Шарни было вылито содержимое чуть ли не десятка флакончиков с нюхательной солью, словно он оказался в окружении дам. Был призван врач, который тут же приступил к осмотру больного.
Король, проявлявший интерес к любой науке и сочувствовавший любому страданию, решил не уходить и присутствовать при осмотре. Врач первым делом расстегнул у молодого человека камзол и сорочку, чтобы воздух охладил грудь, и тут ему открылось то, что он вовсе не ожидал видеть.
– О, рана! – произнес король с удвоенным интересом и подошел поближе, чтобы лучше рассмотреть ее.
– Да, – пробормотал г-н де Шарни, пытаясь подняться и обводя затуманенным взглядом собравшихся около него, – старая рана… открылась… пустяки.
При этом он незаметно сжал врачу руку.
Врач все понял, во всяком случае, не мог не понять.
Это был не придворный врач, а простой хирург из Версаля. Он решил придать себе значительности.
– Старая… Вы, верно, шутить изволите, сударь. Края слишком свежие, кровь слишком красная. Этой ране не больше суток.
Возражение словно возвратило силы Шарни, он вскочил на ноги и объявил:
– Я, сударь, не просил вас рассказывать мне, когда я получил эту рану, а только сказал, и еще раз повторяю, что она старая.
И тут только молодой человек заметил и узнал короля. Он застегнул камзол, словно устыдясь, что монарх стал свидетелем его немощности.
– Король! – воскликнул он.
– Да, господин де Шарни, это я, и я благословляю небо, что оказался здесь и могу принести вам некоторое облегчение.
– Пустячная царапина, государь, – пробормотал Шарни. – Старая рана, только и всего.
– Старая или новая, – промолвил король, – но она дала мне возможность увидеть вашу кровь, бесценную кровь отважного дворянина.
– Которому достаточно полежать часа два в постели, чтобы все прошло, – прибавил Шарни и попытался встать, но силы его были на исходе. В голове у него все поплыло, ноги стали как ватные; он сумел лишь приподняться и вновь упал в кресло.
– А ведь ему совсем худо, – заметил король.
– Да, – подтвердил с лукавым и дипломатическим видом врач, учуявший возможность выдвинуться, – но тем не менее его можно спасти.
Король был порядочный человек; он догадался, что Шарни что-то скрывает. Чужая тайна была свята для него. Другой вырвал бы ее у врача, который и без того готов был ее выдать, но Людовик XVI предпочел оставить тайну тому, кому она принадлежит.
Я не хочу, чтобы господин де Шарни подвергался опасности, возвращаясь к себе, – заявил король. – Пусть о нем позаботятся в Версале. Надо сообщить о ране господину де Сюфрену, дяде господина де Шарни, поблагодарить этого господина за его заботы, – король указал на угодливого врача, – и найти моего хирурга доктора Луи; он, полагаю, у себя.
Один офицер помчался исполнять приказы короля.
Двое других подхватили г-на де Шарни и перенесли его в конец галереи, в комнату одного из офицеров гвардии.
Длилось все это гораздо меньше, чем беседа королевы с г-ном де Кроном. Послали к г-ну де Сюфрену, на замену сверхштатному лекарю был вызван доктор Луи.
Мы уже знакомы с этим почтенным, мудрым и скромным человеком, обладающим не столько блистательным, сколько практическим умом, беззаветным тружеником на безграничном поле науки, где равно почетно и посеять зерно, и собирать урожай. Из-за спины хирурга, склонившегося над раненым, выглядывал г-н байи де Сюфрен, которого только что известил нарочный.
Прославленный мореплаватель не мог взять в толк, отчего случился этот обморок, эта внезапная дурнота.
Взяв руку де Шарни и взглянув в его затуманенные глаза, он пробормотал:
– Странно, крайне странно! Знаете, доктор, мой племянник никогда в жизни не болел.
– Это ничего не значит, господин байи, – ответил врач.
– Видно, воздух в Версале слишком тяжел, потому что, говорю вам, десять лет я видел Оливье в море и он всегда был бодр и прям, как мачта.
– Он ранен, – сообщил один из офицеров.
– Как ранен? – воскликнул адмирал. – Да Оливье ни разу в жизни не был ранен!
– Прошу прощения, – заметил офицер, указывая на покрасневший батист сорочки, – но я полагаю…
Г-н де Сюфрен увидел кровь.
– Все это прекрасно, – с непринужденной грубоватостью вмешался доктор, только что кончивший считать пульс раненого, – но, может быть, не будем спорить о причинах его нездоровья? Ограничимся тем, что у нас есть больной, и постараемся вылечить его, если это возможно.
Байи предпочитал говорить сам, он не привык к тому, чтобы судовые лекари прерывали его.
– Доктор, это очень опасно? – спросил он с нескрываемым волнением.
– Примерно так же, как царапина на подбородке при бритье.
– Очень хорошо. Господа, поблагодарите короля. Я скоро приеду повидать тебя, Оливье.
Оливье чуть приподнял веки и пошевелил пальцами, как бы благодаря одновременно дядюшку, который покидал его, и доктора, который вынудил дядюшку уйти.
После этого, счастливый, что лежит в кровати и поручен заботам умного и мягкого человека, он притворился спящим. Доктор выпроводил из комнаты всех остальных.
Короче, Оливье вскоре действительно уснул, благословляя, можно сказать, небо за все, что с ним приключилось, или, вернее, за то, что не произошло ничего особенно скверного в этих весьма непростых обстоятельствах.
У него началась лихорадка, чудесная лихорадка, целительница человеческой природы, вечный огонь, что зацветает в крови, и, следуя предначертаниям Бога, то есть человеческой природы, пускает ростки выздоровления в больном или же вырывает здорового из числа живых.
С лихорадочным возбуждением Оливье вновь и вновь переживал свою ссору с Филиппом, разговор с королевой, разговор с королем, не в силах вырваться из заколдованного круга, в который заключила его горячечная пульсация крови, что словно набросила сеть на его разум. Он бредил.
Часа через три его могли бы уже услышать на галерее, по которой прохаживались несколько гвардейцев; доктор обратил на это внимание, позвал слугу и велел ему взять Оливье на руки. Больной несколько раз жалобно вскрикнул.
– Заверни ему голову в одеяло.
– Да как я возьму? – возмутился слуга. – Он тяжелый, да еще и отбивается. Позовите, пожалуйста, в помощь мне кого-нибудь из господ гвардейцев.
– Ну, если ты боишься больного, то ты просто мокрая курица, – ответил старик доктор.
– Сударь…
– А если он тебе кажется чересчур тяжелым, значит, ты не так силен, как я думал. Придется отправить тебя обратно в Овернь.
Угроза подействовала. Шарни кричал, ругался, неистовствовал, отбивался, но овернец на глазах у гвардейцев поднял его словно перышко.
Гвардейцы обступили доктора, интересуясь, в чем дело.
– Видите ли, господа, – объяснил им доктор Луи, надрывая голос, чтобы заглушить крики раненого, – мне придется проходить многие лье, чтобы ежечасно навещать больного, доверенного королем моему попечению. Эта ваша галерея находится на краю света.
– И куда же вы его собираетесь перенести?
– К себе, поскольку я изрядный ленивец. Во дворце у меня, как вам известно, две комнаты, я уложу его в одной из них и послезавтра, если никто не будет мне мешать, дам вам полный отчет о состоянии его здоровья.
– Доктор, уверяю вас, – сказал один из офицеров, – больному здесь будет очень хорошо, мы все любим господина де Сюфрена и…
– Да, да, я знаю, товарищ помогает товарищу. Раненому хочется пить, вы даете ему воды, после чего он умирает. К чертям собачьим заботливость господ гвардейцев! У меня так загубили уже с десяток пациентов.
Доктор не прекратил разглагольствовать, даже когда Оливье уже никто не мог услышать.
– Да, конечно, – бормотал почтенный врач, – это весьма разумно, я правильно поступил. Не дай Бог, королю захочется навестить больного. А ежели он придет, то услышит его… Нет, никаких колебаний! Надо пойти предупредить королеву, и она посоветует, что мне делать.
Приняв такое решение со стремительностью человека, у которого каждая секунда на счету, доктор Луи освежил прохладной водой лицо раненого и уложил его на кровати так, чтобы тот не мог повредить себе, если начнет метаться, и не свалился с нее. Он закрыл на висячий замок ставни, запер дверь на два оборота, а ключ спрятал в карман и направился к королеве, но сперва, правда, убедился, постояв под дверью и у окна, что крик Оливье не слышен снаружи и невозможно разобрать, о чем он кричит.
Овернца ради вящей предосторожности он запер вместе с пациентом.
Почти у самых своих дверей доктор наткнулся на г-жу де Мизери, которую королева послала узнать новости о раненом. Она хотела войти к доктору.
– Пойдемте, сударыня, – сказал он ей, – я ухожу.
– Сударь, но королева ждет!
– А я, сударыня, как раз и иду к королеве.
– Королева желает…
– Заверяю вас, сударыня, королева узнает все, что пожелает. Идемте.
И он пошел таким стремительным шагом, что г-же де Мизери пришлось чуть ли не бежать, чтобы не отстать от него.
28. Aegri somnia[120]
Королева ждала сообщения г-жи де Мизери, но не врача.
Доктор Луи вошел с присущей ему непринужденностью.
– Ваше величество, – громко объявил он, – больной, состоянием которого интересуется его величество и вы, чувствует себя вполне сносно для человека, у которого лихорадка.
Королева знала своего врача, и ей было известно, что он не терпит людей, которые вопят во все горло, испытывая всего-навсего полустрадания, как он выражался.
Она сообразила, что г-н де Шарни несколько преувеличил тяжесть своего состояния. Сильным женщинам свойственно считать слабыми сильных мужчин.
– Рана ведь у него смехотворная, – бросила королева.
– Ну, как сказать, – ответил доктор.
– Сущая царапина.
– Да нет, ваше величество. И потом, что бы у него ни было, царапина или рана, он сейчас в лихорадке.
– Бедный юноша! И что, сильная лихорадка?
– Чудовищная.
– Вот как? – испуганно промолвила королева. – А мне и в голову не приходило, что вот так сразу… лихорадка…
Доктор быстро взглянул на королеву.
– Лихорадки бывают разные.
– Дорогой Луи, вы меня пугаете. Обычно вы успокаиваете, а сейчас я даже не понимаю, что с вами произошло.
– Ничего особенного.
– Вы так осматриваетесь по сторонам, оборачиваетесь с таким видом, словно хотите поведать мне какую-то тайну.
Не отрицаю.
– Вот как? Она что, касается лихорадки?
– Да.
– И ради этой тайны вы пришли сюда?
– Да.
– Так говорите. Вы же знаете, я любопытна. Итак, начнем с начала.
Как Пти Жан[121]?
– Да, дорогой доктор.
– Ваше величество…
– Так что же? Я жду.
– Нет, это я жду.
– Чего?
– Что вы станете задавать мне вопросы. Я не слишком хороший рассказчик, но, когда меня спрашивают, отвечаю, как по книге.
– Ну хорошо. Я спрашиваю вас: как протекает лихорадка господина де Шарни?
– Нет, вы неправильно начинаете. Сперва спросите меня, как получилось, что господин де Шарни оказался в одной из двух моих комнатушек, вместо того чтобы лежать в комнате, предназначенной для офицеров гвардии, на галерее.
– Ладно, спрашиваю об этом. Это и впрямь удивительно.
– На этот вопрос, ваше величество, я отвечаю, что я не захотел, чтобы господин де Шарни оставался в комнате на галерее, так как у него не совсем обычная лихорадка.
– Что вы хотите этим сказать? – с недоумением поинтересовалась королева.
– В лихорадке господин де Шарни беспрестанно бредит.
– Да?
– А в бреду бедный молодой человек, – продолжал доктор Луи, склонившись к королеве, – говорит о столь деликатных вещах, которых не должны слышать ни господа гвардцейцы, ни король, ни кто-либо другой.
– Доктор!
– Если вы не хотите, чтобы я рассказывал, не надо задавать мне вопросов.
– Нет, нет, дорогой доктор, продолжайте.
И королева взяла врача за руку.
– Что же, этот юноша – атеист и в бреду богохульствует? – спросила она.
– Вовсе нет. Напротив, он глубоко верующий человек.
– Так, может быть, он чрезмерно экзальтирован?
– Экзальтирован – это именно то слово.
На лице королевы появилось бесстрастное выражение, которое всегда предшествует действиям монархов, привыкших к почтительности окружающих и исполненных самоуважения, каковое необходимо великим мира сего, дабы властвовать над другими и не выдавать своих чувств.
– Господин де Шарни, – объявила королева, – был рекомендован мне. Он – племянник господина де Сюфрена, нашего героя. Он оказал мне некоторые услуги, и у меня отношение к нему как к родственнику, как к другу. Скажите мне всю правду, я желаю и должна знать ее.
– Увы, – ответил доктор Луи, – я не могу вам сказать всю правду, и ежели ваше величество так жаждет знать ее, то мне известно лишь одно средство: вашему величеству самой нужно услышать его. И если окажется, что молодой человек говорит нечто непозволительное, у королевы не будет оснований гневаться ни на того, кто нескромно позволил себе проникнуть в тайну, ни на того, кто опрометчиво решил ее похоронить.
– Я дорожу вашей дружбой и верю, что господин де Шарни в бреду говорит странные вещи, – молвила королева.
– Он говорит вещи, которые вашему величеству просто необходимо срочно услышать самой, дабы сделать выводы, – подтвердил добрейший доктор.
И он ласково взял встревоженную королеву за руку.
– Но нужно принять предосторожности, – сказала королева. – Здесь я не могу сделать ни шага, чтобы за мной не увязался какой-нибудь добровольный шпион.
– Сегодня вечером рядом с вами буду только я. Нам нужно будет пройти в мой коридор, у которого двери с каждого конца.
Я запру ту, в которую мы войдем, и никто не сможет проскользнуть за нами.
– Полагаюсь на вас, дорогой доктор, – сказала королева и, опершись на руку врача, вся дрожа от любопытства, выскользнула из своих покоев.
Доктор Луи исполнил обещание. Ни один капитан гвардии не опекал так заботливо короля, отправляющегося в сражение или на осмотр военного лагеря, ни один придворный вельможа – королеву, выезжающую на поиски приключений.
Доктор запер первую дверь и, подойдя ко второй, приложил к ней ухо.
– И что же, больной здесь? – осведомилась королева.
– Нет, ваше величество, он во второй комнате. Если бы он лежал в первой, вы услышали бы его, едва войдя в коридор. Послушайте у двери.
Действительно, из-за двери доносилось жалобное бормотание.
– Доктор, он стонет, ему больно.
– Нет, ваше величество, он вовсе не стонет. Он без умолку говорит. Погодите, я сейчас открою дверь.
– Но я не хочу заходить к нему, – воспротивилась королева.
– А я и не предлагаю вам зайти к нему, – заметил доктор. – Я прошу вас войти в первую комнату, и там, не боясь, что вас увидят, вы без всяких опасений сможете послушать, что он будет говорить.
– Все эти тайны, все эти приготовления, право, пугают меня, – пробормотала королева.
– То ли еще будет, когда вы послушаете его! – ответил доктор.
И он прошел к де Шарни. Шарни лежал, одетый в форменные панталоны, на которых заботливый доктор расстегнул пряжки; его стройные сильные ноги были обтянуты шелковыми чулками, украшенными спиральным перламутрово-опаловым узором; руки, скрытые мятым батистом рукавов, неподвижно вытянулись вдоль тела, словно у мертвеца; он все время пытался поднять с подушки тяжелую, словно налитую свинцом голову.
Его горячий лоб был покрыт бисерными каплями пота, влажные волосы прилипли к вискам.
В нем, поверженном, распростертом, бессильном, теплилась одна-единственная мысль, одно-единственное чувство, один-единственный отблеск; тело его было живо лишь огоньком, что все время вспыхивает, поддерживая сам себя, в его мозгу, точь-в-точь как фитиль в алебастровом ночнике.
Мы отнюдь не напрасно выбрали такое сравнение, потому что этот огонек, единственное проявление жизни, освещал фантастическим, мягким светом отдельные подробности, которые одна только память способна преобразить в бесконечные поэмы.
В этот миг Шарни рассказывал сам себе, как он ехал в фиакре из Парижа в Версаль с дамой-немкой.
– Немка! Немка! – повторял он.
– Да, да, немка, мы уже знаем, – сказал доктор. – По пути из Парижа в Версаль.
– Королева Франции! – вдруг воскликнул Шарни.
– Вот так вот! – бросил доктор Луи, выглянув в комнату, где была Мария Антуанетта. – Что вы на это скажете, ваше величество?
– Как это ужасно, – бормотал Шарни, – безумно любить ангела, женщину, быть готовым отдать за нее жизнь, а приблизившись к ней, увидеть королеву в бархате и золоте, увидеть лишь ткань и металл, а не душу.
– Ого! – с принужденным смешком бросил доктор. Шарни не обращал внимания на его реплики.
– Я сумел бы любить, – говорил он, – замужнюю женщину. Я любил бы ее такой неистовой любовью, что она забыла бы обо всем. Я сказал бы ей: «На этой земле нам остается несколько блаженных дней. И стоит ли этих немногих дней то, что ждет нас, если мы отринем любовь? Приди, возлюбленная моя! Пока ты будешь любить меня, а я тебя, мы будем жить жизнью, какая даруется лишь избранным. А потом придет смерть, то есть та жизнь, какой мы живем сейчас. Так не будем же отказываться от благодеяний любви».
– Весьма здравое рассуждение для бреда, – пробормотал доктор, – хотя мораль не из самых строгих.
– Но у нее дети! – вдруг с яростью выкрикнул де Шарни. – Она никогда не оставит двух своих детей.
– Да, это препятствие, hic nodus[122] – заметил Луи с возвышенной смесью насмешливости и жалости, промокая пот со лба раненого.
– Детей можно увезти под полой дорожного плаща, – продолжал молодой человек, безразличный ко всему, что вне его. – Ах, Шарни, уж если ты уносишь мать, и она для твоих рук легче птичьего перышка, и ты ощущаешь лишь трепет любви, а не тяжесть, неужто ты не сможешь унести и детей Марии?.. О-о! – вдруг неистово вскрикнул он. – Но ведь королевские дети – это такой тяжелый груз, что полмира ощутит их пропажу. Доктор Луи оставил раненого и подошел к королеве. Она неподвижно стояла, и ее колотила дрожь; доктор взял ее за руку – рука тоже тряслась.
– Вы правы, – молвила королева. – Это гораздо больше, чем бред. Если кто-нибудь это услышит, молодому человеку грозит большая опасность.
– Вы послушайте, послушайте, – настаивал доктор.
– Нет, довольно.
– Он утихает. Вот он уже умоляет.
И вправду, Шарни сел и, сложив руки перед собой, уставился расширенными изумленными глазами в зыбкую, призрачную бесконечность.
– Мария, – говорил он дрожащим, ласковым голосом, – Мария, я чувствую, вы любите меня. Нет, я больше ничего не скажу. В фиакре ваша нога, Мария, прикоснулась к моей, и я почувствовал, что умираю. Ваша рука легла на мою… там… там… О нет, я молчу, это тайна моей жизни. Мария, пусть из раны у меня вытечет вся кровь, но эта тайна все равно останется во мне.
Мой противник омыл шпагу моей кровью, но даже если он и приобщился к моей тайне, вашей ему не узнать. Мария, ничего не бойтесь. Можете даже не говорить мне, что любите меня, не нужно, вы ведь покраснели, и мне этого достаточно.
– Ого! – промолвил доктор. – Выходит, это не только лихорадка. Видите, как он спокоен? Это…
– Что? – с тревогой спросила королева.
– Это экстаз, ваше величество. Экстаз, смахивающий на воспоминания. Память души, вспоминающей о небе.
– Я уже достаточно наслушалась, – пробормотала королева и попыталась уйти.
Однако врач схватил ее за руку.
– Что вы намерены делать, ваше величество? – спросил он.
– Ничего, доктор, совершенно ничего.
– А если король захочет повидать своего протеже?
– Ах, да. Это будет большое несчастье.
– Что мне сказать ему?
– Совершенно не представляю, доктор. Даже не знаю, что сказать. Это ужасное зрелище крайне удручило меня.
– Это вы – причина его лихорадки и экстатического состояния, – почти шепотом промолвил доктор. – У него пульс – сто ударов в минуту.
Королева ничего не ответила, осторожно высвободила руку и вышла.
29. Глава, которая наглядно доказывает, что открыть сердце куда труднее, чем отворить вену
Доктор стоял, задумчиво глядя вслед удаляющейся королеве.
Потом он встряхнул головой и пробормотал:
– Есть в этом дворце тайны, которые не относятся к сфере науки. В одних случаях я вооружаюсь ланцетом и отворяю вену, чтобы исцелить, а в других вооружаюсь порицанием и открываю сердца, но сумею ли я их исцелить?
Приступ у Шарни кончился, но глаза его оставались открытыми и взгляд блуждающим; доктор Луи подошел, прикрыл ему веки, смочил виски водой с уксусом, короче, стал делать все то, что превращает жгучий воздух, обволакивающий больного, в райскую отраду.
Вскоре доктор заметил, что лицо раненого стало спокойным, всхлипывания сменились ровным дыханием, с губ вместо страстных речей срывались лишь невнятные звуки.
– Да, да, – прошептал он, – здесь действовало не только влечение, но и влияние. Бред возрастал как бы в предчувствии визита. Человеческие атомы перелетают, словно в царстве растений оплодотворяющая пыльца. Существуют незримые пути передачи мыслей, а у сердец имеются тайные связи.
Внезапно он вздрогнул и полуобернулся, одновременно прислушиваясь и всматриваясь.
– Что это там? – пробормотал он. Действительно, из коридора послышался какой-то шум, шорох платья.
– Нет, это не может быть королева, – решил доктор. – Приняв, как я понимаю, окончательное решение, она не стала бы возвращаться. Что ж, поглядим.
Тихонько приоткрыв другую дверь, также выходящую в коридор, и выглянув, он увидел шагах в десяти недвижно замершую женщину, подобную безмолвному изваянию отчаяния.
Уже стемнело, и тусклая свечка, горящая в коридоре, была не в силах осветить его на всем протяжении, однако на женщину падал лунный свет, и потому она была хорошо видна, пока облако не скрыло луну.
Доктор вернулся в комнату, перешел к первой двери, за которой стояла женщина, и бесшумно, но резко открыл ее. Женщина вскрикнула, вытянула руки и наткнулась на руку доктора Луи.
– Кто здесь? – спросил он, но в голосе его было куда больше жалости, чем угрозы; ведь он догадывался по недвижности этой женщины, что она слушает и не столько даже ушами, сколько сердцем.
– Это я, доктор, – ответил мягкий, печальный голос. Хоть голос этот и был знаком доктору, но не пробудил в нем даже смутного, отдаленного воспоминания.
– Я, Андреа де Таверне.
– О Господи! – воскликнул врач. – Что с ней? Неужели ей стало плохо?
– Ей? – удивилась Андреа. – А кто такая «она»?
Доктор понял, что совершил глупость.
– Прошу прощения, но я только что видел, как тут проходила женщина. Это были не вы?
– Ах, так, значит, передо мной сюда приходила женщина? – поинтересовалась Андреа.
Этот вопрос она задала с таким жгучим любопытством, что у доктора не осталось никаких сомнений относительно чувства, которое продиктовало его.
– Дорогое дитя, мне кажется, у нас идет довольно бессвязный разговор, – заметил доктор. – Про кого вы спрашиваете? Чего вы от меня хотите? Может быть, вы объясните?
– Доктор, – произнесла Андреа таким опечаленным голосом, что он затронул самые глубины души ее собеседника, – милый доктор, не пытайтесь обмануть меня, вы ведь всегда говорили мне правду, так что признайтесь, что передо мной здесь была женщина.
– А разве я вам сказал, что здесь никого не было?
– Но женщина, доктор, женщина?
– Само собой, женщина, если только вы не придерживаетесь мнения, что к женщинам можно причислить лишь тех, кому еще нет сорока.
– Значит, той, что сюда приходила, сорок лет? – воскликнула Андреа, впервые облегченно вздохнув.
– Сказав «сорок», я скинул добрых пять-шесть лет, но надо же быть галантным по отношению к своим друзьям, а госпожа де Мизери – мой друг, и даже хороший.
– Госпожа де Мизери?
– Естественно.
– Это она приходила?
– А чего ради я стал бы скрывать, если бы сюда приходила какая-нибудь другая женщина?
Так…
– Поистине, все женщины одинаково непостижимы. Я-то полагал, что знаю хотя бы вас. Но выходит, и вас я знаю ничуть не лучше, чем других. Это просто ужасно.
– Милый, добрый доктор!..
– Ладно, довольно. Перейдем к делу.
Андреа встревоженно взглянула на него.
– Так что же, ей стало хуже? – осведомился доктор.
– Кому?
– Бог мой, да королеве же!
– Королеве?
– Да, ей. Потому госпожа де Мизери и приходила только что ко мне: королева задыхается, у нее сердцебиение. Очень неприятная болезнь, милая моя барышня, и неизлечимая. Так рассказывайте, что с нею, коль она вас прислала, и пойдем к ней.
И доктор Луи недвусмысленно выказал желание удалиться с места, где происходил этот разговор.
Однако Андреа, дыхание которой стало куда спокойнее, мягко остановила его.
– Нет, дорогой доктор, я пришла не по поручению королевы, – сказала она. – Я даже не знала, что ей плохо. Бедная королева! Если бы я знала… Простите, доктор, я сама не понимаю, что говорю.
– Да, я заметил.
– Мало того, я не понимаю, что со мной происходит.
– Зато я знаю, что происходит с вами: вы дурно себя чувствуете.
И действительно, Андреа отпустила руку доктора, и ее похолодевшая рука безвольно повисла, а сама она, залившись бледностью, пошатнулась.
Доктор поддержал ее, помог собраться с силами.
Андреа произвела над собой героическое усилие. Этот могучий дух, который не могли сломить ни моральные, ни физические страдания, был подобен стальной пружине.
– Разве вы не знаете, доктор, – спросила она, – что я ужасно нервная и темнота вызывает во мне чудовищный страх? В темноте я впадаю в странное состояние, вроде как сейчас.
– Так какого дьявола вы торчите в темноте? Кто вас заставляет? Никто и ничто не принуждало вас сюда идти.
– Я не говорила «ничто», я сказала только «никто».
– Ах, какие тонкости, дорогая моя больная. Этак мы ни к чему не придем. Перейдем к делу, тем более если оно у вас долгое.
– Доктор, я прошу у вас всего десять минут.
– Хорошо, пусть будет десять минут, но только не стоя, мои ноги решительно протестуют против такого рода бесед. Давайте присядем.
– Где?
– Да вот хотя бы на банкетке в коридоре, если вы не против.
– Доктор, а вы уверены, что нас никто не услышит? – испуганно спросила Андреа.
– Никто.
– И раненый, который лежит там? – тем же тоном продолжала Андреа, указывая на комнату, погруженную в синеватый полумрак, сквозь который девушка безуспешно пыталась проникнуть взглядом.
– И этот бедный юноша тоже, – ответил доктор. – Скажу больше: если кто-то нас паче чаяния может подслушать, то это явно будет не он.
– Господи! Ему так плохо? – воскликнула Андреа, прижав руки к груди.
– Я сказал бы, состояние его не самое лучшее. Но давайте говорить о том, что привело сюда вас. И поскорей, дитя мое, поскорей. Вы же знаете, меня ждет королева.
– Но мне кажется, доктор, – вздохнув, промолвила Андреа, – мы об этом и говорим.
– Ах вот как… Господин де Шарни?
– Да, доктор, речь идет о нем, и я пришла узнать у вас, как он себя чувствует.
Доктор Луи, в общем-то, должен был ожидать такого ответа, но молчание, с каким он его воспринял, очень смахивало на ледяное. На самом-то деле в этот миг он сопоставлял поступок Андреа и поступок королевы, придя к выводу, что обеими женщинами двигало одно и то же чувство, а по симптомам он, как ему казалось, распознал, что чувство это – страстная любовь.
Андреа, не знавшая про визит королевы и не имевшая возможности прочесть мысли доктора, исполненные грустной благожелательности и милосердного сострадания, сочла это молчание за неодобрение, выраженное, быть может, чересчур сурово, и хотя доктор не промолвил ни слова, она гордо выпрямилась.
– Мне кажется, доктор, вы должны извинить мой поступок, – сказала она. Господин де Шарни получил рану на дуэли, и рану эту нанес ему мой брат.
– Ваш брат? – удивился доктор Луи. – Вы хотите сказать, что господин Филипп де Таверне ранил господина де Шарни?
– Да.
Но я не знал этого обстоятельства.
– Теперь, когда вы знаете его, у вас, надеюсь, нет оснований сомневаться в том, что мне необходимо знать состояние здоровья господина де Шарни.
– Разумеется, дитя мое, – согласился добряк доктор, обрадованный тем, что у него появилась возможность быть снисходительным. Я не знал, не мог знать истинную причину.
На двух последних словах он сделал нажим, давая понять Андреа, что принимает ее объяснение с весьма большой долей сдержанности.
– Доктор, – попросила Андреа, положив обе ладони на руку собеседника и глядя ему в лицо, – скажите мне все, что вы думаете.
Но я уже сказал. Почему я должен что-то утаивать?
– Дуэль между двумя дворянами – вполне обычное дело, такое случается ежедневно.
– Единственное, что может придать дуэли особое значение, это если наши молодые люди дрались из-за женщины.
– Из-за женщины?
– Да. Например, из-за вас.
– Из-за меня? – Андреа испустила глубокий вздох. – Нет, доктор, господин де Шарни дрался не из-за меня.
Доктор сделал вид, будто он удовлетворен ответом, но решил любым способом узнать причину вздоха.
– А, теперь понимаю, – сказал доктор. – Это ваш брат прислал вас, чтобы иметь самые точные сведения о состоянии здоровья раненого.
– Да, доктор, да! – воскликнула Андреа. – Это брат послал меня.
Теперь уже доктор посмотрел ей в лицо. «Ах, непреклонная душа, – подумал он, – скоро я узнаю, что у тебя на сердце». Вслух же врач сказал:
– Ну, хорошо, я скажу вам всю правду, как сказал бы любому человеку, в интересах которого знать ее. Передайте своему брату, чтобы он принял соответствующие меры. Вы меня понимаете.
– Нет, доктор. Я не могу взять в толк, что вы подразумеваете под «соответствующими мерами».
– Вот что… Дуэли, даже в нынешние времена, неприятны королю. Конечно, он не требует соблюдения эдиктов против дуэлей, но когда дуэль получает скандальную огласку, его величество обрекает участников ее на изгнание или заключает в тюрьму.
– Вы правы, доктор.
– А когда в результате дуэли кто-то погибает, тогда король становится совершенно безжалостным. Так что посоветуйте своему любимому брату скрыться, пока еще есть время.
– Доктор, неужели с господином де Шарни так плохо? – вскричала Андреа.
– Послушайте, дорогая барышня, я ведь вам обещал сказать правду. Вы видите этого несчастного юношу, который спит или, верней, хрипит в той комнате?
– И что же, доктор? – сдавленным голосом спросила Андреа.
– А то, что ежели к завтрашнему дню он не выздоровеет, ежели лихорадка, которая недавно у него началась и пожирает его силы, не прекратится, то завтра в это время господин де Шарни будет мертв.
Андреа почувствовала, что сейчас она закричит, и сдавила себе руками горло, впившись ногтями в кожу, чтобы физическая боль хоть чуть-чуть подавила ужас, разрывавший ей сердце.
Доктор Луи не мог видеть, как исказились ее черты от этой борьбы с собой.
Андреа вела себя как спартанка.
– Мой брат не намерен бежать, – заявила она. – Он честно и мужественно дрался с господином де Шарни и ранил его, лишь защищая себя. Ну, а если он его убил, Господь ему судья.
«Нет, она пришла не по собственному почину, – подумал доктор. – Выходит, ее послала королева. Проверим, неужели ее величество до такой степени легкомысленна».
– А как отнеслась к дуэли королева? – поинтересовался он.
– Королева? Не знаю, – отвечала Андреа. – А при чем здесь королева?
– Я полагаю, ее величество благоволит к господину де Таверне?
– Господин де Таверне цел и невредим. Будем надеяться, что ее величество защитит моего брата, если его станут обвинять.
Доктор Луи, видя, что двусторонняя его гипотеза не находит подтверждения, спасовал.
«В конце концов, я не физиолог, – подумал он, – а всего лишь хирург. Я прекрасно знаю взаимодействие и переплетение мышц и нервов, но какого черта мне соваться в переплетение женских капризов и страстей?»
– Мадемуазель, – обратился он к Андреа, – вы узнали все, что хотели узнать. Заставите вы или не заставите бежать господина де Таверне, это ваше дело. Что же касается меня, мой долг – попытаться спасти раненого в течение этой ночи, иначе смерть, безмолвно продолжающая свою разрушительную работу, через сутки отнимет его у меня. Прощайте.
Доктор Луи ушел к себе в комнату и тихо затворил за собой дверь.
Андреа, видя, что осталась одна – наедине с ужасной реальностью, – дрожащей рукой потерла лоб. Ей казалось, что смерть, о которой так бесстрастно говорил врач, уже появилась здесь и в белом саване бродит по темному коридору.
Всем телом Андреа чувствовала ледяное дыхание этого мрачного призрака; она бегом бежала до своих покоев, заперлась на ключ и рухнула на колени на коврик возле кровати.
– Господи! – с неистовой силой воскликнула она, и из глаз ее заструились потоки жарких слез. – Господи! Ты не можешь быть несправедливым, Господи, не можешь быть равнодушным, не можешь быть жестоким! Ты всесилен и не позволишь умереть этому молодому человеку, который никому не сделал зла и которого все так любят. Господи, мы все безмерно несчастны и верим лишь в твое всеобъемлющее милосердие, хотя и трепещем перед твоим всесокрушающим гневом. Но я, я умоляю тебя… Разве я недостаточно страдала, хотя ни в чем не повинна? Я ведь никогда не жаловалась, даже тебе. И сегодня я молю тебя, заклинаю, прошу сохранить жизнь этому молодому человеку. И если ты откажешь мне, Господи, я скажу, что ты несправедливо ополчился против меня, что ты – Бог черного гнева, Бог беспричинного мщения, я скажу… О прости меня, я кощунствую, прости меня!.. Ты не станешь так карать меня. Прости меня, прости! Ведь ты – Бог кротости и милосердия.
Андреа почувствовала, что в глазах у нее поплыла темнота, тело ослабло; бесчувственная, она рухнула на спину, волосы ее рассыпались, и она осталась лежать на полу, словно мертвая.
Наконец она пришла в себя после ледяного сна, к ней вновь вернулась способность мыслить. Но одновременно вернулись и надежды, и муки.
– Господи, – прошептала она с каким-то зловещим выражением, – как же ты немилосерден. Как же ты покарал меня! Я люблю его! Да, люблю! Неужели и этого тебе мало? Неужели ты погубишь его?
Бог, несомненно, внял молитвам Андреа. У г-на де Шарни не начался новый приступ лихорадки.
На следующий день, пока Андреа жадно собирала всевозможные известия о состоянии раненого, сам он благодаря заботам доктора Луи переходил от смерти к жизни. Горячка отступила перед жизненной силой и лекарствами. Началось выздоровление.
Убедившись, что Шарни спасен, доктор Луи вполовину сократил свои заботы о нем: пациент перестал представлять для него интерес. Человек, особенно если он выздоровел или хорошо себя чувствует, не слишком-то занимает врача.
Но только к концу недели, когда Андреа совершенно успокоилась, Луи, не забывший про откровения больного во время приступа, счел возможным перевезти Шарни в какое-нибудь более отдаленное место. Он намеревался сбить бред с толку.
Однако больной при первых же попытках перевезти его взбунтовался. Подняв на доктора пылающие гневом глаза, он объявил, что находится в гостях у короля и никто не вправе выгнать человека, которому его величество дал приют.
Доктор Луи, который со строптивыми выздоравливающими был отнюдь не столь терпелив, как с больными, просто-напросто позвал четырех слуг и приказал им вынести пациента.
Но Шарни, уцепившись за кровать, довольно чувствительно ударил одного из слуг, а другим принялся угрожать, точь-в-точь как Карл XII в Бендерах[123].
Доктор Луи попробовал его уговорить. Поначалу Шарни был вполне разумен, но когда лакеи вновь попытались его взять, он опять стал сопротивляться; от чрезмерно резкого движения рана снова открылась, произошло кровотечение, и с потерей крови он потерял сознание. У него начался новый приступ лихорадки, куда сильнее первого.
Шарни кричал, что его хотят увезти, чтобы лишить видений, которые посещают его во сне, но напрасно: видения всегда будут благосклонны к нему, он любим и его будут навещать, вопреки доктору; та, что любит его, занимает столь высокое положение, что не станет обращать внимания ни на чьи запреты.
Доктор поспешил отослать лакеев и вновь принялся обрабатывать рану; решив прежде озаботиться о плоти, а о духе после, он привел плоть во вполне удовлетворительное состояние, но не смог одолеть лихорадку, что начало пугать его, так как помутнение разума у больного вполне могло закончиться безумием.
В один день положение настолько ухудшилось, что доктор Луи стал подумывать о сильнодействующих лекарствах. Больной губил не только себя, но и королеву: он не говорил, а кричал, не вспоминал, а сочинял; но хуже всего, что в моменты просветления, а их было немало, Шарни был куда безумней, чем в бреду.
Обеспокоенный до последней крайности, Луи, не имея возможности сослаться на короля, поскольку больной сам ссылался на него, решился поговорить с королевой и воспользоваться тем, что Шарни, утомясь рассказывать свои сны и взывать к видению, уснул.
Когда он вошел, вид у королевы был задумчивый и в то же время радостный: она решила, что доктор принес добрые вести о состоянии больного. Поэтому она весьма удивилась, когда на первый же ее вопрос доктор Луи без обиняков ответил, что больной крайне плох.
– Как так! – воскликнула королева. – Еще вчера он прекрасно себя чувствовал.
– Нет, ваше величество, чувствовал он себя очень плохо.
– Но я же посылала Мизери, и вы сказали, что у него прекрасное самочувствие.
– Я обольщался и хотел, чтобы вы тоже верили, что все хорошо.
– Но если ему так плохо, зачем было обманывать меня? – побледнев, спросила королева.
– Ваше величество…
– А если ему лучше, зачем внушать мне вполне естественное беспокойство за человека, который верно служит королю? Ответьте прямо и открыто. Как развивается болезнь? Как он сам? Существует ли опасность?
– Существует, ваше величество, но не столько для него, сколько для других.
– Доктор, вы опять начинаете говорить загадками, – обеспокоенно бросила королева. – Объясните же.
– Это очень трудно, ваше величество, – отвечал доктор. – Вам достаточно знать, что болезнь графа де Шарни – всецело болезнь души. Рана – всего лишь побочное дополнение к его страданиям, причина бреда.
– У господина де Шарни душевная болезнь?
– Да, ваше величество. Я называю душевным все, что невозможно исследовать с помощью скальпеля. Избавьте меня, ваше величество, от более пространных объяснений.
– Вы хотите сказать, что граф… – не отступалась королева.
– Вы желаете, чтобы я объяснил? – осведомился доктор.
– Разумеется, желаю.
– Хорошо. Я хочу сказать, что граф влюблен, только и всего. Ваше величество потребовали объяснений, я их даю.
Королева передернула плечами, что означало: «Подумаешь!»
– И вы, ваше величество, полагаете, что от этого можно вылечиться, как от раны? – задал вопрос доктор. – Нет, и после краткосрочных приступов бреда у господина де Шарни начнется помешательство. А тогда…
– Что же тогда, доктор?
– Вы потеряете этого молодого человека.
– Право же, доктор, у вас поразительная манера выражаться. Я потеряю этого молодого человека! Что же, если он сойдет с ума, то я буду причиной этого?
– Вне всякого сомнения.
– Доктор, вы возмущаете меня.
– Вы станете причиной этого, если не сейчас, то позже, – пожав плечами, отвечал непреклонный врач.
– Тогда посоветуйте мне что-нибудь, ведь это ваша профессия, – чуть смягчившись, попросила королева.
– То есть вы хотите, чтобы я дал рецепт?
– Если вам угодно.
– Вот он: молодой человек должен быть излечен утешением или суровостью; женщина, имя которой он все время повторяет, должна либо исцелить, либо убить его.
– Опять эти ваши крайности, – нетерпеливо прервала его королева. – Убить, исцелить… Экие громкие слова! Неужто можно убить человека суровостью? Или улыбкой исцелить несчастного безумца?
– Если уж вы столь недоверчивы, – заметил доктор, – то мне остается лишь заверить ваше величество в своем глубоком почтении.
– Так что же, получается, все дело во мне?
– Я ничего не знаю и не хочу знать. Я лишь снова повторяю вам, что господин де Шарни – разумный безумец, что разум может стать причиной помешательства и убить, а безумие может сделать человека здравомыслящим и исцелить. Когда вы захотите избавить дворец от воплей, снов и огласки, вы примете решение.
– Какое?
– То-то и оно, что какое. Я даю всего лишь рецепты, а не советы. Я с уверенностью могу говорить только о том, что слышал своими ушами и видел своими глазами.
– Хорошо, предположим, я вас поняла. Что это даст?
– Двойное благо. Во-первых, и это будет самым лучшим как для вас, так и для всех нас, то, что больной, пораженный в самое сердце стилетом, именуемым здравым смыслом, увидит конец своей начавшейся агонии; во-вторых же… М-да, во-вторых… Простите меня, ваше величество, я был уверен, что из лабиринта есть два выхода, но ошибался. Для Марии Антуанетты, королевы Франции, существует только один.
– Я поняла вас, доктор, вы говорили весьма откровенно. Нужно, чтобы женщина, из-за которой господин де Шарни утратил разум, хочет она того или не хочет, вернула ему его.
– Совершенно верно.
– Нужно, чтобы она решилась пойти и вырвать у него его мечты, иначе говоря, жалящую змею, что свернулась в самых глубинных безднах его души?
– Да, ваше величество.
– Прикажите позвать кого-нибудь, например мадемуазель де Таверне.
– Мадемуазель де Таверне? – переспросил доктор.
– И приготовьте все, чтобы раненый принял нас надлежащим образом.
– Это уже сделано, ваше величество.
– И без всяких церемоний.
– Хорошо, ваше величество.
– Все-таки очень грустно, – прошептала королева, – что вы не знаете, к чему это приведет: убьет или исцелит.
– Так у меня бывает всегда, когда я сталкиваюсь с неизвестной болезнью. Разве могу я знать, когда борюсь с нею лекарством, что оно убивает – болезнь или больного?
– Так вы уверены, что убьете больного? – вздрогнула королева.
– Сколько народу гибнет каждый день из-за капризов королей? – с хмурым видом произнес доктор. – Неужели один-единственный человек не может погибнуть ради чести королевы? Идемте, ваше величество, идемте.
Андреа не нашли, и королева со вздохом последовала за доктором.
Было одиннадцать утра; после чудовищной, беспокойной ночи Шарни, полностью одетый, дремал в кресле. Ставни в комнате были полностью закрыты, сквозь них едва просачивался слабый отблеск дня. Все было сделано с учетом обостренной нервной чувствительности больного, первопричины его страданий.
Никаких звуков, никаких людей, ничего раздражающего зрение. Доктор Луи, искусно борясь с причинами, приведшими к усугублению болезни, все-таки пошел на то, чтобы нанести ей решительный удар, не отступая перед возможностью приступа, который способен убить пациента. Правда, он способен и спасти его.
Королева в утреннем наряде, причесанная с непринужденным изяществом, стремительно вошла в коридор, ведущий к комнате Шарни. Доктор посоветовал ей не колебаться, не раздумывать, а явиться решительно и внезапно, чтобы ее приход произвел наисильнейшее впечатление.
Она нажала на резную ручку двери в переднюю, и женщина в длинной накидке, склонившаяся у двери комнаты де Шарни, едва успела выпрямиться и принять естественный вид, хотя возбужденное лицо и дрожащие руки выдавали ее беспокойство.
– Андреа! – воскликнула удивленная королева. – Вы здесь?
– Да, ваше величество, – ответила бледная и взволнованная Андреа. – А разве вы, ваше величество, сами не здесь?
– Нежданное осложнение, – пробормотал доктор.
– Я всюду вас искала. Где вы пропадаете? – осведомилась королева.
В тоне королевы был некий оттенок, отличный от ее всегдашней доброжелательности. То была как бы прелюдия к допросу, симптом подозрения.
Андреа перепугалась; больше всего она боялась, как бы ее необдуманный поступок не дал ключа к чувствам, которые страшили ее самое. Поэтому, несмотря на всю свою гордость, она решилась солгать.
– Здесь, вы же видите.
– Разумеется, вижу. Но почему вы здесь?
– Мне сказали, что ваше величество искали меня. Вот я и пришла, – сообщила Андреа.
Однако подозрения королевы не рассеялись, и она продолжала задавать вопросы.
– Как же вам удалось догадаться, куда я пойду? – поинтересовалась она.
– Очень просто, ваше величество. С вами был доктор Луи, люди видели, как вы прошли через малые покои, следственно, вы могли направляться только сюда.
«Она верно догадалась», – еще не до конца поверив, но уже без прежней суровости подумала королева.
Андреа предприняла последнее усилие и, улыбнувшись, заметила:
– Если у вашего величества есть намерение тайно пройти куда-то, не следует показываться в открытых галереях, как только что сделала ваше величество. Когда королева проходит через террасу, мадемуазель де Таверне видит ее из своих покоев. Так что нет ничего трудного в том, чтобы, увидев кого-то издали, последовать за ним или даже опередить.
«Она права, стократ права, – мысленно сказала королева. – У меня несчастная привычка: я никогда не думаю о последствиях, мало размышляю и не принимаю во внимание сообразительность других».
Королева чувствовала, что ей следует быть снисходительной, может быть, потому что испытывала потребность в наперснице.
Впрочем, душа ее не являла собой смесь кокетства и подозрительности, как душа обычной женщины; она верила в тех, к кому испытывала привязанность, так как знала, что сама умеет любить. Женщины, которые не доверяют себе, еще больше не доверяют другим. Величайшая беда и тягчайшая кара кокеток – то, что они никогда не верят в любовь своих возлюбленных.
Словом, Мария Антуанетта очень скоро забыла, какое впечатление произвела на нее мадемуазель де Таверне перед дверью де Шарни. Она взяла Андреа за руку, велела ей повернуть ключ в этой двери и с невероятной стремительностью прошла в комнату больного; доктор и Андреа остались в передней.
Как только королева скрылась за дверью, Андреа подняла к небу глаза, полные ярости и муки; этим взглядом она словно посылала неистовое проклятие.
Добряк доктор взял ее под руку и, расхаживая вместе с нею взад-вперед по коридору, промолвил:
– Как вы думаете, ей удастся?
– Что удастся? – спросила Андреа.
– Добиться, чтобы этот несчастный безумец уехал отсюда, иначе, если лихорадка у него не прекратится, он здесь умрет.
– А если уедет, то выздоровеет? – воскликнула Андреа. Удивленный и встревоженный доктор взглянул на Андреа.
– Думаю, да, – ответил он.
– Господи, пусть тогда ей удастся, – прошептала бедная девушка.
Мария Антуанетта прошла прямиком к креслу Шарни. Услышав стук каблуков по паркету, больной поднял голову.
– Королева! – пробормотал он, пытаясь встать.
– Да, сударь, королева! – торопливо произнесла Мария Антуанетта. – Королева, которой известно, как вы стараетесь лишить себя рассудка и жизни, знает, как вы оскорбляете ее в своих снах и оскорбляете, когда бодрствуете, королева, которая заботится о своей чести и о вашей безопасности! Вот почему она пришла к вам, сударь, и не так вы должны были бы встретить ее.
Потерявший голову Шарни, дрожа, поднялся, но при последних словах опустился на колени; измученный физическими и душевными страданиями и к тому же подавленный чувством вины, он не хотел подниматься.
– Да мыслимо ли, – продолжала королева, тронутая его почтительностью и молчанием, – чтобы дворянин, слывший некогда одним из самых верных наших слуг, ополчился, подобно злейшему врагу, на честь женщины? Запомните, господин де Шарни, с самой первой нашей встречи вы видели не королеву; та, кто предстала вам, – женщина, и вы не смеете об этом забывать.
Шарни, потрясенный этой тирадой, что рвалась из самого сердца, попытался вставить хоть слово в свою защиту, но королева помешала ему.
– Что же станут делать мои враги, коль вы даете им пример предательства? – воскликнула она.
– Предательства… – пролепетал Шарни.
– Выбирайте, сударь. Либо вы безумны, и тогда я лишу вас возможности чинить мне зло, либо вы – предатель, и тогда я покараю вас.
– Ваше величество, не называйте меня предателем. Такое обвинение в королевских устах предшествует смертному приговору, а в устах женщины – бесчестит. Королева, казните меня. Женщина, пощадите.
– Да в здравом ли вы уме, господин де Шарни? – изменившимся голосом спросила королева.
– Да, ваше величество.
– Значит, вы сознаете свою вину по отношению ко мне и свое преступление против… короля?
– О Боже! – прошептал несчастный.
– Вы, господа дворяне, слишком легко забываете, что король является супругом женщины, которую вы оскорбляете, поднимая на нее глаза, что король является отцом вашего будущего властелина, моего ребенка. Король – человек стократ возвышенней и лучше, чем все вы, человек, которого я боготворю и люблю.
– О! – глухо простонал Шарни.
Чтобы не упасть, ему пришлось опереться рукою о пол.
Вскрик де Шарни пронзил сердце королевы. В его угасшем взоре она прочла, что он поражен насмерть и умрет, если она сейчас же не вырвет стрелу, которую сама пустила в него. Королева была милосердна и мягка и потому испугалась, видя бледность и слабость того, кому бросила обвинение; она уже была готова позвать на помощь.
Однако она подумала, что доктор и Андреа неверно истолкуют обморок молодого человека, и сама, собственными руками, подняла его.
– Давайте поговорим, – предложила она, – я как королева, вы как мужчина. Доктор Луи пытался вас вылечить. Рана ваша совершенно пустяковая, но ее состояние все ухудшается из-за причуд, рождающихся у вас в мозгу. Так когда же будет излечена ваша рана? Когда вы перестанете пугать добрейшего доктора возмутительным зрелищем своего безумия? Когда вы покинете дворец?
– Ваше величество прогоняет меня… – пробормотал Шарни. – Я ухожу, ухожу.
И он с такой стремительностью вскочил, намереваясь уйти, что не удержал равновесия, пошатнулся и упал прямо в объятия королевы, загородившей ему проход.
Но когда Шарни ощутил соприкосновение с пылающей грудью той, кто его поддержала, когда вокруг него сомкнулось кольцо ее рук, не давших ему упасть, он совершенно утратил рассудок, его уста приоткрылись, и из них вырвался пламенный вздох, который уже не был словом, но не осмелился стать поцелуем.
Королева, сама вспыхнувшая от этого прикосновения, смягченная слабостью молодого человека, оттолкнула его безжизненное тело в кресло и хотела бежать. Однако голова Шарни, откинувшись назад, ударилась о деревянное обрамление спинки, на губах у него показалась светло-розовая пена, а со лба на руку Марии Антуанетте упала жаркая, красноватая капля.
– Прекрасно, – прошептал Шарни, – я умру, убитый вами.
Королева забыла обо всем. Она вернулась, схватила Шарни в объятия, подняла его и прижала ледяную руку к сердцу молодого человека.
Любовь сотворила чудо, Шарни ожил. Он открыл глаза, и видение рассеялось. А женщина испугалась, что, вместо того чтобы попрощаться навсегда, она даст повод для воспоминаний.
Она так стремительно побежала к дверям, что Шарни едва успел ухватить ее за шлейф, восклицая:
– Ваше величество, во имя почтения, какое я питаю к Богу, хотя я его почитаю куда меньше вас…
– Прощайте! Прощайте! – бросила ему королева.
– О ваше величество, простите меня!
– Господин де Шарни, я вас прощаю.
– Ваше величество, последний взгляд!
– Господин де Шарни, – молвила королева, трепеща от гнева и волнения, – если вы человек чести, то сегодня вечером или завтра утром вы, если не умрете, уедете из дворца.
Отдавая повеление, королева умоляла. Шарни, сложив в упоении руки, пополз на коленях к королеве.
Однако она, стремясь убежать от опасности, уже распахнула дверь.
Андреа, не отводившая с самого начала свидания глаз от двери, заметила и стоящего на коленях молодого человека, и близкую к обмороку королеву, заметила горящий надеждой и гордостью взор Шарни и погасший, опущенный взгляд Марии Антуанетты.
Пораженная в самое сердце, исполненная отчаяния, испытывая ненависть и презрение, Андреа все же не склонила голову. Она смотрела на королеву, и ей казалось, что Господь чересчур щедро оделил эту женщину, дав ей красоту и трон: ведь только что он подарил ей целых полчаса с г-ном де Шарни.
Доктор же сейчас был просто не способен обращать внимание на второстепенные подробности.
Полностью поглощенный мыслью, добьется ли королева успеха в переговорах, он только спросил:
– Ну как, ваше величество?
Королева чуть ли не с минуту молчала, чтобы прийти в себя, чтобы утихло бешеное сердцебиение и не пресекся голос.
– Так что же он сделает? – снова задал вопрос доктор.
– Уедет, – пробормотала королева.
Даже не взглянув на нахмурившуюся Андреа и потирающего руки доктора Луи, она машинально закуталась в накидку с кружевными рюшами и быстрым шагом прошла по галерее, направляясь в свои покои.
Андреа пожала руку доктору, который поспешил к больному, и торжественно, словно привидение, пошла к себе в комнату.
Она даже не подумала спросить у королевы, не будет ли каких приказаний. Для Андреа с ее характером королева больше не существовала – была только соперница.
Шарни, на которого доктор Луи вновь простер свои заботы, казалось, стал совершенно другим человеком, нежели был вчера.
Демонстративно преувеличивая свои силы, словно бахвалясь решимостью, он так стремительно, так энергично засыпал доктора вопросами относительно скорых сроков своего выздоровления, режима, которого ему следует держаться, способа, каким ему лучше переезжать, что Луи подумал, а не имеет ли он дело с куда более опасным рецидивом, вызванным новой навязчивой идеей.
Однако вскоре Шарни рассеял все опасения: он был подобен железу, доведенному в огне до красного каления, железу, краснота которого сходит на нет, как только уменьшается жар. На глаз оно уже черное и в то же время еще достаточно жаркое, чтобы испепелить все, что к нему поднесут.
Луи увидел, что к Шарни вернулись спокойствие и логичность его лучших дней. Молодой человек был настолько здравомыслящ, что счел себя обязанным объяснить врачу, почему он так стремительно переменил решение.
– Дорогой доктор, – заявил он, – королева, пристыдив меня, сделала для моего выздоровления куда больше, чем могла бы сделать вся ваша наука вкупе с самыми лучшими лекарствами. Уязвить мое самолюбие – значит укротить меня, подобно тому как укрощают коня, когда рвут ему удилами губы.
– Тем лучше, – пробормотал доктор.
– Я тут вспомнил: один испанец, а они народ хвастливый, однажды, чтобы доказать свою силу воли, говорил мне, что во время дуэли, когда его ранят, ему достаточно пожелать остановить кровь, чтобы не радовать ее видом противника, и она перестает течь из раны. Я смеялся над ним, а теперь сам почти как этот испанец. Если лихорадка и бред, за которые вы корите меня, захотят возвратиться, я скажу им: «Вам нет пути ко мне».
– У нас имеются примеры подобного феномена, – серьезным тоном произнес доктор. – Позвольте же мне поздравить вас. Итак, душевно вы исцелились?
– Ода!
– Ну что ж, вскоре вы убедитесь, какая существует связь между душевным и физическим в человеке. Это интереснейшая теория, и я развил бы ее в книге, будь у меня время. Исцелившись душевно, вы через неделю будете здоровы и физически.
– Дорогой доктор, благодарю вас!
– А для начала вы, значит, уедете?
– Когда вам будет угодно. Прямо сейчас.
– Подождем до вечера. Не будем пороть горячку. Скоропалительные действия – это всегда риск.
– Хорошо, доктор, подождем до вечера.
– И далеко ли вы поедете?
– Хоть на край света, если будет нужно.
– Для первого раза это слишком далеко, – невозмутимо заметил доктор. – Может, ограничимся поначалу Версалем?
– Версалем так Версалем. Как вам будет угодно.
– Мне кажется, излечение вашей раны – вовсе не повод для ссылки, – заметил доктор.
Его наигранно безразличный тон прозвучал для Шарни как предостережение.
– Да, доктор, у меня действительно есть дом в Версале.
– Значит, решено. Сегодня вечером вас перенесут туда.
– Но вы не вполне поняли меня, доктор. Я хотел бы поехать в свои поместья.
– Ах, вот как, в свои владения… Но черт побери, не на краю же света ваши владения.
– Они на границе Пикардии, лье в пятнадцати – восемнадцати отсюда.
– Вот оно что.
Шарни пожал руку доктору Луи, словно благодаря его за деликатность и чуткость.
Вечером те же четыре лакея, что совсем недавно при первой попытке вынести больного были столь грубо изгнаны, перенесли Шарни до кареты, которая ждала его у общего подъезда.
Людовик XVI, проведший весь день на охоте, недавно отужинал и уже лег спать. Шарни был несколько обеспокоен тем, что уезжает, не испросив у короля отпуска, но доктор совершенно успокоил его, пообещав принести монарху извинения и объяснить отъезд необходимостью перемены места.
Покуда Шарни несли к карете, он до последнего мгновения предавался мучительному наслаждению – смотрел на окна покоев королевы. Но поймать его на этом никто не мог бы: лакей, несший факел, освещал дорогу, а не лицо молодого человека.
На ступеньках Шарни поджидало множество офицеров, его друзей; их заблаговременно предупредили, так что отъезд его отнюдь не выглядел бегством.
Веселые и шумливые, они проводили Шарни до самой кареты, но он мог позволить себе скользить взглядом по дворцовым окнам; у королевы они сияли: ее величество чувствовала себя не слишком хорошо и принимала дам в спальне. Окна комнаты Андреа были темны. Сама Андреа, тоскующая, охваченная невольной дрожью, пряталась за узорчатой штофной занавеской и, незримая, следила за каждым движением раненого и его свиты.
Наконец карета тронулась, но так медленно, что можно было различить цокот каждой подковы на звонких плитах.
– Если он не будет принадлежать мне, то пусть не будет принадлежать никому, – прошептала Андреа.
– Если ему вновь придет охота умереть, – пробурчал доктор Луи, вернувшись к себе, – то он хотя бы умрет не у меня и не на моих руках. Черт бы подрал все заболевания души! Чтобы лечить такие недуги, надо быть врачом Антиоха и Стратоники[124].
Шарни благополучно доехал до своего дома. Чуть позже доктор посетил его и нашел в столь хорошем состоянии, что тут же объявил, что это был его последний визит.
На ужин больной съел кусочек курицы и чайную ложечку орлеанского варенья.
На другой день ему сделали визит дядюшка г-н де Сюфрен, г-н де Лафайет и один из придворных, присланный королем. На следующий день его также посетили человека два-три, после чего все забыли о нем.
Шарни начал вставать и гулять в саду.
К концу недели он мог уже не слишком быстро ездить на лошади. Шарни восстановил силы. Он обратился к врачу своего дяди с просьбой позволить ему отправиться в свои владения. Такую же просьбу он послал и доктору Луи.
Тот не колеблясь ответил, что путешествие есть последняя стадия лечения ран, что у г-на де Шарни превосходная карета, а дорога в Пикардию ровна как зеркало и что оставаться в Версале, когда имеется счастливая возможность уехать, было бы безумием.
Шарни приказал нагрузить вещами большой фургон, попрощался с королем, который осыпал его знаками расположения, и попросил г-на де Сюфрена передать королеве изъявления верноподданнейшего почтения; ее величество в тот вечер была больна и никого не принимала. После чего, покинув королевский дворец, он сел в карету и покатил в городок Виллер-Котре, а оттуда – в замок Бурсонн, находящийся примерно в лье от этого городка, который Демустье[125] прославил уже своими первыми стихами.
Назавтра после того дня, когда Андреа увидела королеву, убегающую от коленопреклоненного Шарни, м-ль Таверне, как обычно перед ранней мессой во время утреннего туалета, вошла в спальню ее величества.
Королева еще никого не принимала. Она только успела прочесть записку г-жи де Ламотт и пребывала в лучезарном настроении.
У Андреа, бывшей куда бледней, чем вчера, на лице было написано то выражение сосредоточенной ледяной сдержанности, которое призывает к осторожности и принуждает великих мира сего считаться даже с самым малым.
Одетая просто и, можно даже сказать, строго, Андреа походила на вестницу несчастья, и неважно, кому она его предвещала, – себе или другим.
Эти несколько дней королева была рассеянна и потому не насторожилась, не обратила внимания на медленную и тяжелую поступь Андреа, на ее покрасневшие глаза и матовую бледность висков и рук.
Она чуть повернула голову, как раз настолько, чтобы вошедшая услышала ее дружеское приветствие.
– Здравствуй, малышка.
Андреа ждала, когда королева даст ей возможность заговорить. Ждала, совершенно уверенная, что ее молчание и неподвижность заставят королеву взглянуть на нее.
Так оно и случилось. Не получив иного ответа, кроме глубокого реверанса, королева обернулась и увидела суровое, непреклонное лицо, искаженное страданием.
– Боже мой! – обернувшись, воскликнула она. – Что случилось, Андреа? У тебя что, горе?
– Да, ваше величество, величайшее горе, – ответила Андреа.
– В чем дело?
– Я покидаю ваше величество.
– Ты что, уезжаешь?
– Да, ваше величество.
– Но куда? И что за причина столь скоропалительного отъезда?
– Ваше величество, я несчастлива в своих чувствах.
Королева подняла голову.
– В семье, – покраснев, добавила Андреа.
Королева тоже покраснела, и взгляды обеих женщин, сверкнув, скрестились, как шпаги.
Мария Антуанетта первая овладела собой.
– Не понимаю вас, – промолвила она. – Вчера, мне кажется, вы были счастливы?
– Нет, ваше величество, – твердо произнесла Андреа, – вчера был один из несчастнейших дней моей жизни.
– А-а, – задумчиво протянула королева и сразу же попросила: – Но все-таки объяснитесь.
Я не считаю возможным утомлять ваше величество подробностями, недостойными вашего внимания. Я несчастна в семье, не жду никаких земных благ и пришла попросить ваше величество отпустить меня, дабы я могла заняться своим здоровьем.
Королева встала и взяла Андреа за руку, хотя далось ей это, похоже, нелегко.
– Что означает это шальное решение? – спросила она. – Разве вчера у вас не было отца и брата, как и сегодня? Неужто в один день они вам стали так тягостны и противны? Вы, видимо, считаете, что я способна покинуть вас в трудном положении, но разве я не заботливая мать для всех, у кого нет матери, кто лишен семьи?
Андреа вздрогнула, словно чувствуя свою вину, но тем не менее, склонившись перед королевой, сказала:
– Доброта вашего величества безмерно трогает меня, но даже она не в силах меня разубедить. Я твердо решила покинуть двор, мне необходимо одиночество, и не надо вынуждать меня отказаться от призвания, какое я в себе ощущаю, дабы я не переменилась в своем почтительнейшем отношении к вашему величеству.
– И это призвание вы почувствовали вчера?
– Раньше ваше величество не позволяли мне говорить на эту тему.
– Ну что ж, вы свободны, – с горечью бросила королева. – Но только я ведь вам выказывала столько доверия, что, право, вы могли бы выказать такое же доверие и мне. Впрочем, безумие – требовать ответа у того, кто не желает говорить. Храните ваши тайны, мадемуазель, и постарайтесь быть вдали от меня счастливей, чем были здесь. Помните только одно: я не отказываюсь от дружбы к людям, невзирая на их капризы, и вы все так же будете моим другом. А теперь, Андреа, ступайте, вы свободны.
Андреа сделала придворный реверанс и пошла к выходу. Однако у самых дверей королева окликнула ее.
– Куда же вы поедете, Андреа?
– В аббатство Сен-Дени, ваше величество, – ответила м-ль де Таверне.
– В монастырь! Что ж, мадемуазель, может быть, вам и не в чем каяться, кроме неблагодарности и забывчивости, но и это уже немало. Вы изрядно виноваты передо мной. Ступайте, мадемуазель де Таверне, ступайте.
Результат этих слов был таков: получив разрешение уйти, Андреа, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, не смягчившись и не устыдившись, на что в глубине сердца рассчитывала королева, воспользовалась им и во мгновение ока выбежала из комнаты.
Мария Антуанетта могла заметить и, несомненно, заметила, что мадемуазель де Таверне немедленно покинула дворец.
Она отправилась в дом отца, где в саду, как и надеялась, нашла Филиппа. Брат был задумчив, сестра взволнованна.
Филипп, увидев Андреа, которая по роду своих обязанностей в этот час должна бы находиться во дворце, бросился к ней, удивленный и испуганный.
Напугало его, главным образом, мрачное лицо сестры, которое прежде при встрече с ним расцветало нежной дружеской улыбкой; поэтому Филипп, как и королева, начал с вопросов.
Андреа объявила, что она только что оставила службу у королевы, что отставка ее принята и что она намерена уйти в монастырь.
Филипп резко хлопнул в ладоши, пораженный ее словами.
– Как! – воскликнул он. – И вы тоже, сестра?
– Что значит, и я тоже? Что вы имеете в виду?
– Неужели общение с Бурбонами для нашей семьи – проклятие? – воскликнул он. – Вот и вы сочли, что вынуждены принять постриг! Вы, религиозная по склонностям и душевному складу, наименее светская из женщин и, однако, менее всех способная к пожизненному подчинению установлениям аскетизма! Скажите, в чем вы упрекаете королеву?
– Филипп, королеву не в чем упрекнуть, – холодно ответила Андреа. – Вот вы, так надеявшийся на успех при дворе и имевший основания надеяться на него более, чем кто-либо другой, почему вы не смогли остаться там? Почему вы провели там всего три дня? А ведь я провела три года.
– Королева иногда бывает капризной, Андреа.
– Коль она капризна, вы, мужчина, могли бы и стерпеть это, но я, женщина, не хочу и не обязана терпеть. Если у нее есть капризы, то они есть и у тех, кто служит ей.
– Но все-таки, сестра, – несколько принужденно произнес Филипп, – я так и не понял, почему вы поссорились с королевой.
– Клянусь вам, я вовсе с ней не ссорилась. Вот вы, Филипп, отдалились от нее, но разве у вас была с нею ссора? Эта женщина просто неблагодарна.
– Андреа, ее нужно простить. Ее испортила лесть, но в душе она добра.
– Да, Филипп, и доказательство тому то, что она сделала для вас.
– А что она такого сделала?
– Вы уже забыли? Но у меня память лучше. Так что, Филипп, приняв решение, я одним разом расплатилась за вас и за себя.
– Мне кажется, это слишком дорогая плата. Не в ваши годы и не с вашей красотой отказываются от мира. Одумайтесь, дорогая сестра, вы покидаете мир молодой, но в старости пожалеете об этом и вернетесь в него, когда уже будет поздно, огорчив всех своих друзей, с которыми ваш безумный поступок разлучит вас.
– А ведь вы рассуждали совсем иначе, вы, отважный офицер, воплощение чести и чувства, да только не слишком заботившийся о своем имени и карьере и там, где другие получали титулы и богатство, сумевший нажить только долги и утратить положение, – да, да, совсем иначе, когда говорили мне: «Андреа, она капризна, она — кокетка, она коварна, и я не хочу ей служить». И в подтверждение сказанного вы отказались от мира, хотя и не стали монахом, так что из нас двоих ближе к принятию нерасторжимого обета отнюдь не я, которой это только предстоит, а вы, уже принявший его.
– Вы правы, сестра, и если бы не отец…
– Отец! Перестаньте, Филипп! – с горечью бросила Андреа. – Разве не обязан отец быть опорой своим детям или принимать их поддержку? Только тогда он имеет право называться отцом. А что делает наш? Приходило ли вам когда-нибудь в голову доверить какую-нибудь тайну господину де Таверне? Или, может быть, вы считаете его способным посвятить вас в одну из своих тайн? Нет, – печально продолжала Андреа, – господин де Таверне создан одиноко жить в этом мире.
– Да, я согласен с вами, Андреа, но он не создан для того, чтобы умереть в одиночестве.
Слова эти, произнесенные сурово, но ласково, заставили Андреа подумать, что она отвела в сердце слишком много места гневу, досаде и недовольству миром.
– Мне не хотелось бы, – промолвила она, – чтобы вы сочли меня бессердечной дочерью. Вы же знаете, какая я любящая сестра. Но в этом мире все старались убить во мне чувство симпатии, которое меня привязывало к нему. При рождении Господь Бог дал мне, как всякому человеку, душу и тело – да, душу и тело, которыми всякое человеческое существо вправе распоряжаться, дабы быть счастливым в этой и иной жизни. Но человек, которого я не знала, – Бальзамо – овладел моей душой. А другой человек, с которым я едва была знакома, – Жильбер – овладел моим телом. Повторяю вам, Филипп, чтобы стать доброй и почтительной дочерью, мне недостает лишь отца. Хорошо, перейдем к вам, поглядим, что дала вам служба великим мира сего, которых вы так любите.
Филипп опустил голову.
– Не будем об этом, – попросил он. – Великие мира сего для меня – всего лишь существа, подобные мне. Я люблю их, потому что Бог повелел нам любить и великих, и малых.
– Ах, Филипп, – вздохнула Андреа, – на земле никогда не бывает так, чтобы любящему сердцу ответил тот, к кому оно тянется. Те, кого мы выбираем, выбирают других.
Побледневший Филипп поднял голову и долго с нескрываемым удивлением всматривался в сестру.
– Почему вы говорите мне про это? К чему вы клоните? – задал он вопрос.
– Ни к чему, ни к чему, – великодушно ответила Андреа, отказавшись от мысли снизойти до откровений и рассказать свою тайну. – Я просто немножко не в себе. Мой разум страдает, так что не придавайте никакого значения моим словам.
– И все-таки…
Андреа подошла к Филиппу и взяла его за руку.
– Милый брат, не будем больше об этом. Я приехала попросить вас проводить меня в монастырь. Я выбрала Сен-Дени, но успокойтесь, я не собираюсь постригаться в монахини. Это произойдет позже, если будет необходимо. Большинство женщин жаждут найти в монастыре забвение, я же буду молить о памяти. Мне кажется, я слишком часто забывала Господа. А ведь он – единственный владыка, единственный повелитель, единственное утешение, равно как единственный, кто может подлинно покарать. И сегодня я поняла, что, приближаясь к нему, сделаю для своего счастья больше, чем если бы все богатства, вся сила, вся власть, все радости света соединились, чтобы создать мне счастливую жизнь. Одиночество, дорогой брат, – это преддверие вечного блаженства! В одиночестве Бог говорит с человеческим сердцем, в одиночестве человек говорит с Божьим сердцем.
Филипп жестом остановил Андреа.
– Запомните, – объявил он, – внутри у меня все восстает против этого отчаянного решения. И вообще я не понял причины вашего отчаяния.
– Отчаяния? – с величественным презрением бросила Андреа. – Вы сказали, отчаяния? Хвала Богу, я ухожу не в отчаянии! Скорбеть в отчаянии? О нет, тысячу раз нет!
И движением, исполненным неистовой гордости, она набросила на плечи шелковую накидку, которая лежала рядом на стуле.
– Даже чрезмерность негодования свидетельствует, что состояние, в каком вы находитесь, не может долго длиться, – заметил Филипп. – Андреа, вам не по нраву слово «отчаяние», замените его «досадой».
– Досада! – произнесла Андреа, и ее сардоническая улыбка сменилась надменной. – Уж не думаете ли вы, брат, что мадемуазель де Таверне настолько слаба, что способна уступить свое место в свете под влиянием досады? Досада – слабость кокеток либо дур. Взор, вспыхнувший от досады, тотчас затуманивается слезами, и пожар погашен. Нет, Филипп, во мне нет досады. Мне бы очень хотелось, чтобы вы мне поверили, и, право, речь идет лишь о том, чтобы вы прислушались к себе, прежде чем укорять меня. Скажите, Филипп, если завтра вы уйдете к траппистам или станете картезианцем[126], как назовете вы причину, толкнувшую вас принять такое решение?
– Я назвал бы ее неутолимой тоской, сестра, – ответил Филипп со спокойным величием скорби.
– Прекрасно, Филипп, это слово подходит мне, и я принимаю его. Именно неутолимая тоска влечет меня к одиночеству.
– Ну что ж, – промолвил Филипп, – жизнь брата и сестры не будет ни в чем различаться. Равно счастливые, они будут и одинаково несчастны. Это значит, у нас дружная семья, Андреа.
Андреа решила, что под влиянием волнения брат задаст ей новый вопрос и тогда ее непреклонное сердце может разорваться в тисках братской любви.
Однако Филипп знал по собственному опыту, что высокие души вполне самодостаточны, и не стал вторгаться в те стены, которыми сестра оградила свою.
– В какой день и час вы намерены уехать? – спросил он.
– Завтра, но если возможно, то сегодня.
– Не хотите ли в последний раз прогуляться со мной по парку?
– Нет, – сказала она.
По пожатию руки, которым сопровождался отказ, он понял, что она боится расчувствоваться.
– Я буду готов, как только вы меня известите, – заверил Филипп и, не прибавив более ни слова, чтобы сердце сестры не переполнилось горечью, поцеловал ей руку.
Сделав первые приготовления, Андреа ушла в свою комнату и там получила записку Филиппа:
Сегодня в пять вечера Вы можете повидаться с отцом. Проститься с ним необходимо. Г-н де Таверне кричит о дурном поведении и о том, что его бросают.
Андреа ответила:
В пять я буду в дорожном костюме у г-на де Таверне. В семь мы уже сможем быть в Сен-Дени. Пожертвуете ли вы мне вечер?
В ответ Филипп крикнул в окно, находящееся достаточно близко от комнаты Андреа, чтобы она могла услышать:
– В пять подать карету!
Мы видели, что перед приходом Андреа королева прочитала записку г-жи де Ламотт и улыбнулась.
В этой записке, кроме всевозможных изъявлений почтения, были и такие слова:
…и Ваше величество может быть совершенно уверена, что ей будет предоставлен кредит и доставлена покупка.
Итак, королева улыбнулась и сожгла записку Жанны.
Общение с м-ль де Таверне несколько огорчило ее, но тут вошла г-жа Мизери и объявила, что г-н де Калонн[127] просит о чести быть принятым ее величеством.
Будет отнюдь не лишним рассказать читателю об этом новом персонаже. Он достаточно известен из истории, но роман, который менее точно изображает перспективу и великие деяния, быть может, дает подробности, больше говорящие воображению.
Г-н де Калонн был человек умный, и даже бесконечно умный, представитель поколения второй половины века, поколения не слишком чувствительного, хотя и велеречивого; он примирился с катастрофой, нависшей над Францией, смешивал собственный интерес с общественным, говаривал, как Людовик XV: «После нас хоть потоп» – и повсюду выискивал цветы, чтобы украсить ими свой последний день.
Он знал дела, был царедворцем. Всех женщин, славящихся умом, богатством или красотой, он поддерживал, оказывал им знаки внимания, весьма смахивающие на те, какие оказывает пчела благоуханным, полным нектара цветам.
Короче, все его познания происходили от бесед с семью-восьмью мужчинами и десятью – двенадцатью дамами. Г-н де Калонн был способен производить вычисления вместе с д'Аламбером, философствовать с Дидро, язвить с Вольтером, мечтать с Руссо. Кроме того, он был достаточно силен, чтобы открыто насмехаться над популярностью г-на Неккера[128].
«Отчет» о состоянии финансов в государстве, опубликованный мудрым и глубокомысленным г-ном Неккером, казалось, просветил Францию; Калонн, долго и всесторонне наблюдая за ним, в конце концов представил его в смешном свете даже в глазах тех, кто более всего его боялся, а равно и в глазах королевы и короля, которые вздрагивали при одном упоминании имени Неккера и привычно пугались, слыша насмешки из уст изящного и остроумного государственного деятеля, бросавшего в ответ на множество самых точных цифр: «Стоит ли доказывать, когда ничего нельзя доказать».
В сущности, Неккер доказал только одно – невозможность управлять финансами при тогдашнем их состоянии. Г-н де Калонн принял финансы, сочтя их слишком легкой ношей для своих плеч, но нелишним будет добавить, что сразу же согнулся под их бременем.
Чего хотел г-н Неккер? Реформ. Но его частичные реформы пугали всех. Очень немногие выиграли бы от них, но даже и выигравшие выиграли бы слишком мало, напротив, большинство проиграло бы – и много. Желая установить справедливое распределение налогов, замышляя нанести удар по земельным владениям дворянства и доходам духовенства, Неккер в общих чертах намечал план некоей невозможной революции. Он с самого начала разделил и ослабил нацию, тогда как надо было объединить все ее силы, чтобы привести ко всеобщему обновлению.
Неккер объявил эту цель и сделал недостижимой одним уже тем, что назвал ее. Толковать о реформах, об исправлении злоупотреблений с теми, кто не желает, чтобы злоупотребления эти были исправлены, – не то ли самое, что призвать к сопротивлению всех, кто в них заинтересован? Да и стоит ли предупреждать неприятеля о часе, когда пойдешь на приступ крепости?
И вот это, то есть сложившееся положение, Калонн, бывший подлинным другом нации в куда большей степени, нежели женевец Неккер, прекрасно понял, так как вместо того, чтобы предотвратить неизбежный крах, ускорил пришествие катастрофы.
У него был дерзкий, гигантский и надежный план; суть его состояла в том, чтобы за два-три года довести короля и дворянство до банкротства, которое они оттянули бы лет на десять, а когда банкротство произойдет, объявить: «А теперь, богачи, платите за бедняков, потому что они голодают и истребят тех, кто откажется их накормить».
Но как же король не сумел предвидеть последствий этого плана, да и не сумел распознать сам план? Как он, который трясся от ярости, читая отчет о состоянии финансов, не разглядел своего министра и не содрогнулся? Почему он не сделал выбора между двумя системами и предпочел позволить вести себя навстречу судьбе? Это единственное, за что Людовик XVI как политик должен дать ответ потомкам. То был известный принцип, которому вечно противится всякий, у кого нет достаточно власти, чтобы пресечь зло, когда оно уже укоренилось.
Но чтобы понять, почему на глазах у короля оказалась столь плотная повязка, почему королева, такая прозорливая и такая точная в своих оценках, выказывала ту же слепоту, что ее супруг, когда дело касалось действий министра финансов, истории, а вернее сказать, роману, потому что в данном случае это предпочтительнее, придется представить некоторые необходимые подробности.
Г-н де Калонн вошел к королеве.
Он был красив, высок ростом, обладал благородными манерами, умел смешить королев и доводить до слез своих любовниц. Уверенный, что Мария Антуанетта призвала его по причине спешной надобности, он вошел с улыбкой на устах. А сколькие вошли бы с нарочито хмурым видом, чтобы чуть позже их согласие выглядело вдвойне драгоценным!
Королева была тоже чрезвычайно учтива, пригласила министра сесть, поболтала о всевозможных пустяках и только потом осведомилась:
– Дорогой господин де Калонн, а деньги у нас есть?
– Деньги? – переспросил г-н де Калонн. – Разумеется, ваше величество, деньги у нас есть. Они у нас всегда есть.
– Это просто чудесно, – заметила королева. – Вы единственный, кто так отвечает на вопрос о деньгах. Вы бесподобный финансист.
– Какая сумма нужна вашему величеству? – спросил де Калонн.
– Нет, пожалуйста, объясните мне сперва, как это вам удается находить деньги там, где, ежели судить по ответам господина Неккера, их нет?
– Господин Неккер говорил правду, в казне нет больше денег, и это так же верно, как то, что в день моего вступления в должность министра, пятого ноября тысяча семьсот восемьдесят третьего года, – такие события, ваше величество, не забываются – я, изыскивая государственные финансы, нашел в казне два мешка, в каждом из которых было по тысяче двести ливров. Но ни на денье меньше.
Королева рассмеялась.
– И все-таки?
– Ах, ваше величество, если бы господин Неккер, вместо того чтобы отвечать: «Денег нет», удосужился бы в первый год взять заем в сто миллионов, во второй – в сто двадцать пять, если бы он был уверен, как я сейчас, что на третий год получит заем в восемьдесят миллионов, он был бы подлинным финансистом. Всякий может заявить: «В казне больше нет денег», но не всякий может ответить: «Деньги есть».
– С чем я вас и поздравляю, сударь. Но как будут выплачены долги? Вот ведь в чем вся проблема.
– О, ваше величество, – отвечал Калонн с улыбкой, глубокий и ужасающий смысл которой не мог бы постичь никто, – заверяю вас, долги будут оплачены.
– Полагаюсь в этом на вас, – сказала королева, – но все же продолжим наш разговор о финансах, в вашем изложении это бесконечно интересная наука. Когда беседуешь с другими, финансы кажутся зарослями терновника, а с вами – плодоносным деревом.
Калонн поклонился.
– У вас есть какие-нибудь новые идеи? – поинтересовалась королева. – Позвольте мне первой услышать их.
– Да, ваше величество, есть одна идея, которая принесет миллионов двадцать в карманы французов и миллионов семь-восемь в ваш, о, прошу прощения, в казну его величества.
– Эти миллионы будут с радостью приняты и там и тут. Но откуда они возьмутся?
– Вашему величеству, должно быть, известно, что в разных государствах Европы золотые монеты имеют разную цену?
– Да. В Испании золото дороже, чем во Франции.
– Ваше величество совершенно правы. Говорить с вашим величеством о финансах – истинное удовольствие. Уже почти шесть лет марка[129] золота в Испании стоит на восемнадцать унций дороже, чем во Франции. Так что всякий, кто перевезет из Франции в Испанию марку золота, заработает на ней примерно стоимость четырнадцати унций серебра.
– Это немало! – заметила королева.
– До такой степени немало, – продолжал министр, – что через год, если капиталистам известно то, что известно мне, у нас не останется ни одного луидора.
– Но вы воспрепятствуете этому?
– И немедленно, ваше величество. Я подниму цены на золото до пятнадцати марок четырех унций серебра, и разница, то есть чистый барыш, составит пятнадцатую часть. Вашему величеству, несомненно, ясно: как только станет известно, что на Монетном дворе всякий, кто принесет туда золото, получит такой барыш, в сундуках не останется ни одного луидора. Эти монеты мы переплавим и получим из марки золота вместо тридцати луидоров, как сейчас, тридцать два.
– Настоящий барыш – будущий барыш! – воскликнула королева. – Это прелестная идея, и она произведет фурор.
– Надеюсь, ваше величество, и бесконечно счастлив, что моя идея снискала полное одобрение вашего величества.
– Побольше бы у вас возникало таких идей, и тогда я буду совершенно уверена, что вы выплатите все наши долги.
– А теперь позвольте, ваше величество, узнать, чего вы желаете от меня, – осведомился министр.
– Возможно ли, сударь, сейчас получить…
– Какую сумму?
– Боюсь, что она окажется слишком велика.
Улыбка министра придала смелости королеве.
– Пятьсот тысяч ливров, – сообщила она.
– О ваше величество, – воскликнул министр, – как вы меня напугали! Я уж думал, что речь идет действительно о крупной сумме.
– Значит, это возможно?
– Разумеется.
– И чтобы король…
– А вот это, ваше величество, совершенно невозможно. Все мои счета подписываются королем, но не было еще случая, чтобы его величество их читал, чем я и горжусь.
– Когда я могу рассчитывать получить деньги?
– А когда они нужны вашему величеству?
– Не позже пятого числа будущего месяца.
– Счет будет подписан второго, а третьего ваше величество получит деньги.
– Благодарю вас, господин де Калонн.
– Для меня величайшее счастье угодить вашему величеству. И умоляю не стесняться, когда дело касается денег. Удовлетворить желания вашего величества – дело чести генерального контролера финансов.
Г-н де Калонн поднялся, отвесил изящный поклон, королева протянула ему руку для поцелуя.
– И вот еще что… – сказала она.
– Слушаю, ваше величество.
– У меня угрызения совести из-за этих денег.
– Угрызения? – удивился министр.
– Они мне нужны для удовлетворения каприза.
– Тем лучше. Ведь из этой суммы примерно половина обернется прямыми доходами для нашей промышленности, нашей торговли или увеселений.
– Вы правы, – промолвила королева. – Сударь, вы просто очаровательно умеете утешать.
– Слава Богу, ваше величество. Пусть у вас никогда не будет других поводов для угрызений совести, и мы прямиком придем в рай.
– Видите ли, господин де Калонн, было бы слишком жестоко заставлять бедный народ оплачивать мои капризы.
– Что вы, ваше величество, – успокоил королеву министр, сопровождая каждое слово зловещей улыбкой, – перестаньте терзаться. Клянусь вам, бедный народ вовсе не будет их оплачивать.
– Почему? – удивилась королева.
– Потому что у бедного народа ничего больше нет, – невозмутимо ответил министр, – а там, где ничего нет, король теряет свои права.
И, поклонившись, он удалился.
34. Обретенные иллюзии. Утраченная тайна
Не успел г-н де Калонн по пути к себе пересечь галерею, как в дверь королевского будуара кто-то нетерпеливо заскребся. Вошла Жанна.
– Ваше величество, он здесь, – сообщила она.
– Кардинал? – спросила королева, несколько удивленная словом «он», которое в женских устах означает слишком многое.
Продолжить она не смогла, так как Жанна уже впустила г-на де Рогана и, удаляясь, тайком пожала руку протежируемому покровителю.
Кардинал остался один на один с королевой, шагах в трех от нее он отвесил почтительный поклон.
Королева была тронута его сдержанностью и тактичностью; она протянула руку кардиналу, который до сих пор даже не поднял на нее глаз.
– Сударь, – сказала она, – мне доложили о вашем поступке, который искупает многие провинности.
– Ваше величество, – заговорил кардинал, исполненный неподдельного волнения, – позвольте мне заверить вас, что провинности, о которых напоминает ваше величество, покажутся не столь страшными, если мне будет дозволено объясниться.
– Я отнюдь не запрещаю вам оправдываться, – с достоинством отвечала королева, – но все, что вы скажете, бросит некую тень на любовь и уважение, какие я питаю к своей стране и семье. Вы, ваше высокопреосвященство, можете оправдаться, лишь уязвив меня. Так что не будем лучше касаться этого еще не вполне погасшего костра, а то как бы не пришлось мне или вам обжечь пальцы. Сейчас вы предстаете мне в новом свете – услужливый, почтительный, преданный…
– Преданный до смерти, – вставил кардинал.
– Вот и прекрасно. Но сейчас, – с улыбкой заметила королева, – пожалуй, вернее было бы сказать – до разорения. Не правда ли, ваше высокопреосвященство, вы мне преданы до разорения? Это многого стоит, очень многого. К счастью, насчет этого я озаботилась. Вы не умрете и не будете разорены, если только не разоритесь, как поговаривают, по собственной вине.
– Ваше величество…
– Но это уже ваше дело. Во всяком случае, я по-дружески, поскольку мы снова добрые друзья, дам вам совет: будьте бережливы, это пастырская добродетель, и королю вы будете больше по нраву бережливый, нежели расточительный.
– Я стану скупцом, лишь бы угодить вашему величеству!
– Королю, – подчеркнула это слово Мария Антуанетта, – скупцы тоже не по нраву.
– Я буду таким, как угодно вашему величеству, – с почти нескрываемой страстью заверил кардинал.
– Итак, я сказала вам, – резко прервала его королева, – что из-за меня вы не разоритесь. Вы поручились за меня, я вам благодарна, но я сама способна платить за себя, так что отныне не занимайтесь больше этим: все платежи, начиная с первого, касаются только меня.
– Чтобы покончить с этим делом, – с поклоном сказал кардинал, – мне остается только вручить вашему величеству ожерелье.
Он вынул из кармана футляр и подал его королеве.
Дрожа от радости, Мария Антуанетта приняла ожерелье и, даже не открыв футляр, что как раз и свидетельствовало о желании полюбоваться драгоценным украшением, положила на шкафчик, однако не слишком далеко.
Кардинал произнес несколько любезных фраз, которые были приняты крайне благосклонно, затем вернулся к уже затрагивавшейся теме примирения с ним королевы.
Но поскольку Мария Антуанетта дала себе слово не смотреть бриллианты при кардинале, однако горела желанием полюбоваться ими, слушала она его более чем рассеянно.
По рассеянности же она протянула ему руку, которую он поцеловал с нескрываемым восторгом. После чего, боясь быть в тягость, он попросил позволения удалиться, чем страшно обрадовал королеву. Настоящий друг никогда не может быть в тягость, тот же, к кому безразличны, и того меньше.
Так прошла встреча, исцелившая все сердечные раны кардинала. Он вышел от королевы воодушевленный, опьяненный надеждами и готовый доказать г-же де Ламотт свою безграничную признательность за столь успешно проведенные ею переговоры.
Жанна ждала кардинала в его карете, стоявшей шагах в ста перед шлагбаумом. Выслушав первый залп пламенных заверений в дружбе, она поинтересовалась:
– Так кем же вы все-таки будете – Ришелье или Мазарини? Что поощрили габсбургские уста – честолюбие или нежные чувства? Куда вы броситесь – в политику или в любовную интригу?
– Не смейтесь надо мной, дорогая графиня, – попросил принц. – Я схожу с ума от счастья.
– Уже?
– Помогайте мне, и через три недели я сумею заполучить министерство.
– Через три недели? Проклятье! Как долго ждать! А ведь срок первого платежа истекает через две недели.
– Удача никогда не приходит поодиночке: у королевы есть деньги, и платить будет она, а за мной лишь заслуга почина. Ах, графиня, это такая ничтожная плата за счастье! Бог свидетель, я с удовольствием заплатил бы за примирение пятьсот тысяч ливров.
– Успокойтесь, – улыбнувшись, прервала его графиня, – эта ваша заслуга превысит все прочие. А их у вас много?
– Признаюсь, я предпочел бы заплатить, тогда королева чувствовала бы себя обязанной…
– Ох, монсеньор, что-то подсказывает мне, что вам еще предстоит это удовольствие. Вы к нему подготовились?
– Я велел продать свои последние земли и заложил все доходы и бенефиции за будущий год.
– Выходит, у вас есть полмиллиона?
– Есть, но только вот не представляю, что я буду делать, когда уплачу его.
– Ну, после этого платежа у нас будет три спокойных месяца. Боже мой, да за три месяца может произойти столько событий!
– Да, вы правы, но король велел мне передать, чтобы я больше не делал долгов.
– За два месяца пребывания министром вы будете чисты от долгов.
– О, графиня!
– Не возмущайтесь, не надо. Если этого не сделаете вы, то сделают ваши родственники.
– Вы, как всегда, правы. Куда вы сейчас?
– К королеве. Хочу узнать, какое впечатление у нее от встречи с вами.
– Очень хорошо. Ну, а я возвращаюсь в Париж.
– Зачем? Сегодня вечером вы придете к карточной игре. Это отличная тактика – поле боя нельзя покидать.
– К сожалению, у меня сегодня встреча, о которой меня оповестили утром перед выездом.
Встреча?
– И достаточно важная, если судить по записке, которую мне принесли. Посмотрите сами.
– Почерк мужской, – заметила графиня и прочла:
Ваше высокопреосвященство, некто хочет побеседовать с Вами относительно получения крупной суммы. Этот человек сегодня вечером явится к Вам в Ваш парижский дом и надеется удостоиться аудиенции.
– Подписи нет. Какой-нибудь попрошайка?
– Нет, графиня, вряд ли кто легкомысленно рискнет разыгрывать меня, зная, что мои люди могут поколотить за это палками.
– Вы так думаете?
– Не знаю почему, но у меня ощущение, что мне знаком этот почерк.
– Ну что ж, поезжайте, монсеньор. Впрочем, с людьми, которые сулят деньги, особого риска не бывает. Самое худшее, что может быть, это если обещание окажется пустым звуком. До свидания, монсеньор.
– Графиня, буду счастлив вскоре увидеть вас.
– Да, кстати, монсеньор, еще два вопроса.
– Какие?
– А если вдруг он придет, чтобы неожиданно вернуть вам крупную сумму?
– Крупную сумму?
– Ну, что-то потерянное и найденное, клад например.
– Я вас понял, плутовка. Вы хотите сказать – пополам?
– Боже мой, ваше высокопреосвященство!
– Графиня, вы мне приносите счастье, и разве я не обязан отблагодарить вас? Я это сделаю. А второй вопрос?
– Надеюсь, вы не собираетесь начать тратить эти пятьсот тысяч?
– О, не беспокойтесь.
И они расстались. Кардинал возвращался в Париж, чувствуя себя на седьмом небе.
Два часа назад жизнь обернулась к нему другой стороной. Если он был всего лишь влюблен, королева дала ему гораздо больше, чем он смел надеяться, а если он был просто честолюбив, то и тут она обнадежила его стократ больше.
Король, привычно направляемый своей женой, отныне станет орудием карьеры, которой ничто не будет в силах помешать. Принц Луи чувствовал, что в нем роятся замыслы; по таланту к политике с ним не мог сравниться ни один из его соперников, он желал улучшений, собирался сплотить духовенство и народ, чтобы создать прочное большинство, которое способно к длительному правлению, опираясь на силу и закон.
Кардинал мечтал поставить во главе этого реформаторского движения королеву, которую он обожал, и тем самым превратить все растущую неприязнь к ней в ни с чем не сравнимую популярность, и достаточно было бы одного ласкового слова Марии Антуанетты, чтобы мечта эта стала реальностью.
Вот так ветреник отказывается от легких побед, светский лев превращается в философа, празднолюбец становится неутомимым тружеником. Крупным натурам нетрудно сменить вялую бледность разврата на усталость от плодотворных занятий. Г-н де Роган далеко бы пошел, влекомый горячей упряжкой коней, именуемых любовью и честолюбием.
Он сказал себе, что, вернувшись в Париж, сразу же займется трудами, и действительно, возвратясь, первым делом сжег целую шкатулку любовных записок, призвал управляющего распорядиться о реформах, велел секретарю зачинить перьев, чтобы приняться за мемуар об английской политике, которую он превосходно знал; через час он уже почти овладел собой, но тут в кабинете раздался звонок, возвещающий, что прибыл важный визитер.
Вошел привратник.
– Кто там? – спросил прелат.
– Господин, который сегодня утром писал вашему высокопреосвященству.
– И не подписался?
– Да, монсеньор.
– Но у него должно же быть имя. Спросите.
Через несколько секунд привратник возвратился.
– Его сиятельство граф Калиостро, – объявил он.
Принц вздрогнул.
– Пусть войдет.
Граф вошел, двери за ним затворились.
– Великий Боже! – вскричал кардинал. – Кого я вижу!
– Не правда ли, ваше высокопреосвященство, я почти не изменился? – с улыбкой произнес Калиостро.
– Возможно ли это… – пробормотал г-н де Роган. – Жозеф Бальзамо, о котором говорили, что он погиб при пожаре, жив. Жозеф Бальзамо…
– Граф Феникс живой, и живой более, чем когда-либо, монсеньор.
– Но, сударь, вы представляетесь под другим именем… А почему вы не оставили себе былое?
– Именно потому, монсеньор, что оно былое и вызывает грустные и тягостные воспоминания, во-первых, у меня, ну и, соответственно, у других. Возьмем, к примеру, ваше высокопреосвященство. Скажите, разве вы не захлопнули бы дверь перед Джузеппе Бальзамо?
– Я? Разумеется, нет, сударь. Никогда.
Кардинал, до сих пор еще не пришедший в себя, так и не предложил Калиостро сесть.
– В таком случае, – заметил гость, – у вашего высокопреосвященства памяти и порядочности больше, чем у всех остальных людей.
– Сударь, вы некогда оказали мне такую услугу…
– Не правда ли, монсеньор, – прервал его гость, – я совершенно не постарел и являю собой прекрасное доказательство действенности моих капель жизни.
– Полностью признаю, сударь, но ведь вы возвышаетесь над людьми, вы свободно одариваете их золотом и здоровьем.
– Насчет здоровья не стану спорить, а вот насчет золота – увы, нет.
– Вы больше не делаете золото?
– Нет, монсеньор.
– Но отчего же?
– Потому что я утратил последнюю крупицу необходимого ингредиента, который мой учитель мудрец Альтотас дал мне, когда прибыл из Египта. Это был единственный рецепт, которым я не обладал.
– Он сберег его?
– Нет, то есть да, сберег или, если вам угодно, унес его с собой в могилу.
– Он умер?
– Да, я потерял его.
– Но почему же вы не продлили жизнь хранителю необходимого рецепта, коль сами, по вашему утверждению, сохраняете жизнь и молодость уже столетия?
– Потому что у меня есть средства от болезней, от ран, но я бессилен, если человек погибает в результате несчастного случая, не призвав меня.
– Ах, так, значит, жизнь Альтотаса прервалась в результате несчастного случая?
– Вы должны знать об этом, так как вам известно о моей смерти.
– Значит, пожар на улице Сен-Клод, во время которого вы исчезли…
– Погубил одного Альтотаса, верней, мудрец, устав от жизни, пожелал умереть.
– Странно.
– Напротив, естественно. Я ведь и сам сотни раз подумывал так же покончить счеты с жизнью.
– И тем не менее отказались от этой мысли.
– Потому что выбрал состояние молодости, в котором великолепное здоровье, страсти, плотские радости позволяют мне еще как-то рассеяться. Альтотас же, напротив, выбрал старость.
– Ему надо было последовать вашему примеру.
– Нет. Это был замечательный, выдающийся человек, в этом мире он искал только знания. А властное бурление молодой крови, страсти, наслаждения отвлекли бы его от созерцания вечного. Чтобы размышлять, надлежит избавиться от лихорадки в крови, надо суметь погрузиться в ничем не возмущаемую сонливость.
Старик умеет размышлять лучше, чем молодой человек, но зато, когда им овладевает тоска, лекарства от этого нет. Альтотас умер, став жертвой своей преданности науке. Ну, а я живу как светский человек, теряю попусту время, совершенно ничего не делаю. Я, подобно растению – назвать себя цветком я не решаюсь, – не живу, а существую.
– Да, – произнес кардинал, – с вашим воскрешением возрождается и мое удивление вами. Магия ваших слов, сударь, и ваши чудесные поступки так действуют на меня, что я чувствую, как возрастают мои возможности, как возвышается в моих глазах ценность человека. Вы напомнили мне о мечтах моей юности. Знайте, что десять лет назад вы открыли мне их.
– Да, знаю, но с тех пор мы оба изрядно изменились. Я, монсеньор, уже не мудрец, а только ученый. А вы тогда были красивым молодым человеком, а теперь вы – красивый принц. Кстати, монсеньор, помните, как в тот день у себя в кабинете я предрек вам любовь женщины, на прядь светлых волос которой взглянула моя ясновидица?
Кардинал сперва побледнел, но тут же залился краской. Страх, а потом радость заставили его сердце биться сильней.
– Помню, – ответил он, – но к стыду своему…
– А давайте посмотрим, – с улыбкой прервал его Калиостро, – смогу ли я еще сойти за волшебника. Погодите, я сосредоточусь на этой мысли.
И он задумался.
– Так где же эта светловолосая девочка ваших любовных мечтаний? Что она делает? – проговорил он. – О, я вижу ее. Да и вы тоже сегодня видели ее. Более того, вы приехали от нее.
Кардинал прижал похолодевшую руку к бешено бьющемуся сердцу.
– Сударь, – прошептал он так тихо, что Калиостро с трудом расслышал его, – умоляю вас…
– Вам угодно говорить на другую тему? – предупредительно осведомился волшебник. – Извольте, ваше высокопреосвященство. Располагайте мною, как вам угодно.
И, не дожидаясь приглашения кардинала, который с самого начала этой интересной беседы так и не вспомнил о том, что нужно предложить гостю сесть, Калиостро непринужденно расположился на софе.
Кардинал в оцепенении следил за действиями гостя.
– Ну что ж, – произнес тот, – теперь, монсеньор, когда мы с вами возобновили знакомство, давайте побеседуем, если вам угодно.
– Да, – откликнулся прелат, мало-помалу приходя в себя, – да, побеседуем о возврате долга, который… о котором…
– О котором я упомянул в письме, не так ли? Вашему высокопреосвященству не терпится узнать…
– О, это был всего лишь предлог, не правда ли? Во всяком случае, таково мое предположение.
– Нет, монсеньор, ничуть не бывало, это сущая правда, и совершенно серьезно, уверяю вас. Этот долг вполне достоин быть погашенным: речь идет о пятистах тысячах ливров, а пятьсот тысяч ливров – изрядная сумма.
– Та самая сумма, которою вы меня столь любезно ссудили, – воскликнул кардинал, чье лицо покрылось легкой бледностью.
– Да, монсеньор, которой я вас ссудил, – согласился Бальзамо. – Я рад убедиться, что столь высокопоставленная особа, как вы, обладает такой отменной памятью.
Для кардинала это было ударом. По его лицу заструился холодный пот.
– Я уж было подумал, – промолвил он, – что Жозеф Бальзаме, человек, наделенный сверхъестественными способностями, унес с собой в могилу мой долг, подобно тому как он швырнул в огонь мою расписку.
– Монсеньор, – с важностью возразил граф, – жизнь Жозефа Бальзамо неподвластна гибели точно так же, как лист бумаги, который вы полагали сгоревшим, неподвластен уничтожению.
Смерть бессильна перед эликсиром жизни, огонь бессилен перед асбестом.
– Не понимаю, – произнес кардинал, у которого в глазах все помутилось.
– Сейчас поймете, монсеньор, несомненно, поймете, – ответил Калиостро.
– Что вы имеете в виду?
– Вы узнаете свою подпись.
И он протянул принцу сложенный лист бумаги; еще не развернув его, тот вскричал:
– Моя расписка!
– Да, монсеньор, ваша расписка, – подтвердил Калиостро с легкой улыбкой, которую смягчала бесстрастная почтительность.
– Но ведь вы ее сожгли, сударь, я сам видел пламя.
– Я бросил эту бумажку в огонь, это правда, – возразил граф, – но, как я уже сказал вам, монсеньор, случаю было угодно, чтобы вы писали на куске асбеста, а не на обычной бумаге, а посему я обнаружил расписку среди прогоревших угольев в целости и сохранности.
– Сударь, – надменно произнес кардинал, которому показалось, что предъявление расписки свидетельствует о недоверии к нему, – сударь, поверьте, что и без этой бумаги я точно так же не стал бы отрекаться от долга, как не отрекаюсь от него теперь; поэтому напрасно вы меня обманывали.
– Что вы, монсеньор. Поверьте, у меня и в мыслях не было вас обманывать.
Кардинал покачал головой.
– Вы уверили меня, сударь, – сказал он, – что заемное письмо уничтожено.
– Чтобы вы спокойно и с удовольствием пользовались этими пятьюстами тысячами ливров, – возразил Бальзамо, слегка пожав плечами.
– Но как же так, сударь, – продолжал допытываться кардинал, – почему вы на целых десять лет забыли о столь значительной сумме?
– Я знал, в чьих она руках, монсеньор. Ход событий, игра, воры постепенно уничтожили все мое достояние. Но я знал, что в надежном месте у меня хранятся эти деньги, и спокойно выжидал, покуда не явится крайняя необходимость.
– И вот теперь явилась крайняя необходимость?
– Увы, монсеньор, это так!
– И вы уже не можете более ни потерпеть, ни подождать?
– В самом деле, это не в моих силах, монсеньор, – отвечал Калиостро.
– Итак, вы требуете, чтобы я вернул вам ваши деньги?
– Да, монсеньор.
– Сегодня же?
– Если вам не трудно.
Кардинал замолчал; его охватила дрожь отчаяния. Затем изменившимся голосом он произнес:
– Ваша светлость, несчастные земные владыки не умеют добывать из ничего сокровища с тою же быстротой, как это делаете вы, чародеи, повергающие умы то во тьму, то в свет.
– Ах, монсеньор, – отвечал Калиостро, – поверьте, я не стал бы требовать у вас таких денег, если бы не знал заранее, что вы ими располагаете.
– Я располагаю пятьюстами тысячами ливров? – вскричал прелат.
– Тридцатью тысячами золотом, десятью серебром, а остальные в кассовых билетах.
Кардинал побледнел.
– И хранятся они вот в этом шкафу работы Буля, – продолжал Калиостро.
– Ах, вам и это известно, сударь?
– Да, монсеньор, и мне известно также, ценой каких жертв вам удалось собрать эту сумму. Я слыхал даже, что деньги достались вам вдвое дороже своей истинной стоимости.
– Верно, все так и есть.
– Но…
– Но? – подхватил несчастный принц.
– Но за последние десять лет, – продолжал Калиостро, – я двадцать раз умирал от голода и невзгод рядом с этой распиской, сулившей мне полмиллиона; и все-таки я ждал, не желая вас потревожить. Итак, я полагаю, что мы в расчете, монсеньор.
– В расчете, сударь! – возопил принц. – О, не говорите, что мы в расчете – ведь за вами остается преимущество: вы великодушно ссудили меня столь значительной суммой… В расчете? О нет, нет! Я был и навеки остаюсь вашим должником. Я лишь хочу спросить у вас, ваше сиятельство, почему вы молчали все эти десять лет, имея возможность потребовать у меня все свои деньги? За минувшие десять лет я раз двадцать располагал возможностью вернуть вам долг без затруднений.
– В то время как теперь? – спросил Калиостро.
– О, теперь, не скрою от вас, – воскликнул принц, – теперь уплата долга, которой вы от меня требуете, а вы ведь этого требуете, не так ли?
– Увы, монсеньор!
– Теперь она вводит меня в чудовищные затруднения.
Калиостро слегка повел головой и плечами, что должно было означать: «Делать нечего, монсеньор, дело обстоит так, и другого выхода нет».
– Но вам, угадывающему все на свете, – продолжал принц, – вам, умеющему читать в глубине сердец и даже в глубине шкафов, что порой оказывается еще хуже, – вам, вероятно, нет нужды рассказывать, почему эти деньги так важны для меня и на какие таинственные и священные цели я их предназначал?
– Вы заблуждаетесь, монсеньор, – ледяным тоном возразил Калиостро, – я об этом понятия не имею. Мне и собственные тайны принесли достаточно горя, разочарований и бед, а потому я не занимаюсь чужими тайнами, если они ни к чему мне не служат. Мне надобно было знать, располагаете вы деньгами или нет, поскольку я собирался их у вас потребовать. Я выяснил, что деньги у вас имеются, а каким образом вы намеревались их употребить, было для меня не так уж важно. К тому же, монсеньор, знай я причину ваших затруднений, она, быть может, показалась бы мне столь значительной и достойной внимания, что я поддался бы слабости и согласился повременить, а в нынешних обстоятельствах, повторяю, отсрочка была бы для меня весьма пагубна. Поэтому я предпочитаю ничего не знать.
– Позвольте, сударь! – вскричал кардинал, чья гордость и обидчивость были уязвлены последними словами графа. – Не думайте, будто я хоть в малейшей мере хочу разжалобить вас своими невзгодами; у вас своя корысть; этот документ подтверждает и охраняет ваши интересы; на документе моя подпись, и этого достаточно. Ваши пятьсот тысяч ливров будут вам возвращены.
Калиостро отдал поклон.
– Я прекрасно знаю, – продолжал кардинал в порыве горя, пронзившего его при мысли, что он в один миг лишается собранных с таким трудом денег, – я знаю, сударь, что эта бумага есть всего лишь признание долга, а срок уплаты на ней не указан.
– Да простит меня ваше высокопреосвященство, – возразил граф, – но давайте обратимся к расписке; в ней ясно сказано:
Подтверждаю получение от господина Жозефа Бальзамо суммы в 500 000 ливров, каковую обязуюсь выплатить ему по первому требованию.
Кардинал задрожал всем телом; он успел забыть не только свой долг, но и выражения, в которых была составлена расписка.
– Видите, монсеньор, – продолжал Бальзамо, – я не прошу у вас слишком многого. Вы не в силах исполнить мою просьбу – что ж, так тому и быть. Мне только жаль, что вы, ваше высокопреосвященство, как будто забыли, что Жозеф Бальзамо выложил вам деньги, как только вы обратились к нему в трудную минуту; он выложил их господину де Рогану, которого совсем не знал. И по моему разумению, господин де Роган, столь могущественный во всех отношениях вельможа, мог бы последовать примеру Бальзамо и вернуть долг столь же широким жестом, достойным вельможи. Однако вы рассудили, что сие невозможно, и не будем более об этом толковать. Расписку я забираю. Прощайте, ваше высокопреосвященство.
И Калиостро, хладнокровно сложив расписку, приготовился спрятать ее в карман. Кардинал остановил его.
– Граф, – произнес он, – тот, кто носит имя Роганов, не потерпит, чтобы его учили великодушию. К тому же в нашем случае это был бы скорее урок порядочности. Пожалуйте мне расписку, сударь, и я вам уплачу.
Тут Калиостро в свою очередь заколебался.
Бледность, слезы в глазах, трясущиеся руки кардинала, казалось, вызвали в нем глубокое сострадание.
При всей своей гордости кардинал угадал милосердный порыв Калиостро. Мгновение он надеялся на благоприятный исход дела. Но вдруг взор графа стал жестким, под его нахмуренными бровями сверкнули молнии, и он протянул кардиналу руку вместе с распиской.
Г-н де Роган, пораженный в самое сердце, не стал терять ни секунды: он подошел к шкафу, на который указал Калиостро, и извлек из него пачку банкнот; затем он указал пальцем на несколько мешков с серебром и выдвинул ящик, полный золота.
– Ваше сиятельство, – сказал он, – вот ваши пятьсот тысяч ливров; теперь я должен вам еще двести пятьдесят тысяч процентов, если вы не притязаете на получение сложных процентов, которые составили бы еще более значительную сумму. Я велю своему управляющему подвести итог и представлю вам обеспечение этого долга, а выплачу его, если позволите, несколько позже.
– Монсеньор, – возразил Калиостро, – я дал в долг господину де Рогану пятьсот тысяч ливров. Господин де Роган должен мне пятьсот тысяч ливров и ничего более. Пожелай я получить проценты, я указал бы это в расписке. Я – доверенное лицо и, если угодно, наследник Жозефа Бальзамо, потому что Жозеф Бальзамо в самом деле умер, и должен принять только ту сумму, которая обозначена в долговом обязательстве; вы мне ее вручаете, я с благодарностью принимаю и свидетельствую вам свое совершеннейшее почтение. Итак, банкноты я забираю, сударь, а поскольку нынче в течение дня мне необходима вся сумма целиком, то за золотом и серебром я пришлю, и прошу вас держать их наготове.
С этими словами, на которые кардиналу было нечего возразить, Калиостро сунул в карман пачку банкнот, почтительно поклонился принцу, вложил ему в руки расписку и вышел.
– Горе пало на меня одного, – вздохнул г-н де Роган, когда Калиостро удалился, – поскольку королева в состоянии уплатить сама, и никакой Жозеф Бальзамо не явится к ней за пятьюстами тысячами ливров старинного долга.
Это было накануне первого платежа, назначенного королевой. Г-н де Калонн еще не сдержал своего обещания. Король еще не подписал его сметы.
Дело в том, что у министра было много хлопот. Он несколько позабыл о королеве. Она же со своей стороны полагала, что напоминать о себе контролеру финансов было бы ниже ее достоинства. Заручившись его обещанием, она ждала.
Однако она уже начинала тревожиться и подумывала, как бы улучить возможность потолковать с г-ном де Калонном, не компрометируя себя, как вдруг ей доставили записку от министра.
Нынче вечером, – говорилось там, – дело, милостиво доверенное мне вашим величеством, будет улажено в совете, и завтра утром средства будут в распоряжении королевы.
Лицо Марии Антуанетты вновь засветилось весельем. Она ни о чем больше не беспокоилась, даже о таком трудном завтрашнем дне.
Она даже выбирала на прогулке самые уединенные аллеи, словно желая оградить свои мысли от всего осязаемого, мирского. Она все еще гуляла с г-жой де Ламбаль и графом д'Артуа; король тем временем кончил обедать и отправился на совет.
Король был не в духе. Из России поступили неутешительные новости. В Лионском заливе пропал корабль. Несколько провинций отказались платить налоги. Треснула от жары прекрасная карта мира, которую король собственноручно отполировал и покрыл лаком, и на пересечении 30 градусов широты и 55 градусов долготы Европа распалась на две части. Его величество был в обиде на всех и вся, даже на г-на де Калонна.
Напрасно тот явился на совет со своим превосходным благоухающим портфелем и с лучезарной физиономией. Молчаливый и угрюмый король принялся покрывать чистый лист бумаги штриховкой, предвещавшей бурю, в то время как человечки и лошади, нарисованные его величеством, сулили обычно ясную погоду.
Король на советах всегда рисовал – это была его причуда. Людовик XVI не любил смотреть людям в лицо, он был застенчив; взяв в руку перо, он чувствовал себя спокойней и держался уверенней. Покуда он рисовал, оратор мог излагать свои аргументы; король, на мгновение отрывая глаза от бумаги, украдкой метал на него взгляды, дабы, оценивая мысли, не забывать о человеке, который их высказывает.
Если же слово брал он сам – а говорил он хорошо, – рисование спасало его речи от излишней категоричности, избавляло от необходимости жестикулировать; по желанию он мог прервать свою речь или увлечься ею; линия на бумаге вполне заменяла ему ораторские завитушки.
Итак, король по своей привычке взялся за перо, и министры приступили к чтению проектов и дипломатических нот.
Король не размыкал губ; он прослушал иностранные сообщения с таким видом, словно ничего в этом не смыслит. Далее перешли к финансовому отчету за месяц; король поднял голову.
Г-н де Калонн как раз открыл записку, касавшуюся займа, который предполагалось взять в будущем году.
Король принялся яростно штриховать бумагу.
– Вечно эти займы, – изрек он, – а чем возвращать будем, неизвестно! Вот в чем вопрос, господин де Калонн.
– Государь, заем – это способ отвести воду из источника: исчезая в одном месте, она начинает бить фонтаном в другом. Более того, она струится вдвое обильнее, обогатившись подземными течениями. Но прежде всего нам надо думать не над тем, как возвращать, а над тем, где и под какое обеспечение занимать. Вопрос, о котором упомянуло ваше величество, состоит не в том, из каких средств отдавать долг, а в том, найдем ли мы заимодавцев.
Штриховка под пером короля достигла непроницаемой черноты; он молчал; однако лицо его было весьма красноречиво.
После того как г-н де Калонн изложил свой план, снискавший одобрение прочих членов совета, король взял проект и подписал его, не удержавшись от вздоха.
– Теперь, когда мы располагаем деньгами, – со смехом произнес г-н де Калонн, – давайте их расходовать.
Король глянул на министра, и лицо его исказилось гримасой; штриховка превратилась в огромную чернильную кляксу.
Г-н де Калонн вручил ему смету, состоявшую из пенсий, пособий, награждений, подарков и жалований.
Смета была составлена немногословно, но весьма подробно. Перелистав страницы, король взглянул на итог.
– Миллион сто тысяч ливров на такую малость? Почему?
И он отложил перо.
– Прочтите, государь, прочтите и соблаговолите обратить внимание, что из этого миллиона ста тысяч ливров пятьсот тысяч приходятся на одну статью.
– Что это за статья, господин генеральный контролер?
– Сумма, выданная вперед ее величеству королеве, государь.
– Королеве? – вскричал Людовик XVI. – Пятьсот тысяч ливров королеве! Нет, сударь, этого быть не может.
– Простите, ваше величество, но цифра верная.
– Пятьсот тысяч ливров королеве! – повторил король. – Нет, здесь, должно быть, какая-то ошибка. На той неделе… нет, две недели тому назад я выплатил ее величеству содержание на треть года.
– Государь, если королева нуждается в деньгах, а мы знаем широту души ее величества, то в этом нет ничего необычайного.
– Нет, нет! – воскликнул король, которому хотелось щегольнуть своей бережливостью и обеспечить королеве рукоплескания, когда она поедет в Оперу. – Королева не желает получить эту сумму, господин де Калонн. Королева сказала мне, что ее больше порадует новый корабль, чем новая драгоценность. Королева полагает, что раз уж Франция входит в долги, чтобы кормить своих бедняков, то мы обязаны оказывать помощь Франции. Значит, коль скоро королева и впрямь нуждается в этих деньгах, тем достойнее с ее стороны будет, если она их подождет, и я заверяю вас – она подождет.
Министры наградили рукоплесканиями этот патриотический порыв короля, которого в этот миг божественный Гораций не назвал бы Uxorius[130].
И только г-н де Калонн, знавший о затруднениях королевы, настаивал на выплате денег.
– Воистину, – заметил король, – вы печетесь о нашей выгоде больше, чем мы сами. Уймитесь, господин де Калонн.
– Государь, королева упрекнет меня в том, что я недостаточно усердно ей служу.
– Я сам замолвлю за вас словцо перед ее величеством.
– Государь, королева просит всегда только под влиянием необходимости.
– Потребности королевы, надеюсь, не столь насущны, как нужды бедняков, и она первая с этим согласится.
– Ваше величество…
– С этим делом покончено, – решительно перебил король.
– Вы вычеркиваете эту статью расхода? – переспросил удрученный г-н де Калонн.
– Вычеркиваю, – величественно ответствовал Людовик XVI. – И мне чудится, будто я слышу великодушный голос королевы, которая благодарит меня за то, что я так верно понял ее сердце.
Г-н де Калонн закусил губу; Людовик, довольный столь героическим самопожертвованием, со слепым доверием подписал все остальные статьи расхода.
Затем он нарисовал прекрасную зебру и окружил ее ноликами, приговаривая:
– Нынче вечером я заработал пятьсот тысяч ливров: удачный выдался денек у короля, Калонн; передайте эту добрую весть ее величеству; вот увидите, как она ее примет.
– Видит Бог, государь, – пролепетал министр, – я был бы в отчаянии, лишив вас радости сделать ей это признание. Каждому да воздастся по заслугам.
– Ладно, – отвечал король. – Завершим наше заседание. Мы славно потрудились – на сегодня достаточно. А вот и королева возвращается; пойдем ей навстречу, Калонн?
– Прошу прощения у вашего величества, но я должен сам подписать бумаги.
И г-н де Калонн как мог проворнее юркнул в коридор.
Король, сияя лучезарной улыбкой, отважно пошел навстречу Марии Антуанетте, которая распевала в вестибюле, опираясь на руку графа д'Артуа.
– Хорошо ли вы погуляли, сударыня? – осведомился король.
– Превосходно, государь, а хорошо ли вы потрудились?
– Судите сами: я заработал для вас пятьсот тысяч ливров.
«Калонн сдержал слово», – подумала королева.
– Вообразите себе, – продолжал Людовик XVI, – что Калонн попросил для вас кредит на полмиллиона.
– О! – с улыбкой воскликнула королева.
– И я… вычеркнул эту статью. Так одним росчерком пера я заработал пятьсот тысяч ливров.
– Как так – вычеркнули? – побледнев, переспросила Мария Антуанетта.
– Очень просто. Это принесет вам огромную пользу. Прощайте, сударыня, прощайте.
– Государь, государь!
– Я очень голоден. Я иду к себе. Не правда ли, я заработал свой ужин?
– Государь, да выслушайте же меня.
Но Людовик XVI подпрыгнул на месте и поспешно удалился в восторге от своей шутки, оставив оторопевшую, удрученную и безгласную королеву.
– Брат, велите, чтобы мне разыскали господина де Калонна, – обратилась она наконец к графу д'Артуа. – Все это чья-то злая проделка.
В этот миг королеве принесли записку от министра.
Вашему величеству, вероятно, уже известно, что король отказал в кредите. Это непостижимо, государыня, и я ушел с совета больной и сраженный горем.
– Прочтите, – проговорила королева, передавая записку графу д'Артуа.
– А ведь есть люди, утверждающие, будто мы транжирим казну, сестра! – воскликнул принц. – Подумать только, что так поступил…
– Мой супруг… – пробормотала королева. – Прощайте, брат.
– Примите мое искреннее сочувствие, дорогая сестра; а я-то и сам хотел завтра попросить, но теперь я предупрежден.
– Пускай ко мне позовут госпожу де Ламотт, – после долгого размышления сказала королева г-же де Мизери, – где бы она ни была, да поскорее.
3. Мария Антуанетта – королева, Жанна де Ламотт – женщина
Гонец, которого отправили в Париж за госпожой де Ламотт, нашел графиню, или, вернее, не нашел ее у кардинала де Рогана.
Жанна приехала к его высокопреосвященству с визитом; она отобедала у него, а затем осталась поужинать; они беседовали о злополучном возврате долга, как вдруг явился курьер с вопросом, не гостит ли у г-на де Рогана графиня.
Швейцар, человек опытный, отвечал, что его высокопреосвященства нет дома и г-жи де Ламотт в особняке тоже нет, но ничего не может быть проще, чем передать ей то, что велела королева: вечером, по всей видимости, графиня посетит кардинала.
– Пускай она как можно скорее прибудет в Версаль, – сказал посланец и отправился далее, чтобы оставить то же распоряжение во всех домах, по которым могла кочевать графиня.
Но как только курьер уехал, швейцар тут же выполнил его поручение: он послал жену уведомить г-жу де Ламотт, которая сидела у г-на де Рогана; оба компаньона неторопливо философствовали о быстротечности крупных денежных сумм.
Получив предупреждение, графиня поняла, что нужно срочно пускаться в путь. Она попросила у кардинала двух добрых лошадей; он сам усадил ее в берлину без герба, и, покуда он по-разному перетолковывал известие, графиня мчалась так резво, что через час оказалась у дворца. Ее ждали и немедля провели к Марии Антуанетте. Королева уже удалилась в опочивальню. Вечерний туалет был завершен, и в покоях не оставалось ни одной дамы, за исключением г-жи де Мизери, сидевшей над книгой в маленьком будуаре.
Мария Антуанетта вышивала или делала вид, будто вышивает, беспокойно прислушиваясь к каждому звуку, долетавшему извне, и тут в опочивальню вбежала Жанна.
– А, вы здесь! – воскликнула королева. – Тем лучше. Графиня, у меня есть новость.
– Добрая новость, ваше величество?
– Судите сами. Король отказал в пятистах тысячах ливров.
– Отказал господину де Калонну?
– Вообще отказал. Король больше не хочет давать мне денег. Воистину, такая неприятность могла приключиться только со мной!
– О Господи! – прошептала графиня.
– Не правда ли, графиня, в это трудно поверить? Отказал, перечеркнул уже готовую смету! Словом, не будем больше говорить об этом злополучном деле. Вам надлежит поскорее вернуться в Париж.
– Да, ваше величество.
– И сказать кардиналу, поскольку он с такой готовностью стремился мне угодить, что я согласна взять у него в долг пятьсот тысяч ливров сроком до следующего триместра. С моей стороны это эгоистично, графиня, но что поделаешь… Придется злоупотребить его преданностью.
– Мы пропали, ваше величество, – прошептала Жанна. – У его высокопреосвященства больше нет этих денег.
Королева как ужаленная заметалась по комнате.
– Нет денег? – пролепетала она.
– Ваше величество, кардиналу де Рогану предъявили расписку в старом долге, о котором он и думать забыл. Ему пришлось уплатить: это был долг чести.
– Пятьсот тысяч ливров?
– Да, ваше величество.
Но…
– Это были его последние деньги. Теперь он без средств.
Королева застыла на месте: это последнее несчастье ее оглушило.
– Может быть, я сплю и вижу сон? – произнесла она. – Неужели на меня в самом деле обрушились все эти неурядицы? Откуда вы знаете, графиня, что господин де Роган лишился денег?
– Он сам полтора часа назад рассказал мне о своей беде, ваше величество. Она тем более непоправима, что пятьсот тысяч ливров были последними остатками его состояния.
Королева уронила голову на руки.
– Нужно на что-то решиться, – произнесла она.
«Что она теперь станет делать?» – пронеслось в голове у Жанны.
– Видите, графиня, я получила ужасный урок: это мне наказание за то, что я потихоньку от короля решилась на затею, которая мне была не слишком-то нужна, не слишком-то важна и только тешила мое тщеславие. Согласитесь, никакой надобности в этом ожерелье у меня не было.
– Верно, ваше величество, но неужели королева не может, прежде всего, считаться со своими вкусами и желаниями…
– Прежде всего я хочу считаться со своим спокойствием и семейным счастьем. И только эта последняя неудача открыла мне глаза на то, какие беды я могла на себя навлечь, на какой опасный и гибельный путь готова была вступить… Нет, не желаю больше! Уж лучше искренность, и свобода, и скромность.
– Ваше величество!
– А для начала принесем суетность в жертву долгу, как сказал бы господин Дора[131].
И, улыбнувшись, она со вздохом добавила:
– А все-таки какое красивое было ожерелье!
– И было, и есть, ваше величество, и стоит кучу денег.
– С этой минуты оно для меня не более чем груда камешков. Когда в камешки наиграются, с ними делают то же, что дети после игры в «котел»: выбрасывают и забывают о них.
– Что вы имеете в виду, ваше величество?
– А вот что, дорогая графиня: вы возьмете шкатулку, которую привез господин де Роган… и вернете ее ювелирам Бемеру и Босанжу.
Верну?
– Вот именно.
– Ваше величество, но вы же уплатили двести пятьдесят тысяч ливров задатку!
– Зато остальные двести пятьдесят тысяч останутся в моем полном распоряжении, и я уложусь в сумму, которую предоставил мне король.
– Ваше величество! Ваше величество! – возопила графиня. – Потерять разом четверть миллиона! Ведь ювелиры, весьма вероятно, не захотят возвращать вам те деньги, которые уже попали к ним в руки.
– Я это имею в виду и уступлю им задаток при условии, что сделка будет расторгнута. Едва этот выход пришел мне в голову, графиня, как мне полегчало. С этим ожерельем в мою жизнь вошли заботы, огорчения, опасения, тревоги. Какими бы огнями ни играли эти бриллианты, им не осушить тех слез, которые накипели у меня в душе и гнетут ее. Графиня, заберите от меня поскорее ларец. Ювелиры останутся в барыше. Сверх условленной цены они получат двести пятьдесят тысяч ливров, это чистая прибыль, которою они обязаны мне; вдобавок к ним вернется ожерелье. Полагаю, они не станут на меня сетовать, и никто ничего не узнает. Кардинал стремился доставить мне удовольствие. Вы скажете ему, что удовольствием для меня будет избавление от этого ожерелья, и, если он человек умный, он поймет; если он истинный пастырь, он подтвердит мою правоту и одобрит мою жертву.
С этими словами королева протянула Жанне закрытую шкатулку. Графиня мягко ее отстранила.
– Ваше величество, – возразила она, – почему бы вам не договориться об отсрочке платежа!
– Просить? Не стану!
– Я сказала – договориться.
– Просить – значит унижаться, графиня. Договариваться – значит унижаться. Я, пожалуй, могу понять, когда унижаются ради любимого человека, ради спасения живого существа, пускай хоть собаки; но ради того, чтобы оставить у себя эти камни, которые жгутся, как пылающие угли, да и сверкают при всей своей долговечности не ярче… Ах, графиня, никто не убедит меня на это согласиться. Никогда! Унесите шкатулку, милая, унесите!
– Но подумайте, ваше величество, какой шум поднимут ювелиры, хотя бы из вежливости, дабы выразить вам свое сочувствие. Отказ скомпрометирует вас ничуть не меньше, чем согласие. Весь свет узнает, что бриллианты уже были в вашем распоряжении.
– Никто ничего не узнает. Ювелирам я больше ничего не должна; я их больше не приму; они будут молчать хотя бы ради моих двухсот пятидесяти тысяч ливров; а недруги мои вместо того, чтобы говорить, что я покупаю бриллианты за полтора миллиона, скажут, что я пускаюсь в невыгодные сделки. Это все-таки лучше. Унесите, графиня, ожерелье и передайте мою сердечную благодарность господину де Рогану за его любезность и услужливость.
И королева повелительным жестом передала Жанне шкатулку; та не без некоторого волнения ощутила в руках ее тяжесть.
– Не теряйте времени, – продолжала королева, – чем меньше беспокойства мы причиним ювелирам, тем больше надежды на сохранение тайны. Отправляйтесь поскорее, и пускай никто не увидит у вас этого ларца. Сперва поезжайте к себе домой, а не то как бы столь позднее посещение Бемера не вызвало подозрений у полиции, которая, несомненно, следит за тем, что у меня делается; потом, когда собьете со следа соглядатаев, поезжайте к ювелирам и привезите мне от них расписку.
– Да, ваше величество, все будет сделано по вашей воле.
Жанна спрятала шкатулку под плащом так, чтобы ее невозможно было заметить, и со всей стремительностью, которой требовала ее августейшая сообщница, вскочила в карету.
Сперва в согласии с приказом она велела ехать домой и отослала карету г-ну де Рогану, чтобы кучер, который ее вез, ни о чем не догадался. Затем она распорядилась, чтобы ее раздели, собираясь нарядиться в платье попроще, более уместное для столь поздней поездки.
Горничная проворно одела ее и заметила, что хозяйка была рассеянна и задумчива, хотя обычно Жанна, ныне придворная дама, относилась к процедуре одевания крайне внимательно.
В самом деле, мысли графини были далеко: отдавшись в руки горничной, она размышляла над одной странной идеей, которую подсказал ей случай.
Она раздумывала о том, что кардинал, быть может, совершает большую ошибку, допуская, чтобы королева вернула драгоценность, и что эта ошибка, пожалуй, окажется помехой на пути к той цели, о которой мечтает г-н де Роган и которой, по-видимому, он надеется достичь, принимая участие в маленьких секретах королевы.
И если она, Жанна, исполнит приказ королевы, не посоветовавшись с кардиналом де Роганом, то не нарушит ли она этим свой долг по отношению к союзнику? Что, если кардинал, оставшись без средств, предпочтет скорее сам продаться в рабство, лишь бы королева не лишилась вещицы, которая ее привлекла?
«Я обязана посоветоваться с кардиналом, – сказала себе Жанна, – у меня нет иного выхода».
«Миллион четыреста тысяч ливров! – мысленно добавила она. – Никогда ему не добыть таких денег!»
Потом она внезапно повернулась к горничной.
– Роза, выйдите! – приказала она.
Горничная повиновалась, и графиня де Ламотт продолжала свой безмолвный монолог:
«Какие деньги! Какое богатство! Какая великолепная жизнь! И все это блаженство, весь блеск, даруемый таким богатством, воплощен в бриллиантовой змейке, свернувшейся вот в этом ларце».
Она открыла шкатулку, и блеск струящихся камней ослепил ее. Она вынула ожерелье из атласного гнезда, обвила его вокруг пальцев, спрятала в двух своих маленьких ладонях и проговорила:
– Вот они у меня, миллион четыреста тысяч ливров живых денег, и ювелиры нынче же дали бы мне эту цену.
По странной прихоти судьбы ей, ничтожной Жанне де Валуа, безвестной попрошайке, приходится касаться рукой руки королевы, первой дамы государства; в ее распоряжение попали, пускай только на один час, миллион четыреста тысяч ливров, богатство, которое в нашем мире никогда не остается без присмотра: его сопровождает вооруженная охрана, во Франции оно нуждается в таких поручителях, как кардинал и королева, не меньше.
«И все это у меня в горсти! Какая тяжесть – и какая легкость!
Чтобы увезти золото, драгоценный металл, стоимостью равный этому ларцу, мне понадобились бы две лошади; чтобы увезти банкноты на ту же сумму… Но только всегда ли банкноты обмениваются на золото? Кажется, для этого нужны проверки, подписи… И потом, банковский билет – бумага: ее уничтожают огонь, воздух, вода. Банкноту не везде принимают к уплате; она не скрывает своего происхождения, обнаруживает имя своего автора. Спустя некоторое время банкнота теряет в цене или вовсе обесценивается. А бриллианты, напротив, прочное вещество; им ничто не вредит; все люди их знают, ценят, любят и покупают – в Лондоне, в Берлине, в Мадриде, даже в Бразилии. Все понимают, что такое бриллианты, особенно такого размера и такой чистой воды, как вот эти! Как они хороши! Как великолепны! Как подобраны один к другому и как красив каждый сам по себе! Если их разрознить и продавать по отдельности, они будут стоить, может быть, еще дороже, чем все вместе?
Однако о чем только я думаю, – внезапно перебила она себя. – Поскорее решим, ехать ли мне к кардиналу или везти ожерелье Бемеру, как велела королева».
Она поднялась, не выпуская бриллиантов, которые блистали и полыхали огнем у нее в руках.
«Итак, они вернутся к хладнокровному ювелиру, и он будет взвешивать их и полировать щеточкой. А ведь они могли бы сверкать на груди у Марии Антуанетты… Бемер сначала и слушать ничего не захочет, а потом смекнет, какой ему достанется барыш, успокоится и оставит вещицу у себя. Ах, я и забыла: в каких выражениях должна быть составлена расписка, которую мне велено у него получить? Это важно, да-да, текст должен быть достаточно дипломатичный. Надо, чтобы расписка ни к чему не обязывала ни Бемера, ни королеву, ни кардинала, ни меня.
Мне самой нипочем не сочинить такой бумаги. Я нуждаюсь в совете.
Кардинал… Нет, нет! Если бы кардинал любил меня больше, или если бы он дарил мне бриллианты…»
Она присела на кушетку; ее руку обвивало бриллиантовое ожерелье, голова у нее пылала; в мозгу теснились смутные мысли, подчас ужасавшие ее и отвергаемые с лихорадочной поспешностью.
Потом взгляд ее стал спокойнее, пристальнее, он словно сосредоточился на одной неотступной мысли; Жанна не замечала, как бегут минуты, не замечала, как душа ее возвращается в состояние непоколебимого равновесия; подобно пловцу, ступившему на болотистый берег, с каждым новым шагом она, вместо того, чтобы выбраться на твердую почву, увязала все глубже и глубже. В этом безмолвном и сосредоточенном созерцании таинственной цели Жанна провела целый час.
Затем она поднялась, бледная, словно охваченная экстазом жрица, и звонком вызвала горничную.
Было два часа ночи.
– Найдите мне фиакр, – сказала Жанна, – а не найдете кареты, так наймите хоть телегу.
На старой улице Тампль служанка разыскала фиакр с дремавшим кучером.
Ерафиня де Ламотт села в экипаж одна, отослав камеристку.
Десять минут спустя фиакр остановился у дверей памфлетиста Рето де Билета.
4. Расписка Бемера и письмо королевы
Плоды ночного визита к памфлетисту Рето де Билету обнаружились только на другой день, и вот каким образом это произошло.
В семь часов утра графиня де Ламотт переслала королеве письмо, в котором содержалась расписка ювелиров. Сей важный документ гласил:
Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что получили назад проданное королеве за сумму в миллион шестьсот тысяч ливров бриллиантовое ожерелье, поелику бриллианты не понравились королеве, и она возместила нам труды и расходы тем, что оставила нам сумму в двести пятьдесят тысяч ливров, выплаченную ею ранее в качестве задатка.
Королева перестала беспокоиться о деле, столь долго ее тревожившем; она заперла расписку в шкаф и более о ней не вспоминала.
Однако странным противоречием этой расписке явилось то обстоятельство, что ювелирам Бемеру и Босанжу два дня спустя нанес визит сам кардинал де Роган, который продолжал питать известное беспокойство на предмет выплаты последней суммы, о которой условились ювелиры с королевой.
Г-н де Роган застал Бемера дома на Университетской улице. Утром этого дня истекал срок первой выплаты, и если бы королева задержала деньги или отказалась от сделки, то в стане ювелиров должна была бы подняться паника.
Но ничуть не бывало: в доме Бемера все дышало спокойствием, и г-н де Роган с облегчением обнаружил, что лица слуг безмятежны, а дворовый пес приветливо виляет хвостом. Бемер встретил высокопоставленного клиента излияниями радости.
– Итак, нынче срок уплаты, – произнес кардинал. – Значит, королева уплатила?
– Нет, монсеньор, – ответствовал Бемер, – ее величество не прислала нам денег. Вы знаете, господин де Калонн получил у короля отказ. Все только об этом и говорят.
– Да, все об этом говорят, Бемер, потому-то я к вам и приехал.
– Но, – продолжал ювелир, – ее величество достойна восхищения и преисполнена доброй воли. Не имея возможности заплатить, она заверила нас, что долг останется за ней, и это вполне нас устраивает.
– А, тем лучше! – воскликнул кардинал. – Так, значит, она заверила вас в том, что долг останется за ней. Но каким образом?
– Очень простым и деликатным, – отвечал ювелир, – воистину по-королевски.
– Вероятно, она прибегла к посредничеству нашей хитроумной графини?
– Нет, монсеньор, нет. Госпожа де Ламотт у нас и не появлялась, и это было нам обоим, Босанжу и мне, особенно лестно.
– Не появлялась? Графиня у вас не появлялась? Уж поверьте мне, господин Бемер, что она участвует в этом деле. Удачные идеи всегда исходят от графини. Сами понимаете, при этом я не хочу умалять достоинств королевы.
– Монсеньор, судите сами, насколько милостиво и деликатно поступила с нами ее величество. Прошел слух, что король отказал ей в выдаче пятисот тысяч ливров; тогда мы обратились с письмом к госпоже де Ламотт.
– Когда это было?
– Вчера, монсеньор.
– Что же она ответила?
– Вашему высокопреосвященству ничего не известно? – осведомился Бемер с оттенком почтительной фамильярности.
– Нет, я вот уже три дня не имел чести видеть ее сиятельство, – отозвался принц с высокомерием истинного вельможи.
– Так вот, монсеньор, графиня де Ламотт ответила одним словом: «Подождите».
– Она вам написала?
– Нет, монсеньор, она сама нам это сказала. В своем письме мы просили госпожу де Ламотт испросить у вас аудиенции и предупредить королеву, что близится срок выплаты.
С ее стороны было вполне естественно ответить вам: «Подождите».
– Вот мы и ждали, монсеньор, и вчера вечером с весьма таинственным гонцом получили письмо от королевы.
– Письмо? Оно было адресовано вам, Бемер?
– Скорее это было составленное по всей форме признание долга.
– Быть не может! – воскликнул кардинал.
– Да я показал бы его вам, если бы мы с компаньоном не поклялись, что никому не станем его показывать.
– А почему?
– Сама королева обязала нас к подобной скромности, монсеньор; вы же понимаете, ее величество просит, чтобы мы сохранили это дело в тайне.
– Ну, тогда другое дело. Вы счастливчики, господа ювелиры: получаете письма от королевы!
– За миллион триста пятьдесят тысяч ливров, монсеньор, – ухмыляясь, возразил ювелир, – можно получить и…
– Да за такие письма, сударь, мало и десяти, и ста миллионов, – сурово отрезал прелат. – Итак, вы получили обеспечение?
– Лучшего и желать нельзя, монсеньор.
– Королева признала долг?
– Ясно и недвусмысленно.
– И она обязуется уплатить…
– Через три месяца пятьсот тысяч ливров, а еще через четыре месяца остальное.
– А… проценты?
– Ну, монсеньор, слова ее величества достаточно, чтобы их обеспечить. Ее величество в своей доброте добавила: «Пускай это дело останется между нами. – Вашему высокопреосвященству понятно, что означает подобный совет. – И вам не придется в этом раскаяться». И ее подпись! Отныне, сами понимаете, монсеньор, отныне для нас с моим компаньоном это дело чести.
– Мы с вами квиты, господин Бемер, – в полном восторге объявил кардинал. – Полагаю, это дело у нас с вами не последнее.
– Как только ваше высокопреосвященство вновь удостоит нас доверием, мы в вашем распоряжении.
– Но заметьте все же, что здесь приложила руку милейшая графиня.
– Мы весьма благодарны госпоже де Ламотт, монсеньор, и оба – господин Босанж и я – договорились выразить ей свою признательность, как только вся цена ожерелья будет целиком выплачена нам наличными.
– Что вы! Что вы! Вы меня не так поняли, – воскликнул кардинал.
И он вернулся в свою карету, которую с почетом проводил весь дом.
Теперь пора приподнять завесу. Для читателей не осталось тайной то, что произошло на самом деле. Видя, что Жанна де Ламотт призвала себе на помощь перо памфлетиста Рето де Билета, все уже поняли, какие козни она затеяла против своей благодетельницы. Ювелиров больше не мучили тревоги, королеву – совесть, кардинала – подозрения. В распоряжении злоумышленницы оказались три месяца: за эти три месяца плоды зловещей интриги должны были созреть настолько, чтобы преступная рука сорвала их.
Жанна вернулась к господину де Рогану, и тот полюбопытствовал, что предприняла королева, чтобы умиротворить ювелиров.
Г-жа де Ламотт отвечала, что королева откровенно объяснилась с ювелирами и настояла на соблюдении тайны: ведь королеве приходится скрывать свои поступки даже в том случае, когда она платит, и уж тем более, когда она просит о кредите.
Кардинал согласился, что так оно и есть, но тут же спросил, помнит ли ее величество о том, что он был преисполнен наилучших намерений.
Жанна так ярко живописала признательность королевы, что кардинал пришел в восторг не столько как подданный, сколько как воздыхатель, и гордыня его была польщена куда более, чем преданность.
Добившись этим разговором всего, чего ей было нужно, Жанна решилась спокойно вернуться домой, сговориться с каким-нибудь торговцем драгоценностями, продать бриллиантов на сто тысяч экю и уехать в Англию или Россию – свободные страны, где на эти деньги можно прожить в роскоши лет пять или шесть, а потом она начнет беспрепятственно распродавать по частям и как можно дороже остаток ожерелья.
Но все вышло не так, как ей хотелось. Едва она показала двум экспертам первые бриллианты, оба Аргуса обнаружили такое изумление и такое недоверие, что Жанна испугалась. Один предложил смехотворно малую цену, другой восхищался камнями, приговаривая, что не видывал подобных нигде, кроме как в ожерелье Бемера.
Жанна призадумалась. Еще немного, и она себя выдаст. Она поняла, что неосторожность в подобном случае чревата крахом, а крах означает позорный столб и пожизненное заточение. Припрятав бриллианты в самом укромном из своих тайников, она решила обзавестись оружием, во-первых, оборонительным, да понадежнее, а во-вторых, наступательным, как можно более острым, чтобы поразить на месте любого, кто пойдет на нее войной.
Лавировать между желаниями кардинала, которому захочется знать все в точности, и откровенностью королевы, которая всегда будет гордиться, что отказалась от ожерелья, было смертельно опасно. Стоит королеве обменяться несколькими словами с кардиналом, и все откроется. Жанна утешалась мыслью, что у влюбленного в королеву кардинала на глазах повязка, как у всякого влюбленного, а посему он угодит в любую западню, какую расставит ему хитрость под прикрытием любви.
Но нужно было половчее расставить западню, чтобы завлечь в нее сразу обе жертвы. Нужно было сделать так, чтобы королева не посмела жаловаться даже в том случае, если обнаружит кражу, а кардинал, обнаружив обман, испугался за себя. Жанне предстояло нанести мастерский удар двум противникам, причем симпатии галерки были заранее на их стороне.
Жанна не отступила. Она принадлежала к тем неустрашимым натурам, которые все дурное доводят до героизма, а все хорошее до дурного. Отныне ее занимала одна мысль: не допустить встречи кардинала и королевы.
Пока между ними находится она, Жанна, ничто не потеряно, но если они обменяются всего несколькими словами у нее за спиной, все будущее благоденствие Жанны, возведенное на ее былой безопасности, рухнет.
«Они больше не увидятся, – решила она. – Никогда».
Но графиня понимала, что кардинал захочет увидеть королеву и будет этого добиваться.
Не станем ждать, подумала интриганка, покуда он попытается ее увидеть, а лучше сами внушим ему это намерение. Пускай пожелает с ней встретиться, пускай испросит аудиенцию, да так, чтобы этим себя скомпрометировать.
Положим, он будет скомпрометирован – а королева?
Эта мысль повергла графиню в горестное смущение.
Если пятно ляжет только на кардинала, королева сумеет за себя постоять: голос у королевы звучный и она превосходно справится с разоблачением интриганов!
Что же делать? Надо, что бы королева не смела открыть рта – тогда она никого не сможет обвинить. А чтобы замкнуть эти смелые и благородные уста, надо пригрозить обвинением самой королеве.
Тот не посмеет перед судом обвинить своего слугу в краже, кто знает, что слуга может в ответ обвинить его самого в столь же бесчестном поступке, как кража. Если г-н де Роган окажется скомпрометирован в глазах королевы, то можно не сомневаться, что и королева почти наверняка будет скомпрометирована в его глазах.
Лишь бы случай не свел вместе этих двоих людей, которым так важно, чтобы истина вышла наружу. Поначалу Жанна отшатнулась при виде махины, которая нависла над ней по ее же вине. Что это за жизнь в вечном страхе и трепете, под угрозой падения!
Да, но как спастись от этой муки? Бежать! Удалиться в изгнание, увезти бриллианты из ожерелья королевы в чужие края.
Бежать! Это дело нехитрое. Карету можно нанять за каких-нибудь десять часов до отъезда – как раз столько времени нужно Марии Антуанетте, чтобы выспаться; такой срок отделяет ужин кардинала в кругу друзей от его утреннего пробуждения. Была бы перед Жанной большая дорога, были бы лошади, цокающие копытами по булыжнику, – этого достаточно. Каких-нибудь десять часов – и Жанна свободна, спасена, жива и здорова.
Но какой скандал! Какой стыд! Купить свободу ценой бегства, безопасность ценой изгнания – и вот Жанна уже не высокородная дама, а воровка, заочно осужденная, и правосудие хоть не покарало ее, но обличило, и пускай палач не выжег на ней клейма – она слишком далеко, – но общественное мнение поносит ее и клеймит.
Нет. Она не сбежит. Высшая отвага и высшая хитрость подобны двум близнецам, двум вершинам Атласа. Одна без другой не бывает, одна другой стоит. Где одна, там и другая.
Жанна решилась положиться на свою отвагу и остаться. Ее решению изрядно способствовало то, что на ум ей пришла идея, как посеять взаимный страх между кардиналом и королевой на случай, если тот или другая спохватятся, что кто-то из их ближайшего окружения совершил кражу.
Жанна прикинула, сколько принесла бы ей в два года милость королевы и любовь кардинала; доходы от этих двух удач она предположительно оценивала в пятьсот-шестьсот тысяч ливров; затем милость, успех и увлечение, скорее всего, попросту иссякнут, а на смену им явится пресыщенность, опала и пренебрежение.
«На этом моем плане я выгадаю лишних семьсот-восемьсот тысяч ливров», – смекнула графиня.
В дальнейшем мы увидим, какой окольный путь проложила эта лукавая душа, путь, который вел ее к позору, а других к отчаянию.
«Остаться в Париже, – решила графиня, – и с твердостью в душе следить за игрой обоих актеров: позволять им играть только те роли, которые мне на пользу; выбрать наиболее благоприятный момент для бегства: быть может, королева пошлет меня куда-нибудь с поручением, быть может, я и впрямь попаду в немилость и вовремя это замечу.
И навсегда пресечь всякое общение между кардиналом и Марией Антуанеттой.
Это труднее всего, поскольку господин де Роган влюблен, и потом, он принц: он обладает правом много раз в году посещать ее величество, а кокетливая, жаждущая поклонения королева, которая к тому же питает к кардиналу признательность, не станет уклоняться от встречи, если кардинал станет добиваться аудиенции.
А впрочем, мне наверняка представится удобный случай поссорить две августейшие особы. Но случаю надо помочь».
Лучше всего, хитрее всего было бы задеть гордость королевы – ведь она так гордится своей добродетелью. Нет никакого сомнения в том, что более или менее назойливые домогательства кардинала оскорбят ее утонченную и обидчивую натуру. Такие женщины, как она, любят поклонение, но боятся и избегают преследований.
Да, случай неизбежно представится. Если посоветовать г-ну де Рогану открыто объясниться в любви, в душе Марии Антуанетты зародится отвращение, неприязнь, которая навсегда посеет рознь не столько между принцем и королевой, сколько между дамой и кавалером, между женщиной и мужчиной. Таким образом она, Жанна, получит оружие против кардинала, и враждебность королевы парализует все его усилия.
Допустим. Но даже если настроить королеву против кардинала, это касается одного кардинала: добродетель королевы сияет всеми лучами, Мария Антуанетта пользуется полной свободой и говорит, что ей вздумается, а значит, ей легко обвинить человека, и обвинение это обладает изрядным весом.
Нет, необходимо запастись уликами и против г-на де Рогана, и против королевы; нужен обоюдоострый меч, который разит направо и налево, разит, едва его извлекут из ножен, разит, рассекая самые ножны.
Здесь требуется такое обвинение, от которого королева побледнеет, а кардинал покраснеет и которое, если ему поверят, обелит от малейших подозрений самое Жанну, наперсницу двух главных виновников. Нужно так повести интригу, чтобы Жанна могла сказать каждому порознь: «Не обвиняйте меня, не то я вас обвиню, не губите меня, а не то я погублю вас. Не отнимайте у меня богатства – и я не лишу вас чести».
«Дело стоит того, чтобы поломать над ним голову, – рассудила вероломная графиня, и я поищу выход. Отныне мои усилия даром не пропадут».
И в самом деле, г-жа де Ламотт уютно раскинулась среди подушек, выглянула в окно, озаренное ласковым солнцем, и, уповая на помощь неба, погрузилась в размышления, озаряемая светочем Господним.
Покуда графиню одолевали все эти волнения и мечты, на улице Сен-Клод, напротив того дома, в котором жила Жанна, разыгралась сцена совершенно иного характера.
Как мы помним, г-н Калиостро поселил в бывшем особняке Бальзамо беглянку Оливу, преследуемую полицией г-на де Крона.
М-ль Олива, изрядно напуганная, с радостью уцепилась за эту возможность спастись одновременно от полиции и от Босира; теперь она, никому не ведомая, от всех скрытая, дрожащая, жила в этом таинственном доме, в стенах которого разыгрались в свое время драмы, увы, куда более страшные, чем трагикомические похождения Николь Леге.
Калиостро окружил ее предупредительной заботой: молодой женщине пришлось по душе покровительство этого важного вельможи, который ни о чем не просил, но, казалось, на многое надеялся. Но на что же он надеялся? Вот о чем тщетно гадала затворница.
Г-н Калиостро, человек, победивший Босира и восторжествовавший над полицейскими агентами, был для м-ль Оливы спасителем небесным. Кроме того, он, по-видимому, был без памяти влюблен в нее, потому что обращался с ней почтительно.
Тщеславная Олива не допускала даже мысли, что Калиостро может иметь на нее другие виды и не собирается рано или поздно сделать ее своей любовницей.
Со стороны женщин, утративших добродетель, весьма добродетельно верить, что мужчины могут любить их почтительной любовью. Сердце, которое более не надеется встретить любовь и почтительность, спутницу любви, воистину бесплодно, дрябло и мертво.
Итак, в тиши своего убежища на улице Сен-Клод Олива принялась строить воздушные замки, призрачные замки, в которых, надо признаться, очень редко находилось местечко для бедняги Босира.
Когда по утрам она, украшая себя при помощи всех тех ухищрений, которыми Калиостро снабдил ее туалетную комнату, разыгрывала из себя важную даму и репетировала во всех нюансах роль Селимены[132], ей хотелось только одного: дождаться Калиостро, который дважды в неделю в один и тот же час приходил справиться о том, не слишком ли тягостна ее жизнь.
И тогда, сидя в своей нарядной гостиной, упиваясь роскошью, радующей глаз и дающей пищу уму, малютка признавалась себе, что вся ее минувшая жизнь была полна ошибок и заблуждений и что вопреки утверждению моралиста о том, что добродетель приводит к счастью, на самом деле именно счастье с неизбежностью приводит к добродетели.
К сожалению, счастью м-ль Оливы многого недоставало, чтобы быть прочным.
Она была счастлива, но она скучала.
Ей мало было развлечений, доставляемых книгами, картинами, музыкальными инструментами. Книги были недостаточно фривольны, а те, что полегкомысленней, она слишком быстро прочла. На картины посмотришь разок, и все, они не меняются – это мнение Оливы, а не наше, – а музыкальные инструменты в неумелых руках не столько поют, сколько визжат.
Надо признать, что очень скоро Олива жестоко заскучала посреди своего счастья и нередко предавалась сожалениям и даже проливала слезы, вспоминая, как посиживала поутру у окошка на улице Дофины и гипнотизировала своими взглядами всю улицу, так что все, идущие мимо, задирали головы.
А как славно было прогуливаться по кварталу Сен-Жермен в кокетливых туфельках на каблучках в два пальца вышиной, придававших ступне такой соблазнительный изгиб, что каждый шаг гуляющей красотки приносил ей новые победы и исторгал у поклонников охи и ахи, не то из страха, как бы она не оступилась, не то от вожделения, поскольку над туфелькой из-под юбки подчас выглядывала и ножка.
Такие мысли посещали Николь в ее заточении. С другой стороны, агенты начальника полиции были опасные люди, а приют, где в позорном заключении угасают женщины, не шел ни в какое сравнение с роскошным и необременительным пленом на улице Сен-Клод. Но все-таки женщина имеет право на прихоти – и что толку быть женщиной, если нельзя подчас возроптать на самое блаженство и сменить его, хотя бы в мечтах, на иную, пусть худшую участь?
И потом, тем, кто скучает, все предстает в мрачном свете. Сперва Николь пожалела о свободе, а там и о Босире.
Признаем, что женщины ни в чем не меняются с тех самых времен, как дщери Иудеи накануне свадьбы с любимым удалялись на гору оплакивать свое девство.
И вот наконец наступил день, когда горе и ярость м-ль Оливы достигли предела; лишенная вот уже две недели всякого общества, всяких надежд, она впала в жестокую тоску.
Перепробовав все, что возможно, не смея ни выглянуть в окно, ни выйти за порог, она потеряла аппетит, но отнюдь не утратила мечтательности; напротив, духовный голод точил ее тем сильнее, чем реже посещал голод телесный.
В таком смятении она и пребывала, когда ее в неурочный день и час посетил Калиостро.
Вошел он, как обычно, через калитку, пересек небольшой сад, недавно разбитый позади особняка, и постучался в ставни комнат, где жила Олива.
Между ними было условлено, что он стучится четыре раза через определенные промежутки времени, и тогда Олива отпирает засов, который был поставлен на дверь по ее просьбе, чтобы служить преградой для посетителя, располагавшего ключом.
Молодая женщина не задумывалась над тем, что подобные предосторожности вовсе не нужны ей для того, чтобы сохранить добродетель, которая подчас бывала для нее лишней обузой.
По сигналу Калиостро Олива отперла засов с поспешностью, свидетельствовавшей о том, до какой степени она нуждается в собеседнике.
Проворно, как парижская гризетка, она ринулась навстречу своему благородному тюремщику и сердито, отрывисто, с хрипотцой в голосе воскликнула:
– Сударь, знайте: мне скучно.
Калиостро взглянул на нее и слегка покачал головой.
– Вам скучно? – произнес он, затворяя за собой дверь. – Увы! Бедное дитя, скука – несносный бич.
– Я сама себе постыла. Уж лучше умереть.
– Неужели?
– Да, я на грани отчаяния.
– Ну, ну, будет вам, – возразил граф, успокаивая ее, как собачку, – не сетуйте на меня чрезмерно, если вам плохо в моем доме. Приберегите ярость для вашего врага, начальника полиции.
– Вы меня выводите из терпения своим равнодушием, сударь, – промолвила Олива. – По мне уж лучше любая ярость, чем подобная кротость; вы всегда найдете, как меня успокоить, это-то меня и бесит.
– Сознайтесь, мадемуазель, что вы несправедливы, – произнес Калиостро, присаживаясь на изрядном расстоянии от нее с тем подчеркнутым почтением или безразличием, которое так удавалось ему в присутствии Оливы.
– Вам-то хорошо говорить, – возразила она. – Вы ходите куда угодно, вы ничего не боитесь. Ваша жизнь состоит из удовольствий, которые вы сами себе выбираете; а я прозябаю в тех пределах, в каких вы меня заточили, я не дышу, я трепещу. Предупреждаю вас, сударь: ваши посещения бесполезны, они не помешают мне умереть здесь.
– Умереть? Вам умереть? – с улыбкой переспросил граф. – Полноте!
– Уверяю вас, вы очень дурно со мной обращаетесь, вы забыли, что есть человек, которого я глубоко и страстно люблю.
– Господин де Босир?
– Да, Босир. Поймите, я его люблю. Сдается мне, я этого никогда от вас не скрывала. Не вообразили же вы, будто я забуду моего дорогого Босира?
– Я не только не вообразил ничего подобного, но, напротив, из кожи вон лез, чтобы о нем разузнать, и явился к вам с новостями.
– Вот как! – отозвалась Олива.
– Господин де Босир, – продолжал Калиостро, – очаровательный молодой человек.
– Черт побери! – отвечала Олива, не понимаю, куда клонит граф.
– Молод, хорош собой.
– Не правда ли?
– И с пылким воображением.
– Он полон страсти. По мне, так чересчур несдержан. Но… любовь снисходительна.
– Золотые слова. Ваша доброта не уступает уму, а ум красоте; я это знаю; а поскольку в этом мире я всегда с участием отношусь к любви – такая уж у меня причуда, – то мне захотелось соединить вас с господином де Босиром.
– Месяц тому назад вы об этом не думали, – с вымученной улыбкой заметила Олива.
– Послушайте, дитя мое, всякий галантный человек, если он, подобно мне, ничем не связан, жаждет понравиться красивой женщине, попавшейся ему на глаза. И все же вы не станете отрицать, что я хоть и приволокнулся за вами, но это продолжалось совсем недолго.
– Ваша правда, – отвечала Олива с той же притворной беззаботностью, – четверть часика, не больше.
– Само собой разумеется, что я не стал упорствовать, видя, как вы любите господина де Босира.
– Ах, не насмехайтесь надо мной.
– Да нет же, клянусь честью! Вы держались так неприступно!
– Не правда ли? – подхватила Олива, которой весьма польстило, что ее уличили в неприступности. – Сознайтесь, я дала вам отпор.
– Оно и понятно: вы любите другого, – невозмутимо заметил Калиостро.
– Но и вы, сударь, были не слишком настойчивы, – парировала Олива.
– Мадемуазель, я не так стар, не так безобразен, не так глуп, не так беден, чтобы нарываться на отказы и терпеть поражения; вы все равно предпочли бы мне господина де Босира, я это понял и принял решение.
– Ах, нет, не говорите, – возразила кокетка. – Не говорите! А то, что вы предложили мне заключить союз, что выговорили себе право подавать мне руку, посещать меня, оказывать мне невинные знаки внимания, – разве все это не означало остатков надежды?
И с этими словами коварная девица бросила на посетителя, не замечавшего, что вот-вот угодит в ловушку, один из тех жгучих взглядов, которые целую вечность ей некому было расточать.
– Не стану спорить, – отвечал Калиостро, – вы так проницательны, что от вас ничего не скроешь.
И он притворно потупился, словно не в силах вынести огонь, которым опаляли его взоры м-ль Оливы.
– Вернемся к Босиру, – предложила она, уязвленная бездеятельностью графа. – Что с ним? Где он, мой милый друг?
Тут Калиостро глянул на нее не без робости.
– Я говорил, что хочу соединить вас с ним, – продолжал он.
– Нет, вы этого не говорили, – с презрением в голосе бросила Олива, – но, поскольку сейчас вы это сказали, я принимаю это к сведению. Продолжайте. Почему вы не привели его сюда? Это было бы милосердно с вашей стороны. Он-то свободен в своих чувствах…
– Потому что, – отвечал Калиостро, не обращая внимания на ее иронию, – господин де Босир, подобно вам, человек весьма хитроумный и у него тоже возникли некоторые неприятности с полицией.
– И у него тоже! – побледнев, воскликнула Олива. Она почувствовала, что на сей раз граф ее не морочит.
– И у него тоже! – вежливо подтвердил Калиостро.
– Что он натворил? – пролепетала молодая женщина.
– Очаровательную шалость, необычайно изобретательный фокус! По-моему, это просто шутка, но, между прочим, строгие подчиненные господина де Крона – а вы же знаете, господин де Крон шуток не понимает! – называют это кражей.
– Кражей! – ужаснулась Олива. – Боже мой!
– Это была бесподобная кража: она доказывает, что у бедняги Босира отменный вкус.
– Сударь… Сударь, он арестован?
– Нет, но его ищут.
– Вы клянетесь мне, что он не арестован, что ему ничто не грозит?
– Я могу поклясться, что он никоим образом не арестован, но что до второй части вашего вопроса, за это я поручиться не могу. Сами понимаете, дитя мое, если его разыскивают, выслеживают или, во всяком случае, стремятся его задержать, то такой человек, как господин де Босир, с его внешностью, с его манерами, с его всем известными достоинствами, окажись он на виду, немедленно будет обнаружен полицейскими ищейками. Вы только представьте себе, какую облаву устроит господин де Крон. Он будет ловить вас на господина де Босира, а господина де Босира на вас.
– О да, да, ему нужно скрываться! Бедный он, бедный! Я тоже буду скрываться. Помогите мне бежать из Франции, сударь. Попытайтесь мне в этом пособить, а не то, поймите, я так задыхаюсь здесь взаперти, что могу совершить какую-нибудь неосторожность.
– Что вы называете неосторожностью, моя дорогая?
– Ну… показаться на люди, погулять на свежем воздухе.
– Вы чрезмерно осмотрительны, милая моя: вы уже и теперь слишком бледны, как бы вам не расхвораться! Господин де Босир вас разлюбит. Гуляйте на свежем воздухе, сколько вам угодно, и не лишайте себя удовольствия поглазеть на прохожих.
– Вот так так! – воскликнула Олива. – Значит, вы затаили на меня недоброе, значит, вы тоже готовы меня покинуть? Может быть, я вам мешаю?
– Вы мне? Право, вы с ума сошли! С какой стати вы можете мне мешать? – с ледяной невозмутимостью осведомился Калиостро.
– Потому что… Если мужчине приглянулась женщина, то мужчина, коль скоро это столь важное лицо, столь блестящий вельможа, как вы, вполне может рассердиться и даже проникнуться к ней отвращением, когда она, эта безумная, его отвергнет. Ах, не покидайте меня, не губите меня, не гневайтесь на меня, сударь!
И молодая женщина в ужасе, к которому примешивалась изрядная доля кокетства, обвила рукой шею Калиостро.
– Бедняжка, – произнес граф, запечатлевая невинный поцелуй на лбу Оливы, – как вы напуганы. Не думайте обо мне так дурно, дочь моя. Вы подвергались опасности, я оказал вам услугу; у меня были на вас виды, я от них отказался – вот и все: мне не за что на вас гневаться, а вам не за что меня благодарить. Я поступил так, как мне хотелось, а вы – так, как хотелось вам; мы в расчете.
– Ах, сударь, до чего вы добры, до чего великодушны!
И Олива теперь уже обеими руками уцепилась за плечи Калиостро.
Но он, глядя на нее с прежней невозмутимостью, произнес:
– Вот видите, Олива, теперь вы предложите мне свою любовь, и я…
– И вы?.. – зардевшись, прошептала она.
– Вы предложите мне свое очарование, но я отвергну его, потому что мне приятны только искренние чувства, чистые и совершенно бескорыстные. Вы предположили во мне корысть и угодили ко мне в кабалу. Теперь вы думаете, будто вы мне обязаны; а мне теперь будет казаться, что признательности в вас больше, чем нежности, а страха больше, чем любви; давайте лучше оставим все как есть. Я заранее благодарю вас за ваши чувства.
Олива уронила свои красивые руки и отпрянула от Калиостро, пристыженная, униженная, сбитая с толку великодушием графа, на которое не рассчитывала.
– Итак, – продолжал тот, – итак, дорогая Олива, мы условились: вы видите во мне друга и во всем мне доверяете; мой дом, кошелек и влияние к вашим услугам, и…
И я твержу себе, – подхватила Олива, – что есть на свете люди, превосходящие всех, кого я доныне знала.
Она вымолвила эти слова с таким очаровательным достоинством, которое не оставило бесчувственной даже отлитую из бронзы душу, что была прежде заключена в груди человека, звавшегося Бальзамо.
«Любая женщина становится добра и мила, – подумал он, – если затронуть струну, на которую откликнется ее сердце».
Потом, приблизившись к Николь, он сказал:
– С нынешнего дня вы переселитесь в верхний этаж особняка. Там есть три комнаты, обращенные на бульвар и на улицу Сен-Клод. Из окон открывается вид на Мениль-монтан и Бельвиль. Там вас могут заметить соседи, но люди они безобидные, не бойтесь их. Это мирный народ, у них нет связей в обществе, им и в голову не придет, кто вы такая. Не прячьтесь от них, но и не старайтесь нарочно, чтобы они вас заметили, а главное, никогда не попадайтесь на глаза прохожим, потому что по улице Сен-Клод прогуливаются иногда агенты господина де Крона; в этих комнатах вы по крайней мере не будете лишены солнечного света.
Олива радостно захлопала в ладоши.
– Хотите, я сам провожу вас туда?
– Нынче вечером?
– Ну, разумеется, нынче. Вас это смущает?
Олива устремила на Калиостро долгий взгляд. Зыбкая надежда затеплилась у нее в сердце, а вернее, в ее суетном и развращенном уме.
– Пойдемте.
Граф взял в передней фонарь и, собственноручно отворив несколько дверей, поднялся впереди Оливы по лестнице на четвертый этаж, в те комнаты, о которых говорил.
Олива обнаружила, что покои полностью обставлены, убраны цветами и вполне пригодны для жилья.
– Можно подумать, что меня здесь ждали, – заметила она.
– Не вас, а меня, – возразил граф. – Я люблю эту надстройку и часто здесь ночую.
Во взгляде Оливы зажглись хищные огоньки, какими сверкают порой кошачьи глаза.
С губ ее уже готовы были сорваться какие-то слова, но Калиостро опередил ее:
– Здесь вы найдете все, что нужно: ваша горничная придет через четверть часа. Доброй ночи, мадемуазель.
И он исчез, отвесив ей почтительный поклон, смягченный ласковой улыбкой.
Бедная затворница без сил и почти без чувств присела на расстеленную кровать, стоявшую в нарядном алькове.
– Я ровным счетом ничего не понимаю в том, что со мной происходит, – прошептала она, провожая глазами человека, понять которого было ей и в самом деле не по силам.
Олива легла в постель, как только ушла горничная, которую прислал ей Калиостро.
Спала она мало: разнообразные мысли, теснившиеся у нее в голове после разговора с Калиостро, навевали ей беспокойные сновидения и безотчетные тревоги; богатство и покой, приходящие на смену нищете и опасностям, не сулят продолжительного счастья.
Олива жалела Босира, она восхищалась графом и не понимала его, хотя уже не считала робким, не подозревала в бесчувственности. Будь сон ее нарушен каким-нибудь сильфом, она бы очень испугалась; малейший скрип паркета приводил ее в трепет, как настоящую героиню романа, ночующую в Северной башне.
Заря рассеяла ее страхи, не лишенные очарования… Поскольку мы не боимся внушить подозрения г-ну де Босиру, мы рискуем утверждать, что Николь не без остатков легкого разочарования встретила утро, сулившее ей полную безопасность. Подобные оттенки чувств способна запечатлеть лишь кисть Ватто, описать их властно лишь перо Мариво или Кребийона-сына.
Когда рассвело, она позволила себе поспать всласть, нежась в своей убранной цветами спальне под пурпурными лучами восходящего солнца; ей видны были птицы, прыгавшие по балкону под окном, и крылья их с очаровательным шелестом задевали за листья роз и цветы испанского жасмина.
Встала она поздно, очень поздно, когда два или три часа сладкой дремы освежили ее лицо, и, убаюканная уличным шумом, объятая ласковой сонной негой, она ощутила в себе довольно сил, чтобы пошевельнуться и вырваться из праздного оцепенения.
Она осмотрела каждый уголок своего нового жилья, в которое не сумел в своей невинности проскользнуть непонятливый сильф, дабы, хлопая крыльями, порхать над ее постелью, – впрочем, благодаря графу де Габалису сильфы в те времена еще нимало не утратили своей беспорочной репутации.
Олива поражалась богатству жилья, убранного просто и неожиданно. Эти дамские покои служили прежде убежищем мужчине. Здесь было все, что способно внушить любовь к жизни, в особенности свет и воздух, которые и тюремную камеру преобразили бы в сад, если бы свет и воздух могли получить доступ в тюрьму.
Мы непременно описали бы безудержную радость, с какой Олива выбежала на балкон и растянулась на мшистых плитах посреди цветов, похожая на ужа, что выполз из гнезда, но тогда нам пришлось бы всякий раз описывать изумление, охватывавшее ее на каждом шагу, потому что каждый шаг открывал ей новые красоты.
Сперва она, как мы уже сказали, прилегла на балконе, чтобы ее невозможно было заметить снаружи, и сквозь решетку принялась разглядывать верхушки деревьев, бульвары, дома квартала Попенкур и трубы, исторгавшие океан дыма, неровные волны которого струились справа от нее. Нежась в лучах солнца, Олива прислушивалась к шуму карет, кативших по бульвару, хоть и не слишком часто, и часа два была счастлива. Она позавтракала шоколадом, который ей подала горничная, прочитала газету, и только потом ей пришло в голову выглянуть на улицу. Это было опасное удовольствие.
Ищейки г-на де Крона, эти псы в облике человеческом, вечно идущие по следу, могли ее заметить. Какое ужасное пробуждение от сладких грез!
Но как ни приятно лежать на солнышке, нельзя же вечно оставаться в горизонтальном положении! Николь приподнялась на локте.
Тогда она увидела орешники Менильмонтана, высокие деревья на кладбище, мириады разноцветных домиков, взбегавших по склону от Шаронны до холмов Шомон; иные из них были окружены зеленью, иные располагались на участках меловых скал, поросших вереском и чертополохом.
То тут, то там на лентах дорог, обвивающих холмы и пригорки, на тропах, обегающих виноградники, на белых мостовых виднелись фигурки людей: крестьяне, трусившие рысцой верхом на ослах, дети, гнувшие спины на прополке, виноградари, подставлявшие солнцу виноградные лозы. Эти сельские картины привели Николь в восхищение: с тех пор как она рассталась с Таверне ради вожделенного Парижа, она всегда вздыхала по деревенской жизни.
Однако она оторвала взгляд от сельских просторов, и, удобно и надежно расположившись среди цветов так, чтобы все видеть, но оставаться невидимой, она с горы перевела взор на долину, с дальних видов на дома напротив.
В тех трех домах, какие были ей видны, окна были или затворены, или не слишком притягательны. Здесь все три этажа были населены старыми рантье, вывешивавшими за окно клетки с птицами или кормившими у себя в комнате котов; там из четырех этажей лишь в верхнем квартировал какой-то овернец, а остальные были пусты: вероятно, жильцы уехали в деревню. И наконец, в третьем доме, том, что слева, виднелись желтые шелковые шторы, цветы и, словно для довершения уюта, к одному из окон было придвинуто мягкое кресло, которое как будто ждало мечтательного обитателя или обитательницу этой комнаты.
Оливе почудилось, что в глубине комнаты, куда не достигали солнечные лучи, мерно расхаживает чья-то темная фигура.
Этим покуда и насытилось ее любопытство; Олива спряталась еще надежнее и, кликнув горничную, пустилась в разговоры с нею, чтобы разнообразить блаженное одиночество удовольствием поболтать с живой душой, наделенной к тому же даром речи.
Но горничная вопреки всем правилам оказалась немногословна. Она охотно объяснила госпоже, где Бельвиль, где Шаронна, где Пер-Лашез. Она перечислила церкви св. Амвросия и св. Лаврентия, показала, где бульвар поворачивает и начинает спускаться к правому берегу Сены; но чуть речь зашла о соседях, горничная словно язык проглотила: она знала о них не больше, чем ее хозяйка.
Олива ничего не выяснила о наполовину освещенной, наполовину темной комнате с желтыми шторами, не узнала ни о темной фигуре в глубине, ни о кресле.
Таким образом, Оливе ничего не удалось разведать заранее о своей соседке, но у нее по крайней мере оставалась надежда на личное знакомство. Она отпустила чересчур нелюбопытную служанку, чтобы без свидетелей попытаться ускорить это знакомство.
Случай не замедлил представиться. Двери соседских домов начали отворяться: жильцы, отдохнув после трапезы, собирались прогуляться по Королевской площади или Зеленой аллее.
Олива пересчитала соседей. Их было шестеро, все на удивление разные и в то же время в чем-то схожие, как подобает людям, избравшим своим местожительством улицу Сен-Клод.
Некоторое время Олива наблюдала за их движениями, изучала привычки. Все они прошли перед ней, кроме той загадочной темной фигуры, которая, так и не показав Оливе своего лица, опустилась в кресло у окна и застыла в задумчивой неподвижности.
Это была женщина. Она подставила волосы горничной, которая не менее полутора часов возводила у нее на макушке и висках одну из тех вавилонских башен, при строительстве которых шли в ход минералы, плоды и не обходилось бы даже без животных, если бы в дело вмешался Леонар[133] и если бы женщины той эпохи согласились превратить свои головы в ноевы ковчеги.
Наконец, причесанная, напудренная, в белом платье и белоснежных кружевах, незнакомка осталась сидеть в кресле; под шею ей были подложены жесткие подушки, помогавшие телу удерживать равновесие под тяжким бременем прически, а самой прическе оставаться в целости и сохранности, как бы ни колебалась та почва, на которой было возведено это сооружение.
Дама в своей неподвижности напоминала индусского божка, застывшего на постаменте: на ее задумчивом лице жили одни глаза, вперенные в пространство. Они одни, повинуясь ее мыслям и желаниям, служили ей то стражами, то добрыми слугами, исполняя все, чего пожелает идол.
От Оливы не укрылось, что тщательно причесанная дама была хороша собой, что ножка, которую она поставила на край окна, была изящна, с красивым изгибом и обута в розовую атласную туфельку. Олива оценила округлость рук незнакомки, ее пышную грудь, вздымавшую корсет и пеньюар.
Но более всего ее поразила глубокая задумчивость соседки, размышлявшей над какой-то невидимой и неясной целью, которая, судя по всему, занимала ее так сильно, что вся она словно застыла, и понадобилось бы усилие воли, чтобы стряхнуть подобное оцепенение.
Эта дама, которую мы уже узнали, а Олива не могла узнать, не подозревала, что на нее смотрят. Окно напротив ее покоев никогда прежде не отворялось. Особняк г-на Калиостро никогда не выдавал своих секретов вопреки цветам, которые обнаружила Николь, и птицам, которых она увидела, и ни одна живая душа, кроме маляров, отделывающих комнаты, не показывалась в его окнах.
Это противоречило утверждениям Калиостро о том, что он охотно бывает в комнатах верхнего этажа, но объяснялось все очень просто. Вечером граф распорядился приготовить для Оливы эти покои, как для самого себя. Он, так сказать, покривил душой перед собой – и распоряжения его были в точности выполнены.
Между тем дама с пышной прической по-прежнему была погружена в свои мысли; Олива вообразила, что эта задумчивая красавица грезит о любви, на пути у которой встали препятствия.
Какие совпадения! Красота, одиночество, молодость, скука – сколько нитей, способных связать две души, которые, быть может, ищут друг друга по милости таинственных, непреодолимых и непостижимых велений судьбы!
Олива, чуть только увидела эту одинокую мечтательницу, была уже не в силах отвести от нее взгляда.
Какая-то душевная чистота была в этом порыве женщины к другой женщине. Подобные тонкие чувства чаще, чем кажется, бывают свойственны несчастным созданиям, которые в жизни более всего покорствуют велениям плоти.
Бедные изгнанницы из духовного рая, они тоскуют об утраченных садах и улыбающихся ангелах, прячущихся под таинственной сенью.
Оливе казалось, что в прекрасной затворнице она узнала сестру своей души. Она вообразила целый роман, похожий на ее собственный, полагая в своей наивности, что у всякой красивой и элегантной дамы, уединенно живущей на улице Сен-Клод, непременно должна лежать на сердце какая-нибудь горестная тревога.
Всласть обдумав и изукрасив всеми цветами вымысла свою волшебную сказку, Олива, подобно всем мечтательным натурам, сама поверила в создание своего воображения; она уже летела на крыльях мечты навстречу подруге, желая лишь, чтобы у той тоже выросли крылья, да поскорее.
Но дама на своем постаменте не двигалась и была, казалось, погружена в дремоту. Прошло два часа, а она так и не шевельнулась.
Олива начала отчаиваться. Никакому Адонису, никакому Босиру не оказала бы она таких знаков расположения, какие посылала незнакомке.
Она выбилась из сил, она переходила от нежности к ненависти, она раз десять отворяла и захлопывала оконную раму; раз десять вспугивала птиц в листве и подавала столь многозначительные телеграфные сигналы, что самый тупой из востроглазых подчиненных г-на де Крона, проходи он по бульвару или по улице Сен-Клод, не преминул бы заметить ее и заняться ею.
В конце концов Николь принялась себя уговаривать, что дама, украшенная прекрасными локонами, видела все ее жесты, поняла все призывы, но пренебрегла ими, что она надменна или у нее попросту не все дома. Но нет, ее проницательные, умные глаза, изящная ножка, нервная ручка свидетельствовали о здравом уме! Не может быть, что она дурочка.
Надменность – дело другое: в те времена дама из высшего общества вполне могла пренебречь простой горожанкой.
Различая на лице молодой женщины все признаки аристократизма, Олива пришла к выводу, что незнакомка полна гордыни и неспособна растрогаться. Она сдалась.
С очаровательной обидой она отвернулась и вновь стала греться на солнце, которое теперь уже склонялось к западу, и вновь обратилась к цветам, добрым своим друзьям, которые были и изысканны, и нарядны, и припудрены не хуже высокородной дамы, но зато позволяли себя потрогать, понюхать и охотно дарили свои благоуханные, трепетные и свежие поцелуи в знак дружества и любви.
Николь и помыслить не могла, что та, кого она сочла гордячкой, была на самом деле Жанна де Валуа, графиня де Ламотт, которая со вчерашнего дня напряженно искала решения задачи, а задача эта состояла в том, как воспрепятствовать Марии Антуанетте и кардиналу де Рогану увидеться, и что больше всего на свете Жанне было нужно, чтобы кардинал, встречаясь с королевой на людях и никогда – наедине, твердо верил, что продолжает с ней встречаться, и, довольствуясь этим, не требовал настоящих свиданий.
Столь серьезные раздумья были вполне законным объяснением для озабоченности молодой женщины, не шевельнувшейся в течение добрых двух часов.
Если бы Николь обо всем этом знала, она бы не рассердилась и не спаслась бы бегством в гущу цветов.
Но, располагаясь поудобнее, она свалила с балкона горшок дикого бадьяна, который упал и с оглушительным шумом разбился посреди улицы.
Перепуганная Олива быстро выглянула, чтобы оценить, насколько велик нанесенный ею урон.
Задумчивая дама при звуке падения очнулась, увидела горшок на мостовой и от следствия добралась до причины, то есть взгляд ее с уличного булыжника перебежал на балкон особняка.
Она увидела Оливу.
Увидев ее, она издала дикий вопль, в котором слышался ужас и который перешел в содрогание, потрясшее весь ее стан, еще недавно такой прямой и неподвижный.
Наконец взгляды Оливы и незнакомки встретились, обменялись вопросами, вперились друг в друга.
Жанна сперва воскликнула:
– Королева!
А потом, молитвенно сложив руки, нахмурив брови и не смея шевельнуться, чтобы не спугнуть странное видение, прошептала:
– Я искала средство, и вот оно передо мной!
В этот миг Олива услыхала шорох у себя за спиной и проворно обернулась. В комнате был граф; от него не укрылся взгляд, которым обменялись женщины.
– Они друг друга увидели! – прошептал он.
Олива проворно ушла с балкона.
С той минуты, как две женщины увидели друг друга, Олива покорилась очарованию соседки и больше не притворялась, будто пренебрегает ею; осторожно поворачиваясь среди цветов, она отвечала улыбками на улыбки красивой дамы.
Калиостро во время своего визита не преминул напомнить ей о необходимости остерегаться всех и вся.
– Главное, не водитесь с соседями, – сказал он.
Это предостережение словно окатило холодной водой Оливу, которая уже размечталась, как приятно будет обмениваться с соседкой знаками и поклонами.
Не водиться с соседями означало отворачиваться от этой очаровательной дамы с такими блестящими, ласковыми глазами, с такими подкупающе изящными движениями; это означало отказ от языка жестов, на котором можно было бы обмениваться мнениями о том о сем; это означало разрыв с подругой. А воображение Оливы так разыгралось, что Жанна уже занимала ее и была ей дорога.
Лукавая женщина ответила своему покровителю, что ни в коем случае не посмеет его ослушаться и не станет даже глядеть на соседей. Но едва он ушел, она устроилась на балконе, изо всех сил стараясь привлечь к себе внимание соседи!.
Нетрудно догадаться, что той только того и надо было; на первые же авансы Оливы она ответила кивками и воздушными поцелуями.
Олива охотно откликнулась на эти знаки внимания; она заметила, что незнакомка не отходит от окна, не упускает случая поздороваться или попрощаться с ней, когда она выходит на балкон или скрывается в комнате, и, кажется, устремила на нее всю нежность своего сердца.
При таком положении дел дальнейшее сближение было неотвратимо.
И вот что произошло.
Два дня спустя Оливу навестил Калиостро и посетовал на то, что ему нанесла визит некая незнакомка.
– Вот как? – краснея, отозвалась Олива.
– Да, – отвечал граф, – весьма миловидная, молодая, элегантная дама приходила в дом и беседовала со слугой, который отворил ей дверь, поскольку она звонила очень настойчиво. Она спросила, что за молодая особа живет в четвертом этаже, в надстройке, то есть в ваших покоях, дорогая. Эта женщина подробно вас описала. Она желала вас видеть. Следовательно, она вас знает, вы ей зачем-то нужны. Значит, вы обнаружены, не так ли? Берегитесь, среди полицейских ищеек есть не только мужчины, но и женщины, и я предупреждаю, что, если господин де Крон потребует, чтобы я вас выдал, мне невозможно будет ему отказать.
Вместо того, чтобы испугаться, Олива вмиг поняла, что речь идет о ее соседке, и воспылала к ней беспредельной признательностью; она решила, что отблагодарит ее, как только сможет, за такую предупредительность, но ничего не стала говорить графу.
– Неужели вам не страшно? – удивился Калиостро.
– Никто меня не видел, – возразила Николь.
– Так эта дама спрашивала не вас?
– Думаю, что не меня.
– И все-таки она догадалась, что в надстройке живет какая-то женщина… Ах, будьте осторожны, будьте осторожны!
– Полно, господин граф, – возразила Олива, – чего мне бояться? Если кто меня и видел – а я не очень-то в это верю, – то уж больше не увидит, а если и увидит еще разок, то издали – ведь ваш дом неприступен, не правда ли?
– Верно, неприступен, – подтвердил граф, – разве что кто-нибудь перемахнет через садовую стену, что нелегко, или отомкнет калитку таким же ключом, как мой, что тоже маловероятно: я со своим ключом не расстаюсь.
С этими словами он показал ключ, с помощью которого проникал в дом.
– Поскольку мне нет никакого смысла вас губить, – продолжал он, – я не отдам этот ключ ни одной живой душе; а поскольку вам тоже нет никакой корысти в том, чтобы угодить в лапы господина де Крона, вы не допустите, чтобы кто-нибудь перемахнул через стену. Итак, дитя мое, вы предупреждены; поступайте, как сочтете нужным.
Олива принялась бурно уверять графа в своем благоразумии и поспешила спровадить его, хотя он и без того не слишком жаждал остаться.
На другой день с шести утра она была уже на балконе и, жадно вдыхая чистый воздух окрестных холмов, зорко поглядывала на затворенные окна своей любезной подруги.
А та, хоть обычно просыпалась не раньше одиннадцати, показалась сразу же вслед за Оливой. Казалось, она из-за штор ловила миг, когда можно будет увидеться.
Обе женщины раскланялись, и Жанна, высунувшись из мша, огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не может подслушать. Вокруг было безлюдно. Ни на улице, ни в окнах соседних домов не видно было ни души. Тогда она, сложив руки, поднесла их к губам наподобие рупора и звонким пронзительным голосом, не столь громким, как крик, но более отчетливым и слышным издали, воззвала к Оливе:
– Я хотела вас навестить, сударыня.
– Тише! – простонала Олива, отпрянув в испуге.
И приложила палец к губам.
Жанна также нырнула за шторы, полагая, что их разговор мог услышать какой-нибудь нескромный свидетель, но, ободренная улыбкой Николь, тут же выглянула снова.
– Значит, с вами нельзя видеться? – продолжала она беседу.
Олива отвечала жестом, который должен был означать: «Увы, это так!»
– Погодите, – не унималась Жанна, – но написать-то вам можно?
– Нет, нет! – в ужасе воскликнула Олива.
Жанна задумалась.
В благодарность за столь любезную настойчивость Олива послала ей воздушный поцелуй; Жанна отвечала ей поцелуем еще более нежным, а затем затворила окно и ушла.
Олива решила, что ее подруга изобрела некий новый способ переговариваться, поскольку в ее последнем взгляде как будто сверкнула догадка.
В самом деле, через два часа Жанна вернулась; солнце уже палило вовсю; булыжник мостовой был раскален, как песок Испании в жару.
Олива увидела, что соседка вновь появилась в окне и в руках у нее арбалет. Жанна со смехом сделала ей знак посторониться. Та повиновалась и с ответным смехом спряталась за ставень.
Жанна старательно прицелилась и стрельнула маленькой свинцовой пулькой, которая, к сожалению, долетев до балкона, ударилась об один из железных прутьев и упала на улицу.
Олива испустила горестный вопль. Жанна, в ярости передернув плечами, поискала глазами на мостовой свой снаряд и на несколько минут исчезла.
Олива, наклонившись, смотрела с балкона вниз; там проходил какой-то тряпичник, рыща по сторонам мостовой; заметил он пульку в канаве или не заметил? Олива не поняла и спряталась, чтобы ее самое не увидели. Вторая попытка Жанны оказалась более удачна. Арбалет выстрелил метко, пулька перелетела балкон и угодила прямо в спальню Николь. Вокруг пульки была обернута записка следующего содержания:
Прекрасная дама, Вы меня заинтересовали. По-моему, Вы очаровательны, и я полюбила Вас, хоть не сказала с Вами ни слова. Известно ли Вам, что я тщетно пыталась Вас навестить? Неужели колдун, который неусыпно сторожит Вас, никогда не позволит мне к Вам приблизиться, чтобы сказать, какое участие внушила мне бедная жертва мужской тирании?
У меня, как и у Вас, достанет воображения, которое будет подспорьем дружбе. Хотите стать моей подругой? Вы, как я понимаю, не можете выйти, но, вне всякого сомнения, можете написать, а поскольку я выхожу из дому, когда мне угодно, дождитесь, пока я пройду под Вашим балконом, и сбросьте мне свой ответ.
На случай, если стрельба из арбалета окажется опасной или ее заметят, предлагаю Вам более простой способ переписки. Под вечер спустите с балкона моток ниток, привяжите к концу свою записку. Я сниму ее и прицеплю свою, а Вы ее незаметно поднимете.
Если Ваши глаза не лгут, я могу надеяться на частицу той дружбы, которую Вы мне внушили, а тогда, поверьте мне, вдвоем мы победим весь мир.
P.S. Не видали ли Вы, кто поднял мою первую записку?
Жанна не подписалась; вдобавок она полностью изменила почерк. Олива задрожала от радости, получив это письмо. В ответ она написала следующее послание:
Я люблю Вас так же, как Вы меня. В самом деле, я жертва мужской злобы. Но тот, кто держит меня здесь, – покровитель мой, а не тиран. Раз в день он тайно посещает меня. Позже я Вам все объясню. Клубок с нитками кажется мне удобнее арбалета.
К сожалению, выходить я не могу: я сижу под замком, но это для моего же блага. Ах, как много мне нужно будет Вам рассказать, если когда-нибудь мне выпадет радость поговорить с Вами! Немало есть таких подробностей, которые невозможно описать на бумаге!
Вашу первую записку мог подобрать только грязный тряпичник, проходивший по улице, но эти люди не умеют читать, и свинец для них – просто свинец.
Олива со всем усердием вывела свою подпись.
На глазах у графини она сделала такое движение, словно снимает улов с бечевки, и в ожидании вечера спустила с балкона клубок ниток.
Жанна сошла вниз, поймала конец нитки и сняла с нее записку – ее корреспондентка поняла это по тому, как задергалась нить, – а затем вернулась домой, чтобы прочесть послание.
Спустя полчаса она привязала к благословенной нити письмецо следующего содержания:
Нам удается все, что мы хотим. За Вами нет слежки: насколько я могу судить, Вы всегда одна. Значит, Вы могли бы свободно принимать гостей и тем более выходить из дому. Как запирается вход в Ваш дом? На ключ? У кого этот ключ? У человека, который Вас навещает, не так ли? Но неужели он не выпускает его из рук и Вы не можете его похитить или снять с него слепок? Ведь никакого дурного умысла у нас нет: речь идет всего-навсего о нескольких часах свободы для Вас, о сладостных прогулках под руку с подругой, которая утешит Вас во всех Ваших горестях и возместит Ваши утраты. А может быть, если Вы захотите, удастся даже вернуть Вам настоящую, полную свободу.
Обсудим это подробнее, как только сумеем встретиться.
Олива пожирала глазами эту записку. Она чувствовала, как вспыхнули у нее щеки в предвкушении независимости, а сердце в чаянии запретного плода преисполнилось восторгом.
Она заметила, что всякий раз, когда граф приходил к ней, принося то книжку, то безделушку, он ставил потайной фонарь на шкаф и на фонарь клал ключ.
Олива заранее размяла кусок воска и в первый же приход Калиостро сняла с ключа слепок.
Граф ни разу не обернулся; пока она занималась этим делом, он разглядывал недавно распустившиеся цветы на балконе. Поэтому Олива успешно довела свой замысел до конца.
Когда граф ушел, она спустила в коробочке слепок с ключа вместе с запиской прямо в руки Жанны.
Уже на другой день после полудня арбалет, исключительное и срочное средство сообщения, бывшее в сравнении с клубком ниток тем же, чем телеграф является в сравнении с обычными почтовыми лошадьми, доставил ей следующую записку:
Моя дорогая, нынче вечером, в одиннадцать, когда уйдет Ваш ревнивец, отодвиньте засов и примите в свои объятия ту, которая присягает Вам в нежной дружбе.
Олива затрепетала от счастья сильнее, чем в пору первой любви и первых свиданий, когда получала самые нежные записки от Жильбера.
Не уловив в поведении графа ничего подозрительного, в одиннадцать она сошла вниз. У входа ее встретила Жанна, нежно ее обняла и увлекла в карету, поджидавшую на бульваре; оглушенная, трепещущая, опьяненная пленница каталась вдвоем с подругой два часа, и за это время спутницы обменялись множеством поцелуев, секретов и планов на будущее.
Жанна первая посоветовала Оливе возвращаться, чтобы не возбудить подозрений у покровителя. Она уже знала, что покровитель этот был Калиостро. Опасаясь сверхъестественных способностей такого человека, она считала, что для исполнения ее замыслов необходима глубокая тайна.
Олива раскрыла ей всю душу: не умолчала ни о Босире, ни о полиции.
Жанна сказала ей про себя, что она, мол, девица высокого происхождения, скрывающаяся от родных вместе со своим возлюбленным.
Одной было известно все, другой ничего; вот на чем основывалась дружба, в которой поклялись друг другу обе женщины.
С этого дня они уже не нуждались ни в арбалете, ни даже в клубке ниток. У Жанны был ключ. Она вызывала Оливу из дому, когда ей того хотелось.
Изысканный ужин, катание украдкой – всякий раз Олива попадалась на эти приманки.
Иногда Жанна спрашивала в тревоге:
– Господин Калиостро ничего не замечает?
– Право, он чрезмерно мне доверяет, – отвечала Олива.
Через неделю эти ночные вылазки стали для нее привычкой, потребностью и, более того, большой радостью. Через неделю имя Жанны приходило ей на уста гораздо чаще, чем в свое время имена Жильбера и Босира.
Как только г-н де Шарни вернулся в свои земли и, нанеся первые визиты, заперся у себя дома, врач предписал ему никого не принимать и не выходить из комнат; эти предписания были исполнены столь добросовестно, что никто из жителей кантона не видел более героя морской битвы, вызвавшей такой шум во всей Франции, и тщетно девушки, привлеченные его выдающейся храбростью и тем, что, по слухам, он был хорош собой, пытались его увидеть.
Однако Шарни не был настолько болен, как утверждали слухи. У него болели только сердце да голова, но, видит Бог, то были жестокие муки! Острая, непрестанная, беспощадная боль жгучих воспоминаний и душераздирающих сожалений…
Любовь есть не что иное, как ностальгия, но влюбленный плачет не о покинутой родине, а об утраченном рае, хотя, как бы ни льстились мы на поэзию, приходится признать, что любимая женщина не столь бесплотное существо, как райские ангелы.
Г-н де Шарни не вытерпел и трех дней. В ярости от того, что все его мечты развеяны невозможностью и уничтожены дальним расстоянием, Оливье пустил по всему кантону слух о предписании врача, которое мы привели выше, а затем, доверив охрану дома испытанному слуге, ночью вскочил на чуткого и быстроногого коня и покинул свое гнездо. Через восемь часов он прибыл в Версаль и при посредничестве своего лакея снял небольшой домик за парком.
Этот домик, пустовавший после трагической смерти одного из придворных егермейстеров, перерезавшего себе там горло, как нельзя лучше устраивал Шарни, которому хотелось спрятаться еще надежнее, чем у себя в поместье.
Дом был опрятно обставлен, в нем имелось два выхода: один на безлюдную улицу, другой на прекрасную парковую аллею; из окон, обращенных на юг, Шарни мог попасть прямо в аллеи Шармиля, потому что эти окна, закрывавшиеся ставнями, затканными виноградом, представляли собой, в сущности, двери на уровне первого этажа, несколько приподнятого над землей, чтобы никому не пришло в голову спрыгнуть в королевский парк.
Такое уединенное местоположение, уже в те времена довольно редкое, было привилегией, дарованной королевскому егермейстеру, чтобы ему сподручней было надзирать за оленями и фазанами его величества.
Достаточно было посмотреть на эти окна в веселом обрамлении буйной зелени, чтобы вообразить себе егермейстера, уныло глядящего осенним вечером из среднего окна на ланей, которые, шурша тонкими ногами по опавшей листве, играют в тени деревьев под обманчивыми лучами заходящего солнца.
Такое уединение особенно нравилось Шарни. Объяснялось ли это его любовью к природе? Вскоре мы это узнаем.
Не успел он въехать, как все двери и окна были затворены, и его лакей пресек почтительное любопытство соседей; всеми забытый и всех забыв, Шарни зажил той жизнью, сама мысль о которой исторгнет трепет у каждого, кто хоть однажды в этом мире любил, был любим или слыхал о любви.
Меньше чем за две недели он изучил все привычки обитателей замка и стражи, узнал, в котором часу птица прилетает попить из пруда, в котором часу, вытягивая настороженную морду, пробегает олень. Он усвоил, когда воцаряется тишина, сопутствующая прогулке королевы или ее дам, когда ходит дозором стража; издали он разделял жизнь обитателей Трианона – храма, к которому было обращено его безрассудное поклонение.
Погода держалась ясная, теплые ночи, напоенные ароматами, давали глазам больше свободы, а душе навевали больше мечтательности, и потому он чуть не до утра засиживался у окна под зарослями жасмина, ловя далекие звуки, долетавшие из дворца, и сквозь просветы в листве следя за игрой огней, замиравшей лишь в час отхода ко сну.
Вскоре он уже перестал довольствоваться окном. Звуки и огни были слишком далеко от него. Он спрыгнул из мша вниз, уверенный, что в этот час не встретит ни пса, ни стражника, и с невыразимым, гибельным наслаждением дошел до кромки рощи, где находилась граница густой тени и яркого лунного света; отсюда он впился глазами в силуэты, то черные, то бледные, что мелькали за белыми шторами покоев королевы.
Так, без ее ведома, он смотрел на нее день заднем.
Он узнавал ее за четверть лье, когда она шла в сопровождении придворных дам или с кем-нибудь из друзей, поигрывая китайским зонтиком, который прятал от солнца ее широкую шляпу, украшенную цветами.
Никакой жест, никакая поза не могли его обмануть. Он знал наизусть все наряды королевы и различал в листве пышное зеленое платье с черными муаровыми лентами, которые колыхались при каждом ее движении, исполненном пленительного целомудрия.
А когда видение исчезало, когда сумерки выгоняли из сада гуляющих и ему ничто не мешало подойти к самым статуям перистиля, чтобы увидеть, как перед ним в последний раз мелькнет обожаемая тень, Шарни возвращался к своему окну и сквозь просветы в высоких деревьях смотрел издали на огни в окнах у королевы, потом видел, как они гаснут, и если днем он жил созерцанием и восхищением, то ночью жизнь его заключалась в воспоминаниях и надежде.
Однажды вечером, вернувшись домой через два часа после того, как он проводил прощальным взглядом исчезнувшую тень, когда звезды уже сеяли свой белый жемчуг на листьях плюща, Шарни покинул окно и собирался уже лечь в постель, как вдруг его слуха коснулся скрип замка; он вернулся на свой наблюдательный пункт и стал прислушиваться.
Было уже поздно – колокола дальних церквей еще звонили полночь, и Шарни с удивлением уловил шум, который был ему непривычен.
Скрип исходил от непокорного замка маленькой калитки, ведущей в парк; она была расположена шагах в двадцати пяти от дома Оливье и никогда не отворялась, кроме как во время большой охоты, когда через нее доставляли дичь.
Шарни отметил, что люди, отпиравшие калитку, делали это молча; они закрыли за собой засовы и углубились в аллею, проходившую под окнами дома.
Деревья и висячие ветви винограда скрывали от прохожих ставни и стены дома.
К тому же незнакомцы шли поспешно, опустив головы. Шарни едва различал их в темноте. Только по шуршанию развевающихся юбок он понял, что это две женщины: их шелковые накидки шелестели, цепляясь за ветки и траву.
Когда женщины, следуя по круговой аллее, что тянулась под окнами Шарни, вышли на пространство, ярче освещенное луной, Оливье едва удержался от радостного крика: он узнал наряд и прическу Марии Антуанетты и нижнюю часть ее лица, на которую падал свет, несмотря на тень от широких полей шляпки. В руке королевы была прекрасная роза.
С трепещущим сердцем Шарни через окно соскользнул в сад. Он пробежал по траве во избежание шума, прячась за самыми толстыми деревьями и не отрывая взгляда от обеих женщин, которые с каждой минутой шли все медленнее.
Что делать? Королева была со спутницей, она не подвергалась никакой опасности. Ах, будь она одна, он пошел бы на любые попытки, лишь бы броситься перед ней на колени и сказать: «Я люблю вас!» Ах, угрожай ей любая беда, он бы с легкостью пожертвовал собой во спасение ее драгоценной жизни!
Пока в голове у него проносились все эти мысли, а в воображении теснились сумасбродные пылкие мечты, обе дамы внезапно остановились: та, что была пониже ростом, тихо сказала что-то своей спутнице и ушла.
Королева осталась одна; видно было, как вторая дама спешит к какой-то цели, а к какой – Шарни еще не мог разглядеть. Королева, постукивая по песку маленькой ножкой, прислонилась к дереву и укуталась в плащ, накинув на голову капюшон, прежде ниспадавший шелковыми складками ей на плечи.
Видя ее одну в столь мечтательной позе, Шарни ринулся к ней, готовый упасть перед нею на колени.
Но он сообразил, что их разделяет не меньше тридцати шагов и, прежде чем он преодолеет это расстояние, она увидит его, но не узнает и испугается; она закричит или убежит; на крики явится сперва ее спутница, потом охрана; стражи прочешут парк и обнаружат смельчака, а может быть, и его убежище – и тогда навсегда покончено с тайной, и со счастьем, и с любовью.
Он вовремя остановился и хорошо сделал: едва он унял свой неодолимый порыв, как появилась спутница королевы, и появилась не одна.
Шарни увидел, что в двух шагах позади нее идет высокий мужчина, пряча лицо под широкополой шляпой и укутавшись в просторный плащ.
Этот человек, при виде которого г-н де Шарни задрожал от ненависти и ревности, не был похож на победителя. Он шатался, еле передвигал ноги от неуверенности; казалось, он ощупью ищет путь в темноте, а не спешит вслед за подругой королевы, и сама королева не ждет его, прямая, вся в белом, стоя под деревом.
Когда он заметил Марию Антуанетту, дрожь его, не укрывшаяся от глаз Шарни, стала еще сильнее. Незнакомец снял шляпу и принялся чуть не мести землю плюмажем.
Шарни видел, как он вступил под сень деревьев и склонился в глубоком и продолжительном поклоне. Удивление Шарни переросло в величайшее изумление. От изумления он скоро перешел к иному чувству, куда более горестному. Зачем королева в столь поздний час вышла в парк? Зачем сюда явился этот человек? Почему он ждал в укрытии? Почему королева послала за ним свою спутницу, а не пошла к нему сама?
Шарни еле владел собой. Но он вспомнил, что королева втайне занимается политикой, что она часто затевает интриги, в которых участвуют немецкие дворы, и поддерживает отношения, которых король не одобряет и которые строго ей запрещены.
Может быть, этот таинственный кавалер – гонец из Шенбрунна или Берлина, какой-нибудь дворянин, которому доверено секретное послание, один из тех немцев, которых Людовик XVI не желает больше видеть в Версале с тех пор, как император Иосиф II позволил себе явиться во Францию, чтобы читать в поучение своему родичу, христианнейшему королю Франции, лекции по философии и политике?
Эта мысль, подобно ледяному компрессу, который врач накладывает на пылающий лоб больного, освежила бедного Оливье, укрепила его дух и уняла первую вспышку безумной ярости. К тому же королева хранила осанку, полную благопристойности и отменного достоинства.
Спутница ее остановилась в трех шагах и внимательно, озабоченно следила за происходящим, похожая на подруг и дуэний с картин Ватто, изображающих прогулки вчетвером; ее тревожное сочувствие опровергало утешительные мысли г-на де Шарни. Впрочем, быть застигнутой во время политического свидания так же опасно, как постыдно попасться во время свидания любовного. И заговорщик как никто другой похож на влюбленного. Оба закутаны в плащи, оба держатся начеку, оба нетвердо стоят на ногах.
У Шарни не было времени углубиться в подобные размышления; наперсница забеспокоилась и прервала беседу. Кавалер сделал такое движение, словно готов был упасть ниц: не было сомнения, что аудиенция подходит к концу.
Шарни затаился за толстым деревом. Когда участники виденной им сцены расстанутся, кто-то из них наверняка пройдет мимо него. Оливье оставалось только затаить дыхание и молить то ли гномов, то ли сильфов, чтобы они приглушили все звуки на земле и в небе.
В этот миг ему показалось, будто на фоне королевской накидки мелькнул какой-то светлый предмет; дворянин поспешно склонился до самой травы, отвесил почтительный поклон и ударился в бегство – только так и можно было назвать его стремительный уход.
Но спутница королевы остановила его тихим окриком, а когда он застыл на месте, бросила ему вполголоса:
– Подождите!
Кавалер оказался отменно послушен: он замер на месте и стал ждать.
И тут Шарни увидел, как обе женщины рука об руку прошли в двух шагах от его укрытия; ветерок, поднятый подолом королевы, покачнул стебли на газоне у самых ног Шарни.
Он почувствовал духи королевы, которые ему так давно были дороги; эта смесь вербены и резеды вдвойне опьяняла его ароматом и связанными с ним воспоминаниями.
Женщины прошли мимо и скрылись.
Несколько минут спустя показался незнакомец, но Оливье сперва проводил королеву взглядом до самой калитки и только потом взглянул на него: тот страстно и исступленно целовал свежую, благоуханную розу, несомненно ту самую, которую Шарни заметил сначала в руках у королевы, когда она вышла в парк, а потом видел, как Мария Антуанетта выпустила ее из рук.
Роза и эти поцелуи! Какие уж тут гонцы, какие государственные тайны!
Шарни словно обезумел. Он готов был наброситься на этого человека и вырвать у него из рук розу, но тут вновь показалась спутница королевы и крикнула:
– Идите, монсеньор!
Шарни понял, что видит перед собой одного из принцев крови, и прислонился к дереву, чтобы не рухнуть замертво на траву.
Незнакомец бросился в ту сторону, откуда донесся зов, и исчез вместе с дамой.
Когда сраженный этим жестоким ударом Шарни вернулся в дом, он не нашел в себе сил противостоять новому горю, постигшему его.
Провидение привело его в Версаль, послало ему этот неоценимый тайный приют – и все лишь для того, чтобы разжечь в нем ревность, чтобы навести его на след преступления, которое, пренебрегая супружеским долгом, королевским достоинством и любовной верностью, совершила Мария Антуанетта.
Сомнений не оставалось: человек, которому оказали в парке такой прием, был новым любовником. Охваченный ночной лихорадкой, Шарни напрасно пытался убедить себя в бреду отчаяния, что человек, получивший розу, – посланец, а роза – только залог тайного сговора, замена письму, которое было бы чересчур опасно.
Ничто не могло победить подозрения. Несчастному Оливье оставалось только задуматься над собственным поведением и спросить себя, почему он оказался столь бездеятелен перед лицом такой беды. По некотором размышлении нетрудно было догадаться, под влиянием какого инстинкта он впал в эту бездеятельность.
В минуты самых жестоких жизненных кризисов природа человеческая невольно стремится к действию: в здравомыслящем человеке это инстинктивное стремление есть не что иное, как сочетание привычки и обдуманного решения, которое созревает очень быстро и очень кстати. Шарни ничего не предпринял по той причине, что дела королевы не имели к нему касательства; проявив свое любопытство, он выдал бы и любовь; к тому же, бросая тень на королеву, он бы предал ее, а если мы хотим уличить кого-либо в предательстве, то платить за него ответным предательством нам не к лицу.
Он ничего не предпринял, потому что, напав на человека, удостоенного королевским доверием, он, возможно, оказался бы виновником безобразной, унизительной сцены; получилось бы, будто он расставил королеве западню, и она никогда бы ему не простила.
И наконец, обращение «монсеньор», оброненное под конец услужливой наперсницей, оказалось для него хоть и запоздалым, но все же спасительным предостережением: оно бы открыло Шарни глаза, даже если бы его окончательно ослепил гнев. Что было бы, услышь он, как называют монсеньором человека, на которого он уже бросился со шпагой в руке? И замахнись он на столь высокое лицо, как мучительно было бы его падение с такой высоты.
Подобные мысли одолевали Шарни всю ночь и все утро. А когда пробило полдень, все, что было накануне, для него исчезло. Осталось только лихорадочное, изнурительное ожидание следующей ночи, чреватой, быть может, дальнейшими разоблачениями.
С какой тревогой уселся Шарни у окна, единственного своего прибежища, очерчивавшего непреодолимые границы его жизни! Когда он затаился под виноградными лозами за ставнем, в котором просверлил отверстие, чтобы никто не заметил, что дом обитаем, и замер в этой дубовой раме, увитой зеленью, он напоминал собой один из тех старинных портретов, которые с благочестивой заботой следят из-за драпировок в старинных замках за жизнью своих потомков.
Наступил вечер, который принес нашему пылкому соглядатаю темные желания и безумные мысли.
Он улавливал новое значение в обычных звуках. Вдали он заметил королеву: она шла по лужайке, и впереди нее несли несколько фонарей. Королева показалась ему задумчивой, нерешительной, ее словно омрачали ночные тревоги.
Постепенно погасли все огни в службах; безмолвный парк наполнился тишиной и прохладой. Деревья и цветы, которые весь день усердно радовали взгляды и услаждали гуляющих, ночью, когда никто их не видит и не трогает, словно набирались свежести, аромата и гибкости для новых трудов. Право же, рощи и луга, подобно людям, по ночам спят.
Шарни хорошо запомнил, в каком часу накануне произошло свидание. И вот пробило полночь.
Сердце у Шарни разрывалось на части. Он прижался грудью к оконной балюстраде, чтобы приглушить громкое, лихорадочное сердцебиение. Скоро уже, твердил он себе, отворится калитка и заскрипят засовы. Однако ничто не нарушало тишины в парке.
И тут Шарни удивился, почему он, в сущности, был так уверен, что на вторую ночь повторится все, что было накануне. Ведь у этой любви, если это и впрямь любовь, не может быть никаких правил, и, если любовники не вытерпят без свидания и двух дней, такая настойчивость будет с их стороны весьма неразумна.
«Когда тайна сопряжена с безумием, – думал Шарни, – она чревата опасностью! Да, королева едва ли вторично отважится на подобную неосторожность».
Вдруг скрипнули засовы, и калитка отворилась.
Щеки Оливье залила смертельная бледность: он заметил двух женщин, одетых так же, как прошлой ночью.
– Неужели она так влюблена? – прошептал он.
Две дамы избрали тот же путь, что накануне, и торопливой поступью прошли под окном Шарни.
Так же, как в прошлую ночь, он спрыгнул в парк, едва они удалились настолько, чтобы не слышать его прыжка; он стал красться за ними, прячась за каждое подходящее дерево и клянясь себе быть осторожным, сильным, бесстрастным, не забывать, что он подданный, а она королева, что он мужчина, и это обязывает его к почтительности, а она женщина и вправе требовать уважения.
Опасаясь своего горячего, вспыльчивого нрава, он отшвырнул шпагу за клумбу с мальвами, разбитую у подножия каштана.
Между тем обе дамы дошли до того же места, что накануне. Шарни также, как накануне, узнал королеву; она снова накинула себе на голову капюшон, а услужливая подруга поспешила в условное место, где прятался незнакомец, которого величали монсеньором.
Где же было это условное место? Шарни терялся в догадках. В той стороне, куда устремилась наперсница, располагалась купальня Аполлона, незаметная за высокими буками в тени мраморных колонн; но как мог там спрятаться посторонний? Как он туда проник?
Шарни вспомнил, что в той стороне парка была маленькая калитка, похожая на ту, которой воспользовались дамы, чтобы поспеть на свидание. Через эту калитку, должно быть, и проник незнакомец; далее он скользнул под прикрытие купальни Аполлона и ждал, пока за ним придут.
Таков был уговор; затем, после беседы с королевой, монсеньор удалялся через туже калитку.
Через несколько секунд Шарни завидел те же плащ и шляпу, что накануне.
На сей раз незнакомец приближался к королеве без прежней почтительной сдержанности: он шел широкой поступью, не смея бежать, но почти бегом.
Королева стояла, прислонясь к дереву; затем она села на плащ, который расстелил перед ней этот новый Рэли[134], и, пока подруга зорко смотрела по сторонам, охраняя их, как накануне, влюбленный вельможа опустился на колени и заговорил торопливо и страстно.
Королева поникла головой, охваченная нежной меланхолией. Шарни не различал самих слов кавалера, но звучание их было проникнуто поэзией и страстью. Судя по интонации, это были пламенные признания.
Королева не отвечала. Незнакомец с удвоенным жаром продолжал говорить: иногда убитому горем Шарни чудилось, будто в трепетном течении речи он улавливает слова, и он изнемогал от гнева и ревности. Но нет, слов было не разобрать. Как только голос начинал звучать яснее, многозначительный жест наперсницы, которая была начеку, приказывал пылкому оратору умерить тон своих излияний.
Королева хранила упорное молчание.
Ее собеседник обращал к ней все новые мольбы – Шарни угадывал это по переливам и дрожанию его голоса, – но ответом было лишь нежное безмолвное сочувствие, которым едва ли мог удовольствоваться тот, кто столь бурно дал волю страсти.
Внезапно королева проронила несколько слов. Во всяком случае, так показалось Шарни. Она еле шевелила губами, так что услышать ее мог только незнакомец, но едва он их услышал, как в избытке ликования воскликнул в полный голос:
– Благодарю вас, ваше обожаемое величество, благодарю вас! Значит, мы простимся до завтра!
Королева надвинула капюшон на самое лицо, которое и без того было скрыто.
На лбу у Шарни, словно у умирающего, выступил ледяной пот и тяжелыми каплями потек по вискам.
Королева протянула незнакомцу обе руки; он принял их в свои и запечатлел на них столь долгий и нежный поцелуй, что Шарни за это время прошел через все пытки, какие позаимствовало у преисподней жестокое человечество.
Затем королева поспешно встала и оперлась на руку спутницы.
Обе дамы удалились, пройдя, как накануне, совсем близко от Шарни.
Незнакомец ушел в другую сторону, и Шарни, от невыразимого горя впавший в оцепенение и не имевший сил двинуться с места, смутно услышал, как одновременно захлопнулись две калитки.
Не станем и пытаться описать состояние Шарни после этого чудовищного открытия.
Всю ночь он яростно метался по аллеям парка, осыпая их отчаянными упреками за сообщничество в преступлении.
Несколько часов им владело безумие; он опомнился лишь, когда в своих бессмысленных метаниях наткнулся на шпагу, которую бросил, чтобы избежать искушения пустить ее в ход.
Теперь шпага мешала ему при ходьбе, и это внезапно пробудило в нем сознание силы и достоинства. Если человек, у которого в руке зажата шпага, не владеет собой, он только на то и годен, чтобы заколоться ею или заколоть обидчика; он не имеет права ни на слабость, ни на страх.
К Шарни вернулись присущие ему здравый смысл и телесная сила. Он прервал бесцельные блуждания, перестал натыкаться на деревья и молча пошел прямо по аллее, на которой еще виднелись следы обеих женщин и незнакомца.
Он приблизился к тому месту, где сидела королева. Примятый мох подтвердил Шарни его несчастье и счастье другого! Но Оливье не стал стенать и предаваться приступам гнев, а задумался о природе этой тайной любви и о том, кто таков человек, сумевший ее внушить.
Он изучил с холодным вниманием следы этого вельможи, как изучил бы следы дикого зверя. Он узнал калитку за купальней Аполлона. Выглянув из-за края стены, он увидал следы лошадиных копыт и примятую траву.
«Он приехал с этой стороны! Не из Версаля, а из Парижа, – подумал Оливье. – Он приехал один и завтра приедет опять, потому что ему назначили новую встречу. И до завтра мне придется безмолвно глотать не слезы, нет, но кровь, струящуюся из самого сердца. А завтрашнего дня мне не пережить – или я подлец и никогда не любил».
– Ну, ну, полно, – проговорил он, тихонько похлопав себя по груди: так наездник похлопывает шею скакуна. – Спокойствие и сила: испытание еще не кончилось.
С этими словами он бросил вокруг последний взгляд и отвел глаза от дворца, опасаясь увидеть там освещенное окно коварной королевы: свет в ее окне был бы еще одной постыдной ложью.
Освещенное окно означает, что в комнате кто-то есть. Но зачем лгать, когда обладаешь правом на бесстыдство и бесчестье, когда тебе осталось совсем немного, чтобы от тайного позора дойти до публичного скандала?
Окно королевы было освещено.
– Она хочет, чтобы все думали, будто она у себя в опочивальне, пока она встречается с любовником в парке! Право, у нее не осталось ни чести, ни совести, – с горькой иронией заметил Шарни. – Воистину, наша королева оказывает нам честь своим притворством! Впрочем, может быть, она боится рассердить супруга.
И Шарни, до боли стиснув кулаки, размеренной поступью направился к своему дому.
– Они сказали «до завтра»! – добавил молодой человек, взбираясь на балкон. – Да, все мы встретимся завтра, потому что завтра на свидании нас окажется четверо, ваше величество!
На другой день повторилось то же самое. Ровно в полночь калитка отворилась. Появились две женщины.
Так в арабских сказках, в назначенный час, повинуясь волшебному кольцу, являются духи.
Шарни был преисполнен решимости; этим вечером он желал узнать счастливца, который взыскан вниманием королевы. Верный своим привычкам, хоть и не слишком давно усвоенным, он шел, прячась за деревьями; но, дойдя до места, где вот уже два вечера встречались влюбленные, он никого там не увидел.
Спутница ее величества вела королеву к купальне Аполлона.
Эта новая мука сразила Шарни, объятого невыносимой тоской. Простодушный и честный, он не думал, что преступление зайдет так далеко.
Улыбаясь и перешептываясь с подругой, королева приблизилась к темному убежищу; на пороге, раскрыв объятия, поджидал высокородный незнакомец.
Она вошла и простерла руки ему навстречу. Железная решетка замкнулась за ними.
Сообщница осталась снаружи; она оперлась о полуразрушенную колонну, сплошь увитую листвой.
Шарни плохо рассчитал свои силы. Подобного потрясения он не мог вынести. Но в миг, когда он готов был броситься на сообщницу королевы, сорвать с нее маску, увидеть ее лицо, осыпать ее проклятиями, а может быть, и задушить, – кровь застучала у него в висках и он задохнулся от ярости.
Он упал на траву, и из груди его вырвался хриплый вздох, на мгновение настороживший сводницу, которая караулила у входа в купальню Аполлона.
У него открылась рана, началось внутреннее кровоизлияние; его душила дурнота.
Холодная роса, мокрая земля и острое ощущение горя вернули Шарни к жизни.
Пошатываясь, он встал на ноги, огляделся, вспомнил все и принялся за поиски.
Наперсница исчезла, из купальни не доносилось ни звука. Часы в Версале пробили два раза: обморок Шарни был долгим.
Ужасное видение, несомненно, уже исчезло: королева, любовник и прислужница их успели скрыться. Шарни легко убедился в этом, выглянув из-за стены и увидев недавние следы кавалера, который удалился из парка.
Эти следы да несколько обломанных веток у ограды, окружавшей купальню Аполлона, – вот и все улики, которыми располагал бедняга Шарни.
Всю ночь он метался в бреду. Утро не принесло ему успокоения.
Бледный как смерть, постаревший на десять лет, он кликнул лакея и велел подать костюм из черного бархата – так одевались зажиточные люди, принадлежавшие к третьему сословию.
Мрачный, безгласный, он затаил свою боль поглубже в сердце и пошел к Трианону; было около десяти часов утра – время смены караула.
Королева выходила из часовни после мессы.
На ее пути почтительно склонялись головы и шпаги.
Шарни заметил, что несколько дам покраснели от досады, видя, как хороша собой королева.
И в самом деле, она была хороша. Прекрасные волосы, зачесанные вверх на висках, тонкие черты лица, улыбающиеся губы, усталые, но сияющие лаской и кротостью глаза…
Внезапно в самом конце шеренги придворных она заметила Шарни. Мария Антуанетта покрылась румянцем и тихонько вскрикнула от неожиданности.
Шарни не склонил головы. Он продолжал глядеть на королеву, и в его взгляде она прочла новое горе. Мария Антуанетта подошла к нему.
– Я думала, что вы у себя в имении, господин де Шарни, – строго сказала она.
– Я приехал оттуда, – отвечал он кратко и почти нелюбезно.
Королева, от которой никогда не ускользали малейшие оттенки, изумленно посмотрела на него.
Обменявшись с Шарни почти враждебными словами и взглядами, она обратилась к дамам.
– Добрый день, графиня, – ласково сказала она г-же де Ламотт, улыбнувшись ей, как близкой подруге.
Шарни содрогнулся. Он весь обратился в зрение.
Жанна отвернулась, смущенная королевской милостью.
Шарни следил за ней с настойчивостью безумца, пока она снова не повернулась к нему лицом.
Потом он обошел вокруг нее, изучая ее походку.
Приветливо кивая направо и налево, королева краем глаза следила за маневрами обоих наблюдателей.
«Он совсем потерял голову, – думала она. – Бедный юноша!»
И она снова подошла к нему.
– Как вы поживаете, господин де Шарни? – ласковым голосом спросила она.
– Превосходно, ваше величество, но, слава Богу, не так хорошо, как вы.
И он поклонился королеве, которую его поклон испугал еще более, чем удивил.
«За этим что-то кроется», – решила Жанна, не спускавшая с них глаз.
– Где вы остановились? – продолжала расспрашивать королева.
– В Версале, сударыня, – отвечал Оливье.
– Давно ли?
– Три последние ночи, – многозначительно произнес молодой человек.
На королеву это не произвело никакого впечатления; Жанна задрожала.
– Не хотите ли вы что-нибудь мне сказать? – с ангельской кротостью спросила королева у Шарни.
– Ах, государыня, – отозвался он, – мне слишком многое надо сказать вашему величеству.
– Пойдемте, – коротко бросила она.
«Нужно за ними проследить!» – подумала Жанна.
Королева стремительным шагом направилась к себе в покои. Все потянулись за ней с не меньшим проворством. Жанна сочла удобным предзнаменованием, что Мария Антуанетта пригласила нескольких придворных следовать за ней, не желая, вероятно, дать повод для предположений, будто хочет остаться наедине со своим собеседником.
В эту кучку придворных замешалась Жанна.
Королева вошла к себе и отослала г-жу де Мизери и всех своих прислужниц.
Погода была мягкая и пасмурная, солнце не пробивалось сквозь тучи, но тепло и свет словно сочились сквозь пушистую бело-серую пелену, затянувшую небо.
Королева отворила окно, выходившее на небольшую террасу, и села за секретер, заваленный письмами. Она ждала.
Вскоре все, кто вошел вместе с ней, поняли, что ей угодно остаться одной, и удалились.
Шарни, снедаемый нетерпением и гневом, теребил в руках шляпу.
– Говорите же! Говорите! – обратилась к нему королева. – Вы, судя по всему, очень волнуетесь, сударь.
– Как мне начать? – произнес Шарни; он словно размышлял вслух. – Разве я осмелюсь бросить обвинение чести, обвинение вере, обвинение величеству?
– Что вы сказали? – воскликнула Мария Антуанетта поспешно обернувшись и сверкнув глазами.
– И все-таки я не скажу о том, чему был свидетелем, – продолжал Шарни.
Королева поднялась.
– Сударь, – холодно сказала она, – час слишком ранний, чтобы я приняла вас за пьяного, но поведение ваше не подобает дворянину, если он трезв.
Она ждала, что ее презрительное замечание уничтожит его, но он не шелохнулся.
– В самом деле, – продолжал он, – кто такая королева? Женщина. А я кто такой? Не только подданный, но и мужчина.
– Сударь!
– Ваше величество, дайте мне сказать, и не будем поддаваться гневу, который доведет нас обоих до безумия. Полагаю, что доказал вам, как я чту королевское величество; боюсь, что доказал, как безумно люблю самое королеву. Итак, выбирайте: которой из двух, женщине или королеве, должен ее обожатель бросить обвинение в бесчинстве и позоре?
– Господин де Шарни, – вскричала королева, побледнев, и приблизилась к молодому человеку, – если вы не выйдете отсюда, я велю страже прогнать вас.
– Перед тем как меня прогонят, я все-таки скажу вам, почему вы недостойная королева и бесчестная женщина! – пьянея от ярости, воскликнул Шарни. – Вот уже три ночи я вижу вас в парке!
Шарни надеялся, что она задрожит от столь сокрушительного удара; но королева подняла голову и подошла ближе.
– Господин де Шарни, – сказала она, беря его за руку, – ваше состояние достойно жалости; берегитесь: глаза у вас сверкают, руки дрожат, лицо бледное, словно вся кровь прихлынула к сердцу. Вам дурно? Хотите, я кликну людей?
– Я вас видел! Видел! – холодно повторил он. – Видел вместе с тем человеком, которому вы дали розу; видел, как он целовал вам руки; видел, как вы входили с ним в купальню Аполлона.
Королева поднесла руку ко лбу, словно желая убедиться, что это не сон.
– Ладно, – сказала она, – присядьте, иначе вы упадете, если я вас не поддержу. Садитесь, говорю вам.
Шарни и впрямь упал в кресло, королева опустилась на табурет рядом с ним; потом, протянув к нему обе руки и окинув его взглядом, проникающим в душу, она сказала:
– Успокойтесь, смирите сердце и мысли и повторите то, что вы сейчас сказали.
– Ах, вы хотите меня убить! – прошептал несчастный.
– Позвольте мне расспросить вас. Когда вы вернулись из вашего имения?
– Две недели назад.
– Где вы живете?
– В домике егермейстера, я снял его на это время.
– А, в доме самоубийцы, что на краю парка?
Шарни кивнул.
– Вы говорили, будто видели меня с каким-то человеком?
– Прежде всего, я видел именно вас.
– Где же?
– В парке.
– В котором часу? В какой день?
– В первый раз – в полночь, во вторник.
– Вы меня видели?
– Как теперь; видел я и вашу спутницу.
– Так у меня была спутница? Вы могли бы ее узнать?
– По-моему, я ее только что здесь видел; впрочем, не смею утверждать наверняка. Фигура и осанка похожи, а лицо… Те, кто идет на недоброе дело, прячут лица.
– Хорошо, – спокойно заметила королева, – мою спутницу вы не узнали, а меня…
– О, вас-то я видел, ваше величество… Да вот… Как теперь…
Она в нетерпении топнула ногой.
– А мой спутник, – продолжала она, – тот, кому я дала розу?.. Вы ведь, кажется, видели, как я давала ему розу?
– Да, но мне ни разу не удалось увидеть этого кавалера вблизи.
– Но вы его знаете?
– Его называли монсеньором, больше мне ничего не известно.
Королева с еле сдерживаемым гневом стукнула себя по лбу.
– Продолжайте, – велела она. – Во вторник я дала ему розу… А в среду?
– В среду вы протянули ему обе руки для поцелуя.
– Вот как! – пробормотала она, до боли заламывая пальцы. – И наконец, вчера, в четверг?
– Вчера вы провели с этим человеком полтора часа в гроте Аполлона; спутница ждала вас снаружи.
Королева порывисто поднялась.
– И вы меня видели? – спросила она, отчеканивая каждое слово.
Шарни поднял руку к небу, словно для клятвы.
– Как! Он клянется! – простонала королева, которую тоже захлестнул гнев.
Шарни торжественно повторил свой обвиняющий жест.
– Меня? Меня? – промолвила королева, ударяя себя в грудь.
– Вы видели меня?
– Да, вас: во вторник вы были в зеленом платье с черными муаровыми лентами; в среду в платье с крупными синими и бурыми разводами. А вчера на вас было узкое шелковое платье цвета палой листвы: вы были в нем, когда я впервые поцеловал вашу руку. Это были вы, вы! Я умираю от стыда и горя, говоря вам: клянусь жизнью, клянусь честью, Богом клянусь, это были вы, государыня, это были вы!
Королева лихорадочно заметалась по террасе, не заботясь о том, что ее странное волнение не укроется от зрителей, которые, стоя внизу, пожирали ее глазами.
– А если я тоже поклянусь… – сказала она, – если я поклянусь моим сыном, поклянусь господом Богом – я верю в Бога так же, как вы! Нет, этот человек не слушает меня! И не станет слушать!
Шарни опустил голову.
– Безумец, – продолжала королева, с силой встряхивая его руку; с террасы она увлекла его в комнату. – Хороша же ваша любовная страсть, если в угоду ей вы обвиняете чистую и невинную женщину! Хороша честь, которая велит вам обесчестить королеву… Ты поверишь, если я тебе скажу, что ты видел не меня? Поверишь, если я господом нашим Христом поклянусь, что последние три дня не выходила из дома после четырех часов дня? Хочешь, призову в свидетели своих прислужниц, короля, и они подтвердят, что видели меня здесь и нигде в другом месте я быть не могла? Нет, нет, он не верит! Он мне не верит!
– Я видел! – холодно возразил Шарни.
– А, знаю, знаю! – воскликнула королева. – Эту ужасную клевету уже швыряли мне в лицо! Да ведь меня уже однажды видели на балу в Опере, где я привела в негодование весь двор! Видели и у Месмера, где я якобы была в трансе и ужасала зевак да уличных женщин! Вы сами прекрасно это знаете, вы же дрались за меня на поединке!
– Государыня, тогда я дрался потому, что не верил в это. Теперь я стал бы драться, потому что верю.
Королева в отчаянии воздела руки к небу; из глаз у нее брызнули слезы.
– Господи! – простонала она. – Пошли мне спасительную мысль. Я не хочу, чтобы этот человек презирал меня, Господи!
Шарни был до глубины души тронут этой простой и пылкой молитвой. Он закрыл лицо руками.
Королева на мгновение примолкла; после недолгого раздумья она сказала:
– Сударь, вы обязаны загладить нанесенную мне обиду. Вот чего я от вас требую. Три ночи подряд вы видели меня в парке вдвоем с мужчиной. Между тем вам известно, что кто-то уже злоупотреблял сходством со мной, что какая-то женщина, не знаю, кто она, имеет много общего в лице и во всем облике со мной, несчастной королевой; но раз уж вы предпочитаете думать, что я сама бегаю по ночам на свидания, и утверждаете, что это была я, – приходите в парк в тот же час; приходите, и я приду вместе с вами. Если вчера вы видели меня, сегодня вы меня там не увидите, потому что я буду рядом с вами. А если это другая, почему бы нам не посмотреть на нее вместе? И если мы ее увидим… Ах, сударь, тогда вы пожалеете о страданиях, которые мне причинили.
Шарни прижал обе руки к сердцу.
– Вы слишком добры ко мне, ваше величество, – пробормотал он, – я заслуживаю смерти; но не убивайте меня вашим великодушием.
– Довольно и того, что я представлю вам неопровержимые доказательства, – отвечала она. – Не говорите никому ни слова. Сегодня в десять вечера ждите на пороге егермейстерского дома. Идите, сударь, и держите все в тайне.
Шарни преклонил колена и, не проронив ни слова, вышел.
Пока он пересекал вторую гостиную, Жанна пожирала его глазами, готовая по первому зову поспешить к ее величеству вместе с другими придворными.
От Жанны не укрылось ни смятение Шарни, ни внимание к нему королевы, ни та настойчивость, с какой оба они стремились к объяснению.
Всего этого было более чем достаточно такой проницательной женщине, как Жанна, чтобы о многом догадаться; не станем растолковывать читателю того, что они и так уже поняли. Та комедия, что была разыграна за три последние ночи, не требует пояснения после подстроенной Калиостро встречи графини де Ламотт с Оливой.
Войдя к королеве, Жанна принялась слушать и наблюдать; ей хотелось высмотреть на лице Марии Антуанетты улики, которые подтвердили бы ее догадки.
Но королева уже привыкла за последнее время всех опасаться. Она была непроницаема. Жанне пришлось ограничиваться догадками.
Она уже приказала одному из лакеев проследить за г-ном де Шарни. Вернувшись, лакей доложил, что граф вошел в окруженный буками дом на краю парка.
«Сомнения нет, – подумала Жанна. – Этот человек влюблен в королеву, и он все видел.»
Она услышала, как королева сказала г-же де Мизери:
– У меня ужасная слабость, дорогая моя. Сегодня я лягу спать в восемь.
Та что-то возразила, но королева добавила:
– Я никого не приму.
«Дело яснее ясного, – сказала себе Жанна. – Не нужно быть большим хитрецом, чтобы догадаться».
Все еще под впечатлением от сцены, разыгравшейся между нею и Шарни, королева вскоре отпустила всю свиту. Жанна поздравила себя с этим; с тех самых пор, как она состояла при дворе, она еще не была так собою довольна.
– Карты спутаны, – сказала она. – В Париж! Пора расстроить то, что я устроила.
И она, не теряя времени, отбыла из Версаля.
Ее отвезли домой, на улицу Сен-Клод; там она обнаружила великолепный подарок – серебряный сервиз, который еще утром прислал кардинал.
Равнодушно взглянув на подарок – между прочим, весьма ценный, – она через шторы взглянула на окна Оливы, но они еще были затворены. Олива спала, вероятно очень утомленная: днем была сильная жара.
Жанна велела отвезти себя к кардиналу; тот сиял и раздувался от счастья и гордыни. Сидя за своим роскошным бюро, шедевром Буля, он неутомимо писал, и рвал, и вновь писал письмо, которое начиналось всякий раз одинаково, но никогда не кончалось.
Едва лакей доложил, его высокопреосвященство воскликнул:
– Милейшая графиня!
И ринулся ей навстречу.
Жанна не уклонилась от поцелуев, которыми прелат осыпал ее руки. Она села поудобнее, чтобы легче было выдержать предстоявший ей разговор.
Сначала прелат рассыпался в благодарностях, и его уверения были столь же искренни, сколь красноречивы.
Жанна его остановила.
– Да будет вам известно, – сказала она, – что вы, монсеньор – образец деликатности, и я благодарю вас.
– За что?
– Не за очаровательный подарок, который вы прислали мне нынче утром, а за осмотрительность, которая подсказала вам не отправлять его мне в Версаль. Право, вы весьма деликатны. Вашему сердцу чуждо фатовство, вы великодушны.
– Если уж говорить о чьей-либо деликатности, то лишь о вашей, графиня, – возразил кардинал.
– Вы не просто счастливый человек, – воскликнула Жанна, – вы ликующий небожитель!
– Не спорю, и меня самого пугает мое счастье; оно меня смущает; жизнь прочих людей представляется мне невыносимой. Мне вспоминается языческая легенда о Юпитере, который устал от своего сияния.
Жанна улыбнулась.
– Вы приехали из Версаля? – нетерпеливо спросил он.
– Да.
– Вы… ее видели?
– Я прямо от нее.
– Она ничего… ничего не говорила?
– А что, по-вашему, она могла сказать?
– Простите меня: это не простое любопытство, я едва владею собой!
– Не спрашивайте меня ни о чем.
– Ах, графиня!
– А я говорю вам – нет.
– Какой у вас странный тон! Можно подумать, вы привезли мне дурную весть.
– Монсеньор, не вынуждайте меня говорить.
– Графиня! Графиня!
И кардинал побледнел.
– Чрезмерное счастье, – произнес он, – похоже на высшую точку колеса фортуны: едва кончается взлет, на смену ему тут же начинается спуск. Но если стряслось несчастье, не щадите меня. И все-таки… ничего дурного не случилось?
– По моему разумению, напротив, случилось огромное счастье.
– Что же, что вы имеете в виду? В чем заключается это счастье?
– В том, что нас не обнаружили, – сухо пояснила Жанна.
– А! – И он заулыбался. – Но ведь наши сердца и ваш ум не пренебрегли ни единой предосторожностью и все предусмотрели…
– Никакие сердца и никакой ум, монсеньор, не помешают глазам соглядатая видеть сквозь листву.
– Нас видели! – испуганно вскричал г-н де Роган.
– У меня есть все основания так думать.
– Но если видели, значит, нас узнали?
– Ну нет, монсеньор, вы сами в это не верите: если бы нас узнали, если бы наша тайна оказалась в чужих руках, то Жанна де Валуа уже была бы на краю света, а вам оставалось бы только умереть.
– Это правда. Слушая ваши недомолвки, графиня, я словно поджариваюсь на медленном огне. Ладно, пускай нас видели. Видели людей, прогуливающихся по парку. Разве это запрещено?
– Спросите у короля.
– Король знает?
– Помилуйте, если бы король знал, вы были бы в Бастилии, а я в приюте. Но береженого Бог бережет, и я приехала к вам, чтобы сказать: не искушайте судьбу.
– Как прикажете понимать? – возопил кардинал. – Что означают ваши слова, дорогая графиня?
– Они вам непонятны?
– Мне страшно.
– Мне и самой будет страшно, если вы меня не успокоите.
– Что для этого нужно?
– Не ездите больше в Версаль.
Кардинал подскочил на месте.
– Днем? – с улыбкой спросил он.
– Сперва днем, а потом ночью.
Г-н де Роган задрожал и выпустил руку графини.
– Это невозможно, – изрек он.
– Теперь мой черед просить у вас прямого ответа, – возразила она. – Вы, кажется, сказали «невозможно». Позвольте спросить, почему сие невозможно?
– Потому что в сердце у меня живет такая любовь, которая умрет лишь со мною вместе.
– Оно и видно, – язвительно перебила она. – И вам, по-видимому, не терпится поскорее достичь этого результата, потому вы так настойчиво рветесь снова в парк. Что ж, если вы опять туда явитесь, ваша любовь оборвется – также, как ваша жизнь, причем мгновенно.
– Какие ужасы вы мне рассказываете, графиня! А вчера вы держались отважно!
– Моя храбрость сродни храбрости зверей: я ничего не боюсь, покуда нет опасности.
– А моя храбрость досталась мне в наследство от предков: я счастлив лишь вблизи опасности.
– Превосходно; позвольте все же вам заметить…
– Ни слова, графиня, ни слова! – перебил влюбленный кардинал де Роган. – Жертва принесена, жребий брошен. Любовь превыше всего, а там пусть хоть смерть! Я поеду в Версаль.
– Один? – осведомилась графиня.
– Вы меня покидаете? – с упреком воскликнул прелат.
Сперва я.
– А она придет!
– Вы заблуждаетесь: она не придет.
– Вы извещаете меня об этом от ее имени? – задрожав, спросил кардинал.
– Вот уж полчаса я пытаюсь смягчить для вас этот удар.
– Она не желает меня видеть?
– Отныне и навсегда; я сама ей это посоветовала.
– Сударыня, – с укором произнес прелат, – вы жестоки: вы знаете, как чувствительно сердце, в которое вы погружаете кинжал.
– Куда более жестоко с моей стороны было бы позволить двум безумцам погибнуть, лишив их доброго совета. Я подала совет, а следовать ему или нет – дело ваше.
– Графиня, графиня, лучше умереть!
– Вам виднее; это дело нехитрое.
– Умирать так умирать, – угрюмо проговорил кардинал. – Мне милее всего полная погибель. Я благословляю ад, если там я встречусь с моей сообщницей!
– Святой отец, вы кощунствуете, – заметила графиня. – Подданный, вы развенчиваете королеву! Мужчина, вы губите женщину!
Кардинал схватил графиню за руку и вскричал, как в бреду:
– Признайтесь: она не говорила этого! Она не оттолкнет меня!
– Я говорю с вами от ее имени.
– Она просит прервать свидания на время!
– Толкуйте как вам угодно, но примите во внимание ее приказ.
– Встречаться можно не только в парке. Есть множество более надежных мест. В конце концов, приезжала же королева к вам.
– Монсеньор, ни слова больше: ваша тайна лежит у меня на сердце смертельной тяжестью. Я не в силах более нести это бремя. Если нас не погубят ни ваша нескромность, ни случай, ни злоба врагов, то остаются ведь угрызения совести. Я знаю, что в минуту раскаяния она способна во всем признаться королю.
– Боже милостивый! Возможно ли? – вскричал г-н де Роган. – Неужели она на это решится?
– Если бы вы видели ее сейчас, она бы внушила вам жалость.
Кардинал порывисто вскочил на ноги.
– Что делать? – произнес он.
– Молчать: это ее утешит.
– Она решит, что я забыл ее.
Жанна пожала плечами.
– Она сочтет, что я веду себя низко.
– Ничуть. Какая же низость в том, чтобы ее спасти?
– Может ли женщина простить того, кто сам лишил себя счастья видеться с нею?
– Судите о ней не так, как обо мне.
– Я знаю ее силу и величие. Я люблю ее за отвагу и благородное сердце. Что ж, она может рассчитывать на меня так же, как я рассчитываю на нее. Я должен увидеться с ней в последний раз; я должен излить ей все, что у меня на сердце, потом я свято исполню все, что она решит после того, как меня выслушает.
Жанна поднялась.
– Как вам будет угодно, – сказала она. – Ступайте! Но вы поедете один! Сегодня я бросила в Сену ключ от парка. Отправляйтесь в Версаль, коль скоро вам этого хочется, а я отправлюсь в Швейцарию или Голландию. Чем дальше от бомбы, тем меньше опасность, что меня заденет взрывом.
– Графиня! Вы меня бросите, вы меня покинете? О Господи! С кем же мне говорить о ней?
Тут Жанна припомнила подходящие к случаю места из Мольера, и никогда еще такой обезумевший Валер не подавал столь хитрой Дорине более удобных реплик[135].
– Разве у вас нет парка? Разве в нем нет эха? – отвечала Жанна. – Твердите им имя своей Амариллиады[136].
– Сжальтесь, графиня, я в отчаянии, – отозвался прелат с неподдельной искренностью в голосе.
– Ну что ж, – отвечала Жанна резким и безжалостным тоном, как хирург, решившийся на ампутацию. – Если вы в отчаянии, господин де Роган, выбросьте из головы ребяческие бредни: они опаснее пороха, опаснее чумы, опаснее смерти! Раз эта женщина так дорога вам, пощадите ее, вместо того чтобы губить, и если у вас осталось хоть немного доброты и благодарности, не увлекайте за собой в пропасть тех, кто по дружбе помогал вам. Что до меня, то я с огнем не играю. Клянетесь ли вы две недели, начиная с нынешнего дня, не предпринимать ни единого шага, чтобы увидеть королеву? Просто увидеть, понимаете, не говоря уж о том, чтобы беседовать с нею? Клянетесь? Тогда я остаюсь и смогу вам еще помочь. Или вы решили идти напролом, пренебрегая ее и моей безопасностью? Если я об этом узнаю, то через десять минут меня здесь не будет. А вы уж выпутывайтесь, как сумеете.
– Ужасно! – прошептал г-н де Роган. – Какое сокрушительное падение! Утратить такое блаженство! О, я не переживу этого!
– Будет вам, – промурлыкала Жанна, – в вашей любви больше всего самолюбия.
– Нет, теперь осталась одна любовь, – возразил кардинал.
– Значит, придется вам пострадать, – откликнулась Жанна, – ничего не поделаешь. Ну, монсеньор, решайтесь: оставаться мне? Или катить в Лозанну?
– Оставайтесь, графиня, но сыщите мне болеутоляющее средство: рана слишком мучительна.
– Вы клянетесь, что будете мне повиноваться?
– Слово Рогана!
– Прекрасно. Успокоительное снадобье для вас готово. Я запрещаю вам встречи, но не запрещаю писем.
– В самом деле? – вскричал безумец, оживая от новой надежды. – Мне можно будет ей написать?
– Попробуйте.
– И… она мне ответит?
– Я попробую.
Кардинал осыпал жадными поцелуями руки Жанны и назвал ее своим ангелом-хранителем.
Надо думать, что демон, обитавший в ее душе, изрядно веселился в эту минуту.
В тот же день, в четыре часа пополудни, на краю парка, позади купальни Аполлона, остановился всадник.
Этот наездник ехал шажком, прогуливаясь ради собственного удовольствия: задумчивый и прекрасный, как Ипполит[137], он отпустил поводья своего скакуна.
Как мы уже сказали, он остановился в том месте, где три ночи кряду оставлял своего коня г-н де Роган. Земля там была изрыта копытами, а вокруг дуба, к стволу которого привязывали уздечку, все кусты были общипаны.
Наездник соскочил на землю.
– Не поздоровилось этой лужайке, – заметил он.
Затем он приблизился к стене.
– Вот следы штурма: калитку недавно отпирали. Так я и думал. Тот, кто воевал с индейцами в саваннах, как-нибудь разберется в следах людей и лошадей. Итак, господин де Шарни вернулся две недели тому назад; эти две недели господина де Шарни никто не видел. А вот и калитка, которую господин де Шарни избрал, чтобы проникнуть в Версаль.
Эти слова сопровождались горестным вздохом, словно у говорившего душа разрывалась на части.
– Уступим счастье тому, кто явился нам на смену, – прошептал наездник, рассматривая красноречивые следы на траве и стене. – Одним Бог дает, а у других отнимает. Не зря он вознаграждает одних и карает других, да святится воля его. И все-таки нужны доказательства. Но откуда и какой ценой их добыть? Да это же легче легкого! В ночной темноте никто не обнаружит человека, прячущегося в кустах, и он из своего укрытия увидит тех, кто сюда явится. Нынче вечером я притаюсь здесь в кустах.
Подобрав поводья скакуна, наездник не спеша сел в седло и тем же неторопливым шагом удалился, завернув за угол ограды.
Что до Шарни, то, исполняя приказ королевы, он весь день сидел, затворившись у себя, и ожидал от нее весточки.
Наступила ночь, но он так ничего и не дождался. Шарни сидел у окна павильона, но не у того, которое выходило в парк, а у другого окна той же комнаты, обращенного на узкую улочку. Королева сказала: «У дверей егермейстерского дома», но в этом павильоне двери служили одновременно и окнами первого этажа. Во всяком случае, они были остеклены.
Он вглядывался в беспросветную темноту в надежде с минуты на минуту услышать топот коня или торопливые шаги гонца.
Пробило половину одиннадцатого. Никого. Королева подшутила над ним. Она просто поддалась первому порыву, вызванному изумлением. Устыдясь, она пообещала то, что не в силах оказалось исполнить; а может быть, как это ни чудовищно, она, обещая, знала, что не сдержит слова.
Шарни, который, подобно всем влюбленным, легко склонялся к подозрениям, уже упрекал себя за излишнюю доверчивость.
– Как я мог после того, как сам все видел, поверить басне и вопреки очевидности, вопреки своей уверенности поддаться глупой надежде!
Снова и снова он яростно осыпал себя жестокими упреками; вдруг его внимание привлек шорох, произведенный пригоршней песка, которую бросили в другое окно, выходившее в парк; Шарни ринулся туда.
Он увидел, что внизу, под буком, стоит женщина в широкой черной накидке, обратив к нему бледное, встревоженное лицо.
У него вырвался крик радости и вместе с тем сожаления.
Женщина, которая ждала его, звала его, была Мария Антуанетта!
Одним прыжком он очутился рядом с королевой.
– А, вы здесь, сударь? Это очень кстати! – волнуясь, тихо проговорила королева. – Почему же вы мешкали?
– Вы, вы, ваше величество? Это вы? Возможно ли? – пробормотал Шарни, падая ниц.
– Так-то вы меня ждали?
– Я ждал у того окна, которое выходит на улицу, государыня.
– Помилуйте, с какой стати мне идти по улице, когда гораздо проще пересечь парк?
– Я не смел и надеяться, что увижу вас, ваше величество, – с пылкой благодарностью в голосе признался Шарни.
Она прервала его.
– Уйдем отсюда, здесь светло, – сказала она. – Вы при шпаге?
– Да.
– Хорошо. Откуда, вы говорите, вошли те люди, которых вы видели?
– Через эту калитку.
– В котором часу?
– Всякий раз они являлись в полночь.
– Ничто не помешает им прийти и сегодня. Вы никому ничего не рассказывали?
– Ни одной живой душе.
– В таком случае спрячемся в роще и подождем.
– О, ваше величество…
Королева первая проворным шагом углубилась в парк.
– Вы сами понимаете, – внезапно сказала она, словно опережая мысли Шарни, – что я не доставила себе удовольствия рассказать об этом деле начальнику полиции. Господин де Крон должен был помочь мне, когда я пожаловалась в первый раз. Если особа, позволяющая себе быть на меня похожей и присваивающая мое имя, до сих пор не задержана, если на тайну до сих пор не пролит свет, остается предположить одно из двух: либо г-н де Крон ни на что не годится – а это не так, – либо он преступно попустительствует моим врагам. С трудом могу поверить, чтобы у меня дома, в моем парке разыгрывалась недостойная комедия, о которой вы мне сообщили, если ее участники не заручились заранее прямым покровительством или молчаливым одобрением. Поэтому виновники представляются мне настолько опасными, что я желаю сама вывести их на чистую воду. Что вы об этом думаете?
– Я прошу дозволения вашего величества уклониться от ответа. Я в отчаянии: у меня не осталось подозрений, но я все еще немного опасаюсь.
– Как бы то ни было, вы честный человек, – горячо проговорила королева. – Вы умеете говорить напрямик то, что думаете; это ваше достоинство подчас может причинить боль невинному, если вы заблуждаетесь на его счет, но от такой боли можно исцелиться.
– Сударыня, одиннадцать часов; я трепещу.
– Удостоверьтесь, что здесь никого нет, – велела королева, которой хотелось ненадолго удалить своего спутника.
Шарни повиновался. Он осмотрел заросли до самой ограды.
– Никого, – объявил он, вернувшись.
– Где происходила сцена, о которой вы рассказывали?
– Ваше величество, мгновение назад, возвращаясь после осмотра зарослей, я испытал мучительное потрясение. Я обнаружил, что вы стоите на том самом месте, где в предыдущие ночи я видел… мнимую королеву.
– Здесь! – вскричала королева, с отвращением отпрянув в сторону.
– Да, сударыня, под этим каштаном.
– Тогда давайте уйдем отсюда: если эти люди придут, то пожалуют сюда.
Следом за королевой Шарни направился в другую аллею.
Сердце у него билось так громко, что он боялся не услышать скрипа отворяющейся калитки.
Гордая и безмолвная королева ждала, когда явится живое доказательство ее невинности.
Пробило полночь. Калитка не отворялась.
Минуло полчаса; за это время Мария Антуанетта несколько раз переспросила, точно ли в назначенное время являлись на свидание самозванцы.
Часы на церкви св. Людовика в Версале пробили три четверти первого.
Королева нетерпеливо топнула ногой.
– Вот увидите, сегодня они не придут. Только со мной приключаются такие несчастья!
С этими словами она вызывающе взглянула на Шарни, словно ища в его лице признаю! торжества и насмешки.
Но он, по мере того как в нем просыпались подозрения, все бледнел и становился все строже, все печальнее; на лицо его легла печать безропотного терпения, не то мученического, не то ангельского.
Королева взяла Шарни за руку и подвела к каштану, под которым они стояли вначале.
– Вы говорили, – прошептала она, – что видели их здесь.
– На этом самом месте, ваше величество.
– Здесь женщина дала мужчине розу.
– Да, ваше величество.
Королева так ослабела и утомилась от долгого ожидания в промозглом парке, что прислонилась к стволу дерева и голова ее поникла на грудь.
У нее подкашивались ноги; Шарни не поддержал ее, и она бессильно опустилась на траву.
Шарни хранил угрюмую неподвижность.
Королева обеими руками закрыла лицо, и он не увидел слезы, скользнувшей по ее тонким бледным пальцам.
Вдруг она подняла голову.
– Сударь, – сказала она, – вы правы: я приговорена. Я обещала нынче доказать, что вы на меня клевещете; но Богу это было неугодно, и я сдаюсь.
– Государыня… – прошептал Шарни.
– Ни одна женщина на моем месте, – продолжала она, – не сделала бы того, что сделала я. Не говорю уж о королевах. Ах, сударь, что значит королева, если она не может царить даже в одном сердце! Что значит королева, если она не может добиться уважения от одного-единственного честного человека! Что ж, сударь, помогите мне по крайней мере подняться, и я уйду. Не презирайте меня настолько, чтобы отказаться протянуть мне руку.
Шарни, как безумный, бросился на колени.
– Ваше величество, – пролепетал он, склоняясь до земли, – если бы я, несчастный, не любил вас, вы простили бы меня, не правда ли?
– Вы? – с горьким смехом переспросила королева. – Вы меня любите? Да ведь вы считаете меня бесчестной!
– О!..
– Вы… вы должны бы кое-что помнить, а между тем вы обвиняете меня, что здесь я подарила цветок, там поцелуй… Обвиняете меня, что я подарила свою любовь другому! Не лгите, сударь, вы меня не любите.
– Государыня, здесь, вот здесь был этот призрак, призрак влюбленной королевы. А там, где я теперь стою, был другой призрак, призрак ее любовника. Вырвите у меня сердце из груди: в нем живут и пожирают его эти два адские видения.
Она взяла его за руку и порывисто привлекла к себе.
– Вы видели… Вы слушали… Вы уверены, что это была я, – задыхающимся голосом проговорила она. – Что ж! Не ломайте себе голову, значит, это была я. Так вот: если на этом самом месте, под этим самым каштаном, сидя в той же позе, что тогда, и видя вас у своих ног, как видела другого, я возьму вас за руки, привлеку к груди, заключу в объятия и скажу вам, я, которая обнимала другого – не так ли? – которая говорила те же слова другому – не правда ли? – если я вам скажу: «Господин де Шарни, я любила, люблю и буду любить только одного человека в мире… и этот человек – вы!» Господи!.. Господи!.. Этого будет довольно, чтобы убедить вас, что та, у которой в жилах вместе с кровью императриц струится пламя такой любви, не может быть бесчестна?
Шарни испустил стон, схожий с последним стоном умирающего. Дыхание королевы опьянило его; он впивал каждое ее слово, ее рука жгла его плечо, ее грудь опаляла его сердце, и губы у него запеклись от ее речей.
– Дайте мне возблагодарить Господа! – шепнул он. – Ах, если бы я не думал о Боге, я думал бы о вас одной!
Она медленно поднялась, устремив на него горящие глаза, в которых стояли слезы.
– Я отдам за вас жизнь! – потрясенно сказал он.
Она помолчала, по-прежнему глядя на него.
– Дайте руку, – попросила она, – и проведите меня повсюду, где были они. Сперва вот сюда – здесь была подарена роза…
Она извлекла из-под плаща розу, еще теплую от огня, пылавшего у нее в груди.
– Возьмите! – приказала она.
Он вдохнул благоуханный аромат цветка и спрятал его на груди.
– Здесь, – продолжала королева, – та, другая, протянула ему руку для поцелуя?
– Обе руки! – возразил он, шатаясь на ногах и пьянея, потому что к его лицу прижались пылающие руки Марии Антуанетты.
– С этого места снято заклятие, – с ласковой улыбкой произнесла королева. – А дальше они, помнится, пошли в купальню Аполлона?
Шарни в изумлении застыл перед ней, как громом пораженный.
– Ну, в эту купальню, – весело заметила королева, – я по ночам не хожу. Пойдемте лучше вместе поглядим, через какую калитку убегал возлюбленный королевы.
Подхватив под руку самого счастливого человека на всем божьем свете, она легко и весело, почти бегом, преодолела лужайки, отделявшие рощу от круговой аллеи. Они очутились у калитки, за которой виднелись следы лошадиных копыт.
– Это по ту сторону, – сказал Шарни.
– У меня есть все ключи, – ответила королева. – Отоприте, господин Шарни, и давайте все рассмотрим.
Они вышли и наклонились, разглядывая следы; из-за тучи выглянула луна, словно желая помочь им в поисках.
Бледный луч ласково коснулся прекрасного лица Марии Антуанетты, которая опиралась на руку Шарни и вглядывалась в темноту.
Убедившись, что все спокойно, она ласковым и повелительным движением увлекла своего спутника назад, в парк.
Калитка за ними затворилась.
Пробило два часа.
– Прощайте, – сказала она. – Возвращайтесь к себе. До завтра.
Она пожала ему руку и, не прибавив более ни слова, быстро ушла по буковой аллее в сторону замка.
По ту сторону калитки, которую они заперли, в кустах поднялся на ноги какой-то человек и нырнул в лес, тянувшийся вдоль дороги.
Этот человек уносил с собой тайну королевы.
На другой день королева вышла сияющая и прекрасная; она собиралась к мессе.
Страже было приказано допускать к ней всех. День был воскресный, и, проснувшись, Мария Антуанетта воскликнула:
– Какой прекрасный день! Надо хорошо его прожить.
Казалось, она с большим удовольствием, чем всегда, вдыхает аромат своих любимых цветов; она щедрее обычного жаловала и одаряла; она больше спешила раскрыть свою душу Богу.
Не отвлекаясь, как прежде, она прослушала мессу. Никогда прежде она не склоняла так низко свою гордую голову. Пока она усердно молилась, на пути от ее покоев до часовни, как всегда по воскресеньям, собралась толпа; даже ступени лестницы были заняты придворными дамами и кавалерами.
Среди дам блистала скромно, но изящно одетая г-жа де Ламотт.
А среди двойных шпалер, которыми выстроились мужчины, справа можно было увидеть г-на де Шарни; множество друзей поздравляли его с исцелением, с возвращением, а главное – с его сияющим видом.
Милость источает тончайший аромат; она с такой быстротой распространяется в воздухе, что знатоки чуют, распознают и оценивают ее благоухание задолго до того, как ларчик раскроется. С тех пор как Оливье стал другом королевы, прошло от силы часов шесть, но все вокруг так и напрашивались ему в друзья.
Пока Оливье с добродушием воистину счастливого человека принимал поздравления, все, кто стоял левее его, мало-помалу перебрались направо, спеша засвидетельствовать ему почтение и дружбу, и Оливье, упоенно озирая всех, кто вился вокруг, заметил прямо перед собой одно-единственное лицо, поразившее его бледностью и неподвижностью черт.
Он узнал Филиппа де Таверне: тот был затянут в мундир, а руку держал на эфесе шпаги.
С тех пор как после дуэли Филипп нанес ему несколько визитов вежливости, всякий раз не входя дальше передней, потому как доктор Луи предписал Оливье полное уединение, между соперниками не было никаких отношений.
Видя Филиппа, который смотрел на него спокойно, без дружелюбия, но и без угрозы, Шарни приветствовал его поклоном, на который тот издали ответил.
Затем, отстраняя тех, кто оказался между ними, Оливье произнес:
– Прошу прощения, господа, позвольте мне отдать долг вежливости.
Он пересек пространство, отделявшее правую шеренгу придворных от левой, и подошел прямо к Филиппу, который не шелохнулся.
– Господин де Таверне, – сказал Оливье с еще более учтивым поклоном, – я должен был поблагодарить вас за участие к моему здоровью, но я только вчера вернулся.
Филипп, вспыхнув, посмотрел на него и тут же отвел глаза.
– В ближайшее же время, сударь, – продолжал Шарни, – я буду иметь честь нанести вам визит и надеюсь, что вы не станете таить на меня обиды.
– Нисколько, сударь.
Шарни уже протянул было ему руку, но тут барабан возвестил о появлении королевы.
– Сударь, королева! – тихо произнес Филипп, не отвечая на дружеский жест Шарни.
Свои слова он сопроводил поклоном, скорее меланхоличным, нежели холодным.
Шарни, несколько удивившись, поспешно отошел к своим друзьям, в правую шеренгу.
Филипп остался на прежнем месте, как часовой.
Королева подходила ближе, многим она улыбалась, у многих принимала или велела принять прошения; еще издали она завидела Шарни и, не сводя с него взгляда, с той безудержной отвагой, с какой она следовала своим привязанностям, – враги ее усматривали в этом бесстыдство, – произнесла звучным голосом: – Просите нынче, господа, просите: сегодня я ни в чем не смогу отказать. Волшебное звучание и самый смысл этих слов пронзили Шарни до глубины сердца. Он задрожал от радости: то была его благодарность королеве. Вдруг сладостное, но опасное созерцание, которому она предалась, оказалось нарушено звуком шагов и посторонним голосом.
Кто-то подошел к ней слева, печатая шаг по плитам; чей-то взволнованный, но строгий голос произнес:
– Ваше величество!
Королева увидела Филиппа; она не сумела скрыть легкого замешательства, когда очутилась между двумя молодыми людьми, из-за которых, быть может, корила себя, потому что слишком любила одного из них и недостаточно – другого.
– Вы, господин де Таверне? – опомнившись, вскричала она. – Это вы! Вы хотите что-нибудь у меня попросить? Говорите же!
– Десятиминутную аудиенцию, когда ваше величество будет располагать временем, – с поклоном сказал Филипп, нисколько не смягчая печального и строгого выражения лица.
– Сию же минуту, сударь, – отвечала королева, украдкой бросив взгляд на Шарни, которого ей боязно было видеть так близко от его бывшего противника, – следуйте за мной.
И она ускорила шаги, слыша позади поступь Филиппа; Шарни остался на месте.
На ходу королева продолжала собирать жатву писем, прошений и ходатайств, затем отдала несколько приказаний и направилась к себе.
Спустя четверть часа Филиппа ввели в библиотеку, где по воскресеньям принимала ее величество.
– А, входите, господин де Таверне, – беззаботным тоном сказала она, – входите и взгляните на меня поприветливей. Надо признаться, всякий раз, когда кто-нибудь из семьи Таверне желает со мной говорить, мне делается тревожно. Ваше появление сулит беду. Успокойте меня поскорее, господин де Таверне, и заверьте, что не принесли мне никакой горестной вести.
Филипп, который, слушая эту преамбулу, побледнел еще сильнее, чем во время сцены с участием Шарни, удовольствовался тем, что ответил на эти не слишком-то приязненные слова Марии Антуанетты:
– Имею честь заверить ваше величество, что на сей раз принес добрую весть.
– Ах, значит, все же весть! – промолвила королева.
– Увы, это так, ваше величество.
– О Господи, – подхватила она с напускной веселостью, мучительной для Филиппа, – вот вы уже сказали «увы»! Горе мне, горе, как сказал бы испанец: господин де Таверне произнес «увы»!
– Сударыня, – без улыбки возразил Филипп, – то немногое, что я вам скажу, успокоит ваше величество, и успокоит так надежно, что никогда более ваше благородное чело не омрачится по вине рода Таверне-Мезон-Руж. С нынешнего дня, сударыня, последний отпрыск этого рода, которого вы, ваше величество, изволили отличать вашими милостями, навсегда удаляется от французского двора.
Лицо королевы утратило напускную беззаботность, которою Мария Антуанетта вооружилась против тех впечатлений, коих ожидала от этого разговора.
– Вы уезжаете? – воскликнула она.
– Да, ваше величество.
– Значит, и вы тоже…
Филипп поклонился.
– Сестра моя, к своему прискорбию, была вынуждена покинуть ваше величество, – сказал он. – Что до меня, то я сознаю, что на службе у королевы я лишний, и удаляюсь.
Королева села; на ум ей пришла тревожная мысль: ведь Андреа навеки распростилась с ней на другой день после встречи у Людовика, во время которой г-н де Шарни получил первые знаки благоволения от Марии Антуанетты.
– Странно! – задумчиво прошептала она и умолкла. Филипп застыл перед ней, как мраморное изваяние, ожидая, когда она его отпустит.
Внезапно королева очнулась от забытья.
– Куда вы едете? – спросила она.
– Я буду сопровождать господина де Лаперуза, – отвечал Филипп.
– Господин де Лаперуз сейчас на Ньюфаундленде.
– Я готов к нему отправиться.
– Вам известно, что ему предсказывают ужасную смерть?
– Не знаю, ужасную ли, но уж наверняка скорую.
– И вы едете?
Он улыбнулся.
– Потому-то я и хочу сопровождать господина де Лаперуза.
Королева снова погрузилась в смущенное молчание.
Филипп почтительно выжидал.
В Марии Антуанетте вновь, более чем когда-либо, проснулась ее благородная отвага.
Она встала, приблизилась к молодому человеку и, скрестив на груди белоснежные руки, спросила:
– Почему вы уезжаете?
– Потому что меня влечет к странствиям, – мягко отвечал он.
– Но вы уже проделали кругосветное путешествие, – возразила королева, на мгновение обманутая его героическим спокойствием.
– Я объехал Новый Свет, сударыня, но мне еще не доводилось объехать и Старый и Новый Свет вместе.
С жестом досады королева повторила слова, которые некогда слышала от нее Андреа:
– Железные люди эти Таверне, и сердца у них стальные! И вы, и ваша сестра – чудовища, таких друзей, как вы, впору возненавидеть. Вы уезжаете не ради путешествий – они уже утомили вас, вы просто хотите меня покинуть. Ваша сестра сказала, что ее призывает служение Богу; у нее в сердце под слоем пепла пылает огонь. Она просто пожелала уехать – и уехала. Дай ей Бог счастья! А вы? Вы бы могли быть счастливы – и вот вы тоже уезжаете. Я же говорила вам, что семья Таверне приносит мне несчастье!
– Пощадите, ваше величество: если бы вам угодно было пристальнее вглядеться в наши сердца, вы нашли бы там лишь безграничную преданность.
– Послушайте! – гневно воскликнула королева. – Вы просто квакер[138], а ваша сестра – философ, и оба вы невыносимы. Она воображает, будто мир – это что-то вроде рая, куда открыт вход только святым; а вам кажется, что мир – это ад, где кишит нечистая сила; оба вы бежали от мира, одна потому, что нашла там то, чего не искала, а другой потому, что не нашел того, что искал. Разве я не права? Ах, дорогой господин де Таверне, оставьте людям их несовершенство, не требуйте от королей, чтобы они были наиболее совершенными из всех смертных; будьте терпимы, а вернее, не будьте эгоистом.
В последние слова она вложила чрезмерную запальчивость. Преимущество оказалось на стороне Филиппа.
– Ваше величество, – возразил он, – когда эгоизм способствует обожанию, он обращается в добродетель.
Она покраснела.
– Я только говорю, – сказала она, – что я любила Андреа, а она меня покинула. Я была привязана к вам, и вы меня покидаете. Когда два человека, исполненные таких совершенств, – я не шучу, сударь! – покидают мой дом, это унизительно для меня.
– Ничто не может унизить вашу августейшую особу, ваше величество, – холодно парировал Таверне, – стыд не досягает чела, столь высоко вознесенного, как ваше.
– Я теряюсь в догадках, – продолжала королева, – что могло вас обидеть.
– Ничего меня не обидело, ваше величество, – поспешно подхватил Филипп.
– Ваш чин утвержден; карьера ваша успешно продвигается; я вас отличала…
– Ваше величество, я повторяю: мне не по душе придворная жизнь.
– А если я попрошу вас остаться? Если прикажу вам?
– Я буду вынужден, к прискорбию своему, ответить вашему величеству отказом.
Королева в третий раз замкнулась в молчании: для нее это было то же самое, что для усталого фехтовальщика – отступить перед новым выпадом.
И вновь ее молчание разрядилось вспышкой.
– Быть может, кто-нибудь при дворе вам не нравится? Вы ведь человек нелюдимый… – предположила она, устремив на Филиппа ясный взгляд.
– Нет, ничего подобного нет.
– Мне казалось, что вы враждуете с одним дворянином… с господином де Шарни, которого вы ранили на дуэли, – осторожно начала королева, постепенно воодушевляясь. – Мы обычно избегаем тех, кто нам неприятен, и, когда вы увидели, что господин де Шарни вернулся, вам, вероятно, захотелось покинуть двор.
Филипп промолчал.
Королева, не до конца понимавшая этого храброго и прямодушного человека, решила, что все объясняется обычной ревностью. Поэтому она продолжала без обиняков:
– Вы только сегодня узнали, что господин де Шарни вернулся. Только сегодня! И сразу же просите, чтобы я вас отпустила?
Филипп побледнел как смерть. На него нападали, его топтали ногами – и он не выдержал.
– Ваше величество, – резко сказал он, – вы правы, я только сегодня узнал о возвращении господина де Шарни; но я узнал об этом раньше, чем вы полагаете: в два часа ночи я встретил господина де Шарни у входа в парк близ купальни Аполлона.
Королева в свой черед побледнела; безупречная учтивость, которую Филипп сохранил даже в гневе, привела ее в трепет, смешанный с восхищением.
– Хорошо, – прошептала она лишенным выражения голосом, – ступайте, сударь, я вас не удерживаю.
Филипп в последний раз поклонился и медленно вышел. Королева в изнеможении упала в кресло со словами:
– Франция! Страна благородных сердец!
Между тем кардинал пережил три ночи, разительно несхожие с теми, о каких не переставал грезить и вспоминать.
Никаких вестей, ни малейшей надежды на встречу! Такое мертвое молчание после треволнений любви было подобно темноте погреба после яркого солнечного света.
Сперва кардинал тешил себя надеждой, что его возлюбленная, будучи прежде всего женщиной, а потом уж королевой, желает убедиться в силе его страсти и узнать, не охладеет ли он к ней после испытания. Обольщение, вполне естественное для мужчины, но чреватое новыми мучительными тревогами, которые и пришлось испытать кардиналу де Рогану.
И впрямь, не получая весточек и ничего не слыша, кроме тишины, по выражению г-на Делиля[139], бедняга вообразил, что назначенное королевой испытание обернулось против него. Отсюда и тоска, и ужас, и смятение, какое не в силах представить себе тот, кто не страдал невралгией, превращающей каждый нерв в огненную змею, которая извивается, корчится и вновь расслабляется независимо от вашей воли.
У кардинала не было сил терпеть эти муки; за полдня он раз десять посылал домой к г-же де Ламотт и раз десять в Версаль.
И только десятый гонец привез ему Жанну, которая занималась тем, что следила за Шарни и королевой; графиня мысленно поздравила себя с тем, что кардинал проявляет нетерпение, в скором будущем сулящее успех ее предприятию.
Завидя ее, кардинал взорвался.
– Как вы можете, – воскликнул он, – хранить такое спокойствие? Как вы можете? Я корчусь от муки, а вы, называющая себя моим другом, длите мою пытку, которая вот-вот сведет меня в могилу.
– Полно, монсеньор, – отвечала Жанна, – вооружитесь терпением, прошу вас. Мои дела в Версале, вдали от вас, приносят больше пользы, чем то, что вы здесь вытворяли, требуя моего приезда.
– Вы не столь жестоки, как я думал, – отозвался его высокопреосвященство, смягчаясь при мысли, что сейчас узнает новости. – Ну, что там делается? О чем говорят?
– Разлука – тяжкое испытание, где ни страдаешь от нее, в Париже или в Версале.
– Я счастлив ото слышать, благодарю вас, но…
– Но?..
– Доказательства?
– Ах, Боже мой! – воскликнула Жанна. – Что это за слово? Доказательства! Да в своем ли вы уме, монсеньор, если требуете у женщины доказательств ее ошибок?
– Я прошу не улику для суда, графиня, я прошу залог любви.
– Сдается мне, – изрекла графиня, окинув его высокопреосвященство ироническим взглядом, – что вы делаетесь весьма требовательны и, пожалуй, чересчур забывчивы.
– Да, знаю, что вы мне сейчас скажете; знаю, что я должен быть доволен сверх меры, что я удостоился великой чести. Но поставьте себя на мое место и загляните в свое сердце, графиня. Разве вы примирились бы с тем, что вас отшвырнули в сторону, после того как осыпали притворными милостями?
– Вы, кажется, сказали «притворными»? – насмешливо переспросила Жанна.
– О конечно, вам легко меня победить, графиня; разумеется, у меня нет никакого права жаловаться – и все же я жалуюсь.
– В таком случае, монсеньор, я не могу отвечать за ваше недовольство, если оно беспричинно или его причины легковесны.
– Графиня, вы ко мне жестоки.
– Монсеньор, я развиваю вашу же мысль. Вы сами затеяли этот спор.
– Вместо того чтобы корить меня за мои сумасбродства, выскажите мне то, что думаете; вместо того чтобы мучить меня – помогите.
– Но я полагаю, что делать нечего; я не в силах вам помочь.
– Вы полагаете, что делать нечего? – переспросил кардинал, подчеркивая каждое слово.
– Нечего.
– Ну что ж, сударыня, – вспылил г-н де Роган, – может быть, другие скажут мне не то, что вы.
– Увы, монсеньор, вот вы уже и рассердились, и мы с вами перестали понимать друг друга. Простите, ваше высокопреосвященство, что я обращаю на это ваше внимание.
– Да, я рассердился. Но меня довела до этого ваша черствость, графиня.
– Однако вы не подозреваете меня в измене?
– Нет, нисколько! Если вы более не служите мне, то лишь потому, что это не в ваших силах, мне это понятно.
– Здесь вы правы; так за что же сердиться?
– За то, что вы не хотите открыть мне всю правду, сударыня.
– Правду! Я сказала вам то, что знаю сама.
– Вы не сказали мне, что королева вероломна, что она кокетка, что сперва она добивается от людей поклонения, а потом ввергает их в отчаяние.
Жанна изумленно взглянула на него.
– Объяснитесь! – потребовала она, дрожа не от страха, а от радости.
В самом деле, ревность кардинала показалась ей счастливым выходом из положения; другого такого случая могло не представиться.
– Признайтесь, – продолжал кардинал, в ослеплении страсти утративший всякую рассудительность, – признайтесь, умоляю вас, что королева отказывается меня видеть.
– Я этого не говорю, монсеньор.
– Признайтесь: она хочет устранить меня, пусть не навсегда – я еще надеюсь, что это не так, – но на время, чтобы не беспокоить другого возлюбленного, которому моя настойчивость могла бы открыть глаза.
– Ах, монсеньор! – воскликнула Жанна таким неподражаемым медовым голосом, что одно это могло навести на любые подозрения.
– Послушайте, – продолжал г-н де Роган, – во время последней встречи с ее величеством мне показалось, что в зарослях кто-то ходит.
– Безумие!
И я выскажу вам все свои подозрения.
– Ни слова больше, монсеньор, вы оскорбляете королеву; допустим даже, что она, к своему несчастью, вынуждена опасаться слежки со стороны бывшего своего любовника, во что я не верю, – неужто вы будете настолько несправедливы, что попрекнете ее былым заблуждением, от которого она отказалась ради вас.
– Былым! Былым! Может, оно и былое, но что толку, графиня, если былое продолжается поныне и грозит превратиться в грядущее.
– Фи, монсеньор, вы говорите со мной, как с барышником, на которого падает подозрение в нечестной сделке. Ваши догадки, монсеньор, настолько оскорбительны для королевы, что бросают тень и на меня.
– Тогда, графиня, докажите мне…
– Ах, монсеньор, если вы повторите это слово, я приму оскорбление на свой счет.
– Ради Бога! Питает она ко мне хоть каплю любви?
– Да ведь это так просто узнать, монсеньор, – возразила Жанна, указывая кардиналу на стол с письменными принадлежностями. – Сядьте и спросите это у нее самой.
Кардинал в восторге схватил Жанну за руку.
– Вы передадите ей письмо? – спросил он.
– Кто же за это возьмется, если не я?
– И вы… обещаете, что она ответит?
– Если вы не получите ответа, откуда вам будет знать, что делать дальше?
– О, в добрый час! Вот теперь я вас люблю, графиня.
– Неужто? – отозвалась она с лукавой улыбкой.
Он сел, взял перо и начал писать. У г-на де Рогана было и красноречие, и легкость стиля, и все же он изорвал два листа, прежде чем остался доволен написанным.
– Если так пойдет и дальше, – заметила Жанна, – вы никогда не кончите.
– Видите ли, графиня, я опасаюсь переполняющей меня нежности – как бы она не утомила королеву.
– Ну, – с иронией в голосе возразила Жанна, – если вы напишете со всей дипломатичностью, то и ответ получите уклончивый. Дело ваше.
– Да, правда: вы истинная женщина, вы наделены и умом, и сердцем. Погодите, графиня, к чему нам скрытничать с вами – вы ведь и так знаете нашу тайну?
– В самом деле, – улыбнулась она, – какие уж тут секреты.
– Читайте поверх моего плеча; я буду писать, а вы сразу читайте; поймите, у меня горит сердце и перо вот-вот прожжет бумагу.
Кардинал принялся писать, из-под его пера вышло такое пламенное и сумасбродное послание, изобилующее любовными упреками и опасными признаниями, что Жанна, читавшая слово за словом, сказала себе, когда он кончил и поставил подпись: «Я не отважилась бы продиктовать ему то, что он написал».
Кардинал перечел и спросил Жанну:
– Так будет хорошо?
– Если она любит вас, – отвечала предательница, – завтра вы об этом узнаете; а теперь успокойтесь.
– Да, я успокоюсь – до завтра.
– Большего я и не прошу, монсеньор.
Она взяла запечатанное письмо, позволила монсеньору расцеловать себя в оба глаза и к вечеру вернулась домой.
Дома она разделась, освежилась и стала размышлять.
Дела шли именно так, как она наметила.
Еще два шага – и она у цели.
Кто из двоих мог оказаться для нее лучшим прикрытием – королева или кардинал?
После сегодняшнего письма кардинал не посмеет обвинить графиню де Ламотт, когда она рано или поздно заставит его уплатить за ожерелье.
Если допустить, что кардинал с королевой встретятся и объяснятся, разве они посмеют погубить графиню де Ламотт – обладательницу столь постыдной тайны?
Королева смолчит и решит, что кардинал ее ненавидит; кардинал подумает, что королева кокетничает; но если даже дело дойдет до объяснения, они будут вести разговор при закрытых дверях, и если подозрение коснется графини де Ламотт, она под этим предлогом тут же удалится за границу и обратит бриллианты в круглую сумму в полтора миллиона.
Кардинал поймет, что бриллианты присвоила Жанна; королева догадается об этом; но выгодно ли им предавать огласке дело, так тесно связанное с парком и купальней Аполлона?
Правда, для того чтобы как следует себя обезопасить, одного письма мало. Кардинал – отменный сочинитель, он напишет их еще семь или восемь.
Что до королевы, то может статься, она в эту самую минуту вместе с г-ном де Шарни кует оружие против Жанны де Ламотт!
В худшем случае все эти тревоги и ухищрения вынудят графиню к бегству: Жанна заранее готовила себе путь к отступлению.
Прежде всего, когда истечет срок платежа, ювелиры оповестят об этом. Королева обратится прямо к г-ну де Рогану.
Каким образом?
Через Жанну? Это неизбежно. Жанна предупредит кардинала и предложит ему уплатить. Если он откажется – пригрозит предать огласке письма; он уплатит.
После уплаты бояться больше нечего. Угроза публичного скандала останется, и надо будет до конца использовать все возможности интриги. Здесь можно добиться чего угодно. Честь королевы и князя церкви за полтора миллиона – это чересчур дешево. Жанна была убеждена, что получит и три миллиона, если пожелает.
Почему же графиня была так убеждена в успехе своей интриги?
По одной причине – кардинал не сомневался, что три ночи кряду видел в уголке версальского парка королеву, и ничто на свете не могло раскрыть прелату глаза на его заблуждение. Существует только одно доказательство обмана, живое, неопровержимое доказательство, но Жанна его устранит.
Дойдя до этого в своих рассуждениях, графиня подошла к окну и увидела на балконе снедаемую беспокойством и любопытством Оливу.
«А теперь займемся ею», – подумала Жанна, нежно приветствуя свою сообщницу.
Графиня подала Оливе условный знак, чтобы та вечером сошла вниз.
Олива, в восторге от такого официального приглашения, вернулась к себе в спальню; Жанна вновь углубилась в размышления. Всем интриганам свойственно уничтожать орудия, которые становятся бесполезны; но большинство губят при этом себя: они или исторгают у изничтожаемого орудия стоны, нарушающие тайну, или уничтожают его не до конца, так что потом им могут воспользоваться другие.
Жанне подумалось, что малютка Олива слишком любит жизнь и не даст себя уничтожить безропотно.
Необходимо сочинить для нее две сказочки – одну, чтобы она решилась на бегство, и другую, чтобы ей самой очень захотелось сбежать.
Трудности возникали на каждом шагу; но есть умы, для которых преодолевать трудности такое же удовольствие, как для других – ходить по розам.
Хоть Олива очень обрадовалась обществу новой подруги, радость се была относительна: глядя на эту дружбу из окна тюрьмы, она находила в ней очарование. Но искренняя Николь не скрыла от подруги, что предпочла бы гулять при свете дня, под лучами солнца, словом, что все приманки свободной жизни милее ей, чем ночные прогулки и поддельное королевское величие.
Жанна, ее ласки, ее доверие – все это была почти жизнь, но настоящая жизнь заключалась в деньгах и Босире.
Основательно изучив эту теорию, Жанна пообещала себе при первой возможности пустить ее в ход.
Короче, графиня решила, что целью ее разговора с Николь должна стать необходимость бесследно уничтожить доказательство преступного мошенничества в версальском парке.
Наступила ночь. Олива спустилась. Жанна ждала ее у дверей.
По улице Сен-Клод они дошли до безлюдного бульвара и сели в карету; лошади неспешным аллюром, чтобы не мешать разговору, тронулись по круговой дороге, которая вела в Венсенн.
Николь переоделась в простое платье и надвинула широкий капюшон; Жанна нарядилась гризеткой – узнать их было невозможно. Для этого понадобилось бы заглянуть в глубь кареты, на что имела право только полиция. Но ничто не могло навести полицию на их след.
К тому же на дверцах кареты красовался герб Валуа – безупречный страж, чей запрет не осмелился бы преступить самый дерзкий блюститель порядка.
Олива начала с того, что осыпала Жанну поцелуями, которые та ей вернула с лихвой.
– Ах, как я скучала, – воскликнула Олива. – Как я искала вас, как ждала!
– Ангел мой, мне никак было невозможно повидаться с вами: это подвергло бы и меня, и вас большой опасности.
– Почему же? – удивилась Олива.
– Ужасной опасности, радость моя, до сих пор я трепещу при мысли о ней.
– Так расскажите скорее, в чем дело!
– Мы знаем, что вам было очень скучно в вашем убежище.
– Увы, это так!
– И вам захотелось иногда выходить из дома, чтобы развеяться.
– А вы по дружбе помогли мне в этом.
– Как вы помните, я рассказала вам об одном офицере. Он малость не в себе, но очень мил и влюблен в королеву, а вы на нее немного похожи.
– Да, так оно и есть.
– Я имела неосторожность предложить вам невинное развлечение; речь шла о том, чтобы в шутку разыграть беднягу, внушив ему, что королева питает к нему слабость.
– Увы! – вздохнула Олива.
– Не стану напоминать вам о первых двух наших ночных прогулках в садах Версаля в обществе этого сумасброда.
Олива снова вздохнула.
– В эти две ночи вы так искренне сыграли вашу скромную роль, что наш воздыхатель во все поверил.
– Пожалуй, это было нехорошо, – очень тихо отозвалась Олива, – ведь на самом деле мы ему морочили голову, а он этого не заслуживает: он очаровательный кавалер.
– Не правда ли?
– Еще бы!
– Но погодите, это еще не вся наша вина. Вы дали ему розу, отзывались на обращение «ваше величество»; позволили целовать вам руки – это все шалости, не более. Но… милая моя Олива, это еще не все.
Олива так зарделась, что не будь вокруг столь темно, Жанна неминуемо заметила бы ее румянец. Впрочем, будучи женщиной умной, она глядела не на спутницу, а на дорогу.
– Как? – пролепетала Николь. – В каком смысле не все?
– Было и третье свидание, – пояснила Жанна.
– Да, – нерешительно подтвердила Олива, – вы это знаете, вы же сами там были.
– Простите, милочка, но я, как всегда, оставалась в отдалении, охраняя вас или притворяясь, будто охраняю, дабы придать больше правдоподобия вашей игре. Я же не видела и не слышала, что происходило в гроте. Я знаю только то, что вы сами мне рассказали. А рассказали вы, вернувшись, что гуляли, беседовали, продолжали игру с розами и целованием рук. Я, дорогая моя, верю всему, что мне говорят.
– Ну, так что же? – затрепетав, спросила Олива.
– Что же? Да то, прелесть моя, что этот безумец похваляется, будто мнимая королева оказала ему большие милости.
– Какие?
– Поговаривают, будто он настолько упоен и оглушен своим счастьем, что похваляется, будто королева подарила ему неопровержимое доказательство ответной любви. Решительно, бедный малый спятил с ума.
– Боже мой! Боже мой! – прошептала Олива.
– Прежде всего, он лжет, не так ли? – продолжала Жанна.
– Разумеется, – пролепетала Олива.
– Вы не стали бы, моя милая, подвергать себя такой чудовищной опасности, ничего не сказав мне.
Олива задрожала с головы до ног.
– На что это похоже, – продолжала безжалостная сообщница, – чтобы вы, моя подруга, любящая господина де Босира, покорившая графа Калиостро и отвергнувшая его ухаживания, – чтобы вы поддались прихоти и дали этому безумцу право… право рассказывать о вас такое! Нет, он сошел с ума, я на этом настаиваю!
– Но в чем же тут кроется опасность? – воскликнула Николь.
– Вот в чем. Мы имеем дело с сумасшедшим: он ничего не боится и ничем не дорожит. Пока идет речь о какой-то там подаренной розе, о целовании рук – ничего страшного: у королевы есть розы в парке и руку ее целовать не заказано никому из подданных; но если правда, что на третьем свидании… Ах… дитя мое, с тех пор, как я об этом думаю, меня покинул покой.
Олива почувствовала, как зубы у нее застучали от страха.
– Что же случится, если это в самом деле так, дорогая? – спросила она.
– Ну, прежде всего, вы ведь не королева, во всяком случае, насколько мне известно.
– Нет, не королева.
– Далее, обманом присвоив себе королевский ранг, чтобы совершить такой… легкомысленный поступок…
– Что же?
– Что? Вы нанесли оскорбление ее величеству. А это обвинение заводит людей очень далеко.
Олива закрыла лицо руками.
– В конце концов, – продолжала Жанна, – поскольку вы не совершали того, о чем он болтает, вам придется только доказать, что он лжет. А две ваши предыдущие выходки грозят вам тюремным заключением года на два-три, от силы на четыре, да изгнанием.
– Тюрьма! Изгнание! – в ужасе вскричала Олива.
– Это поправимо, но я все-таки приму меры предосторожности и скроюсь.
– Вас тоже не оставят в покое?
– Черт побери! Да ведь этот умалишенный меня выдаст! Ах, бедная моя Олива, дорого нам обойдется эта мистификация.
Олива ударилась в слезы.
– Нет мне покоя в жизни: то одно несчастье, то другое! – проговорила она. – Ох, нечистая сила строит мне козни. Право, в меня точно бес вселился. Того и жди новой беды.
– Не отчаивайтесь, но постарайтесь избежать скандала.
– Да, я больше не сделаю ни шагу из дома своего покровителя. А может быть, признаться ему во всем?
– Хорошо придумали! Этот человек лелеет вас, скрывая свою любовь; он готов по первому вашему слову окружить вас обожанием, а вы ему расскажете, как неосторожно вели себя с другим! Заметьте, я говорю – неосторожно, а ведь ему может прийти на ум совсем другое!
– Господи, вы правы.
– Более того: об этом происшествии пойдут слухи; назначат судебное разбирательство; оно вызовет у вашего покровителя опасения. Кто знает, вдруг он выдаст вас, чтобы укрепиться при дворе?
– О!
– Положим, он просто прогонит вас – что с вами станет?
– Я знаю, что пропаду.
– А когда обо всем проведает господин де Босир… – медленно продолжала Жанна, наблюдая за действием своего последнего удара.
Олива взвилась на месте. Одним движением она разрушила всю свою замысловатую прическу.
– Он меня убьет. Ах, нет, – прошептала она, – я сама лишу себя жизни.
Потом она повернулась к Жанне.
– Вы не в силах меня спасти, – с отчаянием сказала она, – нет, вы и сами погибли.
– В глубине Пикардии, – отозвалась Жанна, – у меня есть клочок земли, ферма. Может быть, если ускользнуть и добраться до этого убежища, скандала удастся избежать?
– Но этот безумец знает вас: он отыщет вас повсюду.
– О, если вы уедете, скроетесь и будете недостижимы, этот сумасшедший ничего не сможет мне сделать. Я скажу ему вслух: вы не в своем уме, если утверждаете такое; где доказательства? А потом я тихонько прибавлю: вы негодяй!
– Я уеду, когда скажете, – объявила Олива.
– Полагаю, что это разумное решение, – изрекла Жанна.
– Отправляться нужно немедленно?
– Нет, подождите, пока я все приготовлю. Укройтесь в доме, никому не показывайтесь, даже мне. Прячьтесь даже от своего отражения в зеркале.
– Да, да, положитесь на меня, дорогая.
– А теперь давайте вернемся: мы уже обо всем переговорили.
– Вернемся. Сколько времени вам понадобится для приготовлений?
– Не знаю. Но имейте в виду, отныне до вашего отъезда я более не подойду к окну. Если вы меня увидите, это будет означать, что в тот же день вы пуститесь в дорогу; будьте наготове.
– Да, благодарю вас, мой добрый друг.
Карета неторопливо вернулась на улицу Сен-Клод; Олива не смела более открыть рот, а Жанна слишком глубоко задумалась, чтобы говорить с Оливой.
Вернувшись, подруги расцеловались; Олива смиренно попросила у своей покровительницы прощения за то, что своей оплошностью причинила ей такую беду.
– Я женщина, – ответила г-жа де Ламотт, пародируя римского поэта[140], – и ничто женское мне не чуждо.
Олива соблюла свое обещание. Жанна выполнила свое.
На другой день Николь начала прятаться от всех на свете; никто не заподозрил бы, что она проживает на улице Сен-Клод.
Она не высовывала носа из-за штор, пряталась за ширмой; ее окно было завешено, и напрасно заглядывали в него веселые солнечные лучи.
Жанна, со своей стороны, занималась необходимыми приготовлениями, зная, что назавтра истекает срок первого платежа в полмиллиона ливров; поэтому она старалась, чтобы к тому мигу, когда разразится взрыв, у нее не осталось ни одного уязвимого места.
Этот миг был конечной целью ее забот.
Она тщательно обдумала, стоит ли ей бежать; осуществить бегство было нетрудно; но оно стало бы бесспорным признанием вины.
Остаться, застыть на месте, как дуэлянт под ударами противника; остаться, рискуя погибнуть, но зато надеясь поразить врага, таково было решение графини.
Вот почему на другой день после свидания с Оливой она около двух часов пополудни подошла к окну, чтобы дать знать самозваной королеве, что на вечер назначен побег.
Невозможно передать радость и страх Оливы. Необходимость побега означала, что ей грозит опасность; сам побег сулил спасение.
Она послала Жанне красноречивый воздушный поцелуй, а затем собрала, то есть увязала в узелок кое-какие драгоценные безделушки своего покровителя.
Подав Оливе знак, Жанна исчезла из дому: она отправилась на поиски кареты, которой будет доверена драгоценная жизнь мадемуазель Николь.
Вот и все; самый внимательный наблюдатель не обнаружил бы более никаких сношений между подругами, обменивавшимися обычно столь красноречивыми сигналами.
Шторы были задернуты, окна затворены; в окнах допоздна мелькал огонек. Потом послышалось шуршание, какие-то таинственные шорохи, стуки, и все сменилось темнотой и молчанием.
Часы на церкви св Павла пробили одиннадцать вечера, и ветер с реки принес эти зловещие и гулкие удары на улицу Сен-Клод, когда Жанна прибыла на улицу св. Людовика в почтовой карете, запряженной тремя крепкими лошадьми.
Дорогу кучеру показывал сидевший на козлах человек, закутанный в плащ.
На углу улицы Золотого короля Жанна дернула человека за край плаща, веля ему остановить карету.
Человек спешился и подошел к графине.
– Пусть карета подождет здесь, дорогой господин Рето, – сказала Жанна. – За полчаса мы управимся. Я приведу сюда некую особу, она сядет в карету, и вы отвезете ее в мой домик в Амьене, платя двойные прогонные.
– Да, ваше сиятельство.
– Там вы сдадите эту особу моему арендатору Фонтену, а что делать дальше – он знает.
– Да, ваше сиятельство.
– Вот не помню… Вы вооружены, любезный Рето?
– Да, сударыня.
– Эту особу преследует один умалишенный. Быть может, по дороге вас попытаются задержать.
– Что мне следует делать в этом случае?
– Стрелять в любого, кто помешает вам продолжать путь.
– Да, сударыня.
– Вот сто луидоров. Я, конечно, больше вас не увижу, потому что вам благоразумнее всего будет добраться до Сен-Валери и немедленно отплыть в Англию.
– Положитесь на меня.
– Это вам.
– Это нам, – отозвался г-н Рето, целуя графине руку. – Итак, я жду.
– А я иду за дамой.
Рето сел в карету на место, которое прежде занимала Жанна, а графиня де Ламотт проворно дошла до улицы Сен-Клод и скрылась в своем доме.
Все было объято сном в этом мирном квартале. Жанна собственноручно зажгла свечу и подняла ее над перилами балкона: то был знак для Оливы, что пора спускаться.
– Она девушка осторожная, – сказала себе графиня, увидев, что в окне напротив нет света.
И Жанна трижды подняла и опустила свечу.
Никакого ответа. Ей только послышался не то вздох, не то шепотом произнесенное «да», невнятно долетевшее до нее сквозь листву, обрамлявшую окно.
– Она спустится, не зажигая света, – предположила Жанна. – Недурно.
И сама она тоже спустилась на улицу. Дверь не отворялась. Наверное, Олива шла по лестнице с трудом, волоча с собой тяжелые узлы.
– Дурочка, – злобно процедила графиня. – Потерять столько времени из-за тряпок!
Никого. Жанна подошла к дверям противоположного дома.
Никого. Она вслушалась, прижавшись ухом к железным гвоздям, которыми была обита дверь.
Так прошло четверть часа.
Жанна сделала несколько шагов по направлению к бульвару, чтобы взглянуть издали, есть ли свет в окнах.
Ей показалось, что в просвете между листьями за двойными шторами мерцает слабый огонек.
– Что она делает, черт побери! Что она там делает, негодница! Может быть, она не видела моего сигнала? Что ж, не будем терять голову. Вернемся в дом.
Жанна в самом деле вернулась домой и еще раз подала условный знак свечой.
Ее сигналы остались без ответа.
– Надо думать, – сказала себе Жанна, в ярости комкая манжеты, – надо думать, плутовка захворала и не в силах двинуться с места. Но мне-то что за дело! Она уедет нынче ночью, живая или мертвая.
Графиня снова спустилась по лестнице с осторожностью львицы, за которой крадется охотник. В руке у нее был ключ, столько раз по ночам выпускавший Оливу на свободу.
Вставляя ключ в замочную скважину, Жанна заколебалась.
«А вдруг там у нее кто-то есть? – подумала она. – Нет, не может быть; но если даже так, я услышу голоса и успею спуститься. А если я повстречаюсь с кем-нибудь на лестнице? Ох!»
При этой мысли она вздрогнула.
Но тут до ее слуха донеслось цоканье: это били по мостовой копытами ее лошади; в конце концов она решилась.
– Без опасности, – изрекла она, – не бывает великих деяний. А отвага превозмогает любую опасность.
Она повернула ключ в замке, и дверь отворилась.
Расположение комнат было Жанне известно: она усвоила его, поджидая Оливу по вечерам. Лестница находилась по левую руку; Жанна устремилась наверх.
Ни звука, ни проблеска света, ни души.
Жанна поднялась на площадку, которая вела в комнаты Николь.
Из-под двери пробивался свет; за дверью слышались чьи-то торопливые шаги.
Жанна прислушалась, затаив участившееся дыхание. Голосов было не слыхать. Значит, Олива одна, она ходит по комнатам, очевидно, собирая вещи. Следовательно, она не заболела, а замешкалась.
Жанна тихонько поскреблась в дверь.
– Олива! Олива! – позвала она. – Дружочек мой!
Шаги по ковру приблизились.
– Отворите! Отворите! – нетерпеливо воскликнула Жанна.
Дверь отворилась, на Жанну хлынул поток света: она очутилась лицом к лицу с мужчиной, державшим канделябр с тремя свечами. Она испустила пронзительный вопль и закрыла лицо накидкой.
– Олива! – произнес мужчина. – Это вы, Олива?
И мягким движением он отвел накидку, скрывавшую ее лицо.
– Графиня де Ламотт! – воскликнул он с вполне естественным изумлением в голосе.
– Господин Калиостро! – прошептала Жанна, еле держась на ногах; она была близка к обмороку.
Графиня предусмотрела многие опасности, но только не эту. В сущности, ничего страшного не случилось, но при некотором размышлении и внимательном взгляде на этого странного человека, наделенного столь зловещей внешностью и столь искусного притворщика, Жанна почувствовала, что от него исходит чудовищная угроза.
Почти не владея собой, она попятилась и уже готова была броситься вниз по лестнице.
Калиостро любезно протянул ей руку и предложил сесть.
– Чему обязан честью вашего посещения, сударыня? – без тени смущения осведомился он.
– Сударь, – пролепетала интриганка, не в силах отвести взгляд от глаз графа, – я пришла… я искала…
– С вашего позволения, сударыня, я позвоню и распоряжусь прогнать тех моих слуг, которые настолько забылись, что не проводили ко мне особу вашего ранга.
Жанна затрепетала. Она остановила графа жестом.
– Вероятно, – невозмутимо продолжал Калиостро, – вам попался этот негодный немец, мой привратник: он попивает. Он вас не узнал. Отворил двери, ни слова не сказал и уснул.
– Не браните его, сударь, – немного осмелев, возразила Жанна, которая не заподозрила подвоха, – прошу вас.
– Ведь это он отворил вам, не так ли, сударыня?
– По-моему, да. Но вы обещали мне его не бранить.
– Я сдержу слово, – улыбаясь, отвечал граф. – А теперь, сударыня, извольте объясниться.
Получив эту лазейку, Жанна, которую не заподозрили в том, что она сама отперла дверь, могла спокойно лгать о цели своего визита. Итак, она пустилась в объяснения.
– Я пришла, – поспешно сказала она, – посоветоваться с вами, ваше сиятельство, относительно слухов, которые ходят по городу…
– Что за слухи, сударыня?
– Не торопите меня, прошу вас, – жеманно возразила она, – меня привлекло к вам весьма щекотливое дело.
«Ищи! Ищи! – думал между тем Калиостро. – Я-то уже нашел».
– Вы состоите в дружбе с его высокопреосвященством монсеньором кардиналом де Роганом, – начала Жанна.
«Ого! Недурно! – отметил про себя Калиостро. – Вот и скользи до конца по ниточке, конец которой я держу в руках; но дальше я тебя не пущу».
– В самом деле, сударыня, мы в добрых отношениях с его высокопреосвященством, – произнес он.
– Вот я и хотела узнать у вас, – продолжала Жанна, – о…
– О чем же? – с ноткой иронии осведомился Калиостро.
– Я уже сказала, сударь, что дело у меня щекотливое; не злоупотребляйте этим. Для вас не секрет, что господин де Роган питает ко мне некоторую склонность, и мне хотелось бы знать, насколько я могла бы рассчитывать на… Словом, сударь, вы, как говорят, умеете читать во тьме самых скрытых умов и сердец.
– Так пролейте еще немного света, сударыня, – откликнулся граф, – чтобы мне легче было читать во тьме вашего сердца и ума.
– Сударь, ходят слухи, будто его высокопреосвященство любит другую; что его чувство метит очень высоко. Поговаривают даже…
Тут Калиостро пронзил Жанну взглядом, в котором сверкали молнии; она едва не лишилась чувств.
– Сударыня, – изрек он, – я is самом деле читаю во тьме; но чтобы прочесть правильно, мне нужна помощь. Соблаговолите ответить на следующие вопросы: как вы меня отыскали? Я живу в другом месте. – Жанна задрожала. – Как вы сюда вошли? В этой части дома нет ни пьяного привратника, ни лакеев. А если вы искали здесь не меня, тогда кого же? Вы не отвечаете? – продолжал он, обращаясь к дрожащей графине. – Что ж, я вам помогу. Вы вошли, отомкнув дверь своим ключом, который лежит у вас в кармане: вот он, я его вижу. Вы явились сюда в поисках молодой особы, которую я прятал здесь из чистого сострадания.
У Жанны подкосились ноги.
– Пусть так, – чуть слышно возразила она, – что в этом преступного? Разве нельзя женщине навестить другую женщину? Позовите ее, и она подтвердит, что в нашей дружбе нет ничего порочного.
– Сударыня, – перебил Калиостро, – вы говорите так, потому что вам хорошо известно: ее здесь больше нет.
– Ее здесь больше нет? – вскричала потрясенная Жанна. – Олива исчезла?
– Можно подумать, будто вы не знали, что она сбежала, – усмехнулся Калиостро, – вы же сами способствовали ее похищению.
Я – похищению! – воскликнула Жанна, у которой вспыхнула надежда. – Ее похитили, и вы вините в этом меня?
– Более того, я убежден, что похищение подстроено вами, – отвечал Калиостро.
– Докажите, – неосторожно предложила графиня. Калиостро взял со стола лист бумаги и показал ей.
Мой великодушный господин и покровитель, – гласила обращенная к Калиостро записка, – простите, что я Вас покидаю, но я давно уже люблю г-на де Босира; он приехал и увозит меня, я следую за ним. Прощайте. Примите мою благодарность.
– Босир… – в растерянности повторила Жанна. – Босир… Да ведь он же не знал, где скрывается Олива!
– Как сказать, сударыня, – возразил Калиостро, протягивая ей второй листок, который достал из кармана. – Смотрите, я подобрал эту бумажку на лестнице, когда шел, как всегда, проведать мою подопечную. Должно быть, это письмецо выпало у господина де Босира из кармана.
Графиня, дрожа, прочла:
Г-н де Босир найдет м-ль Оливу на улице Сен-Клод, в доме на углу с бульваром; разыскав, он немедля увезет ее. Это совет ее искренней подруги. Не теряйте времени.
– О! – простонала графиня, комкая листок.
– И он увез ее, – ледяным голосом заключил Калиостро.
– Но кто написал это письмо? – спросила Жанна.
– По всей видимости, вы, искренняя подруга Оливы.
– Как он сюда проник? – вскричала графиня, окидывая невозмутимого собеседника яростным взглядом.
– Разве дверь нельзя отпереть вашим ключом? – заметил в ответ Калиостро.
– Но ключ у меня, значит, он не может быть у господина де Босира.
– С тем же успехом, как один ключ, можно изготовить и два, – возразил Калиостро, глядя ей прямо в глаза.
– Вы располагаете неопровержимыми уликами, – медленно проговорила графиня, – а у меня есть только подозрения.
– У меня тоже есть подозрения, – отвечал Калиостро, – и они не уступают вашим, сударыня.
С этими словами он сделал неуловимый жест рукой, означавший, что Жанна может удалиться.
Она пошла вниз; но на лестнице, где еще недавно было темно и безлюдно, ее ждали два десятка лакеев, выстроившихся через равные промежутки со свечами в руках; граф Калиостро раз десять выкрикнул перед ними: «Ее сиятельство графиня де Ламотт!» Она вышла, дыша злобой и жаждой мести, подобно василиску, изрыгающему огонь и яд.
На другой день истекал последний срок платежа, который королева назначила ювелирам Бемеру и Босанжу.
Поскольку королева взывала в своем письме к их осторожности, они ждали, когда доставят пятьсот тысяч ливров. Даже для таких богатых коммерсантов получение пятисот тысяч ливров – дело нешуточное, а посему компаньоны заготовили расписку, исполненную самым красивым почерком, каким только пишутся деловые бумаги.
Но расписка оказалась ни к чему: никто не приехал, чтобы получить ее в обмен на пятьсот тысяч ливров.
Ювелиры провели скверную ночь в ожидании гонца, которого почти не надеялись увидеть. Впрочем, кто знает, что у королевы на уме? Ведь ей приходится держать все дело в тайне, а потому ее посланец может прибыть и после полуночи.
Рассвет следующего дня развеял упования Бемера и Босанжа. Набравшись решимости, Босанж устремился в Версаль вместе с компаньоном, который притаился в глубине кареты.
Бемер попросил, чтобы его допустили к королеве. Ему ответили, что это невозможно, если у него нет письменного приглашения.
Он удивился, встревожился, стал настаивать. Он знал, с кем имеет дело, и, не скупясь раздавал в передних направо и налево камешки подешевле, а потому не остался без помощи: его отвели туда, где должна была проходить королева во время прогулки по Трианону.
Мария Антуанетта, еще охваченная трепетом после свидания с Шарни, ставшего не любовником ее, но возлюбленным, шла к дворцу, предаваясь безмятежным мыслям и сердечному веселью, как вдруг перед ней явилась сокрушенная и почтительная физиономия Бемера.
Она улыбнулась ему, и он, истолковав эту улыбку в самом благоприятном для себя смысле, отважился просить королеву о краткой аудиенции; Мария Антуанетта согласилась принять его в два часа, то есть после обеда. Он поспешил поделиться этой изумительной новостью с Босанжем, который ждал в карете, потому что у него был флюс и он не смел показаться на глаза королеве в столь безобразном виде.
– Нет никакого сомнения, – решили компаньоны, толкуя каждый жест, каждое слово Марии Антуанетты, – нет никакого сомнения, что в ящике у королевы приготовлена сумма, которую она не смогла вчера нам передать; она назначила аудиенцию на два часа, потому что в это время будет одна.
И ювелиры, подобно персонажам известной басни, принялись ломать голову над тем, как им заплатят, купюрами, золотом или серебром.
Ровно в два часа Бемер был на месте; его ввели в будуар ее величества.
– Что там у вас еще, Бемер? – начала королева, едва завидев его на пороге. – Снова хотите потолковать со мною о драгоценностях? Знаете ли, не везет вам со мной!
Бемер решил, что в покоях есть посторонние и королева боится, что их разговор будет подслушан. Поэтому он с понимающим видом огляделся по сторонам и отвечал:
– Да, ваше величество.
– Что такое? – удивилась королева. – Вы хотите сказать мне что-нибудь по секрету?
Он смолчал, в глубине души возмущаясь таким притворством.
– Знаю я ваши секреты: хотите продать мне какую-нибудь драгоценность, – продолжала королева, – какую-нибудь несравненную вещицу? Ах, да не пугайтесь, здесь никого нет, и никто нас не слышит.
– Тогда… – пробормотал Бемер.
– Ну, ну?
– Тогда я могу сказать вашему величеству…
– Да говорите же, дорогой Бемер!
Ювелир с любезной улыбкой подошел ближе.
– Я могу сказать вашему величеству, что вчера королева изволила забыть о нас, – произнес он, обнажая пожелтевшие зубы в почтительной улыбке.
– Забыть? Что вы имеете в виду? – удивленно переспросила королева.
– Вчера… миновал срок…
– Срок? Какой срок?
– О, простите, ваше величество, что я позволяю себе… понимаю, это нескромно. Быть может, королева не подготовилась… Это было бы огромным несчастьем, но в конце концов…
– Послушайте, Бемер! – воскликнула королева. Я никак не возьму в толк, о чем вы говорите. Объясните все как следует, мой дорогой.
– Ваше величество, вы, видно, все забыли. Оно и понятно: у вас столько забот.
– Ну вот, опять! О чем я забыла?
– Вчера исполнился срок первой выплаты за ожерелье, – робко пояснил ювелир.
– Так, значит, вы продали ожерелье? – осведомилась королева.
– Да, разумеется, – отвечал ювелир, изумленно глядя на нее, – мне сдается, что продал.
– И покупатели не уплатили вам, мой бедный Бемер? Очень жаль. Им следовало поступить так, как поступила я: если они не в состоянии были купить ожерелье, надо было вернуть его вам, оставив задаток в вашу пользу.
– Как вы сказали? – пролепетал ювелир, у которого подкашивались ноги, словно у неосторожного путника, сраженного солнечным ударом. – Я не совсем понял, что ваше величество изволит говорить.
– Я говорю, мой бедный Бемер, что если десять покупателей вернут вам ожерелье на тех же условиях, что я, оставив вам отступного двести тысяч ливров, вы получите два миллиона и ожерелье останется при вас.
– Ваше величество, – обливаясь потом, вскричал Бемер, – вы утверждаете, что вернули мне ожерелье?
– Да, разумеется, – безмятежно отвечала королева. – Что вас удивляет?
– Как! – продолжал ювелир. – Вы отрицаете, ваше величество, что купили у меня ожерелье?
– Вот новости! Что за комедию вы здесь разыгрываете? – сурово возразила королева. – Можно подумать, что это проклятое ожерелье сводит с ума всех, кто к нему прикасается.
– Но мне показалось… – настаивал ювелир, дрожа всем телом, – мне показалось, будто вы, ваше величество, изволили сейчас сказать, что вы вернули мне, что вы, ваше величество, вернули мне ожерелье.
Королева, скрестив руки, в упор посмотрела на Бемера.
– К счастью, – сказала она, – у меня есть средство освежить вашу память, потому что вы, господин Бемер, весьма забывчивы, чтоб не сказать больше.
Она подошла к секретеру, достала лист бумаги, развернула его, пробежала глазами и медленно протянула несчастному Бемеру.
– Полагаю, здесь все сказано достаточно ясно, – заметила она и села, чтобы получше видеть лицо ювелира, пока он будет читать.
В его чертах сперва запечатлелось полнейшее недоверие, сменившееся затем безграничным страхом.
– Ну, – произнесла королева, – вы признаете эту расписку, по всем правилам подтверждающую, что ожерелье вами получено? Быть может, вы забыли, что вас зовут Бемер?
– Ваше величество! – возопил Бемер, задыхаясь от ярости и ужаса. – Эта расписка подписана не мной!
Королева отпрянула, пронзив Бемера испепеляющим взглядом.
– Вы отрицаете? – спросила она.
– Решительно отрицаю! Ручаюсь своей жизнью, своей свободой: я не получал ожерелья и никогда не подписывал этой расписки. И на плахе, при палаче, я все равно повторю: нет, ваше величество, это не моя расписка.
– Это значит, сударь, – слегка побледнев, возразила королева, – что я вас обокрала. По-вашему, ожерелье у меня?
Бемер порылся в бумажнике и извлек письмо, которое в свой черед протянул королеве…
– Не думаю, ваше величество, – произнес он почтительно, хотя волнение душило его, – не думаю, что если бы вы, ваше величество, вернули мне ожерелье, вы прислали бы мне вот это письмо, в котором признаете свой долг.
– Что это за бумажка? – воскликнула королева. – Я никогда этого не писала! Разве это мой почерк?
– Там ваша подпись, – пробормотал уничтоженный Бемер.
– Мария Антуанетта Французская… Вы с ума сошли! При чем тут Французская! Да ведь я эрцгерцогиня Австрийская, да будет вам известно! Смешно даже предположить, будто я написала такое! Полноте, господин Бемер, ваша западня слишком грубо сработана. Убирайтесь и скажите это тем, кто изготавливает для вас такие фальшивки.
– Фальшивки… – заплетающимся языком повторил ювелир, близкий к обмороку. – Ваше величество подозревает меня в мошенничестве, меня, Бемера?
– Вы же подозреваете меня, Марию Антуанетту! – надменно парировала Мария Антуанетта.
– Но у меня письмо, – еще пытался он настаивать, указывая на листок, который она все еще держала в руке.
– А у меня расписка, – возразила королева, кивнув на второй листок, который был у него в руках.
Бемеру пришлось опереться на кресло: пол уходил у него из-под ног. Он ловил губами воздух, и мертвенная бледность в его лице мало-помалу сменялась багровым апоплексическим румянцем.
– Верните мне мою расписку, – продолжала королева, – я считаю ее подлинной, и заберите ваше письмо, подписанное Антуанеттой Французской; любой стряпчий объяснит вам, чего оно стоит.
Она швырнула ему в лицо одну из бумаг, выхватила у него вторую, повернулась спиной и ушла в соседнюю комнату, оставив в одиночестве несчастного, который, ничего не понимая, вопреки всем правилам этикета рухнул в кресло.
Через несколько минут он все же пришел в себя настолько, что очертя голову ринулся из королевских покоев и вернулся к Босанжу; он рассказал компаньону все, что произошло, причем тот выслушал Бемера с изрядным недоверием.
Однако Бемер несколько раз совершенно внятно повторил свой рассказ, и тут Босанж принялся рвать волосы у себя на парике, а Бемер принялся рвать свои собственные, так что прохожим, заглядывавшим к ним в карету, предстало самое прискорбное и в то же время уморительное зрелище на свете.
Но нельзя же просидеть в карете весь день; притом, если все время рвать волосы на голове или парике, в конце концов наткнешься на череп, а под черепной коробкой, как правило, роятся мысли; поэтому оба ювелира порешили объединить усилия и, если удастся, взять приступом дверь королевы, чтобы получить хотя бы подобие объяснения.
Итак, они в самом плачевном состоянии поплелись ко дворцу; навстречу им вышел один из офицеров королевы, который передал обоим приказ явиться к ее величеству. Нетрудно вообразить, с какой радостью они поспешили повиноваться.
Их тут же ввели к королеве.
17. Королем быть не могу, принцем – не желаю, я – Роган[141]
Королева, казалось, ждала их с нетерпением. Едва завидев ювелиров, она воскликнула:
– А вот и вы, господин Босанж! Вы явились с подкреплением, Бемер? Тем лучше!
Бемеру нечего было сказать, хотя мыслей у него в голове было предостаточно. В подобных случаях самое лучшее – это перейти на язык жестов; посему Бемер бросился к ногам Марии Антуанетты.
Этот жест был достаточно красноречив.
Босанж последовал примеру компаньона.
– Господа, – обратилась к ним королева, – я успокоилась и более не буду поддаваться гневу. К тому же мне пришла на ум одна мысль, которая меняет мое к вам отношение. Несомненно, и вы и я в этом деле оказались обмануты некими загадочными обстоятельствами… которые для меня уже перестали быть загадкой.
– Ах, ваше величество! – вскричал Бемер, воодушевленный этими словами. – Значит, вы больше не подозреваете меня в таком… неблаговидном деле. Язык не поворачивается вымолвить слово «подлог»!
– Поверьте, мне также тяжело его слышать, как вам произносить, – сказала королева. – Нет, я вас больше не подозреваю.
– Значит, ваше величество подозревает кого-то другого?
– Отвечайте на мои вопросы. Вы говорите, что бриллиантов у вас уже нет?
– Их у нас уже нет, – в один голос ответствовали ювелиры.
– Вам незачем знать, кому я поручила вернуть вам ожерелье: это моя забота. А не виделись ли вы… с графиней де Ламотт?
– Простите, ваше величество, мы с ней виделись.
– И она ничего не привозила вам… от моего имени?
– Нет, ваше величество. Ее сиятельство только передала на словах: «Подождите!»
– А кто привез вам от меня это письмо?
– Письмо? – отвечал Бемер. – То письмо, что находится в руках вашего величества, привез нам ночью незнакомый гонец.
И он указал на подложное письмо.
– Вот как! Превосходно! – заметила королева. – Видите, нельзя сказать, что вы получили его прямо от меня.
Она позвонила, вошел лакей.
– Пригласите ее сиятельство графиню де Ламотт, – спокойно приказала королева и все также невозмутимо продолжила: – Значит, вы ни с кем не виделись? Например, с господином де Роганом?
– А как же, ваше величество, господин де Роган заезжал к нам и осведомлялся о…
– Прекрасно! – отозвалась королева. – Остановимся на этом; коль скоро в дело замешан господин де Роган, вам ни в коем случае не следует отчаиваться. Я догадываюсь: когда графиня де Ламотт сказала вам: «Подождите!» – она имела в виду…
Но нет, я не догадываюсь и ни о чем не желаю догадываться. Лучше ступайте к его высокопреосвященству и расскажите ему все, что я сейчас от вас услышала; не теряйте времени и не забудьте сказать ему, что мне все известно.
Ювелиры, согретые новой надеждой, переглянулись уже не так испуганно.
И только Босанж, которому хотелось вставить слово, расхрабрился и тихо заметил:
– Однако в руках у королевы оказалась подложная расписка, а подлог является преступлением.
Мария Антуанетта нахмурилась.
– Бесспорно, – сказала она, – если вы не получили ожерелья, значит, расписка подложная. Но чтобы утверждать, что это подлог, мне необходимо столкнуть вас лицом к липу с особой, которой я поручила вернуть вам бриллианты.
– Как только ваше величество пожелает! – воскликнул Босанж. – Мы честные коммерсанты, мы огласки не боимся.
– Тогда ступайте к его высокопреосвященству: он прольет свет на это дело; никто, кроме него, не сможет разъяснить нам, что все это значит.
– Вы позволите нам, ваше величество, вернуться к вам с ответом? – осведомился Бемер.
– Я узнаю все прежде вас, – возразила королева, – и сама вызволю вас из затруднений. Ступайте.
И она отпустила их; ювелиры удалились, вновь начиная тревожиться, а королева принялась слать гонца за гонцом к графине де Ламотт.
Не станем вникать в ее раздумья и подозрения; лучше, простившись с ней, поспешим вслед за ювелирами в поисках столь желанной истины.
Кардинал был дома; с непередаваемой яростью он вчитывался в коротенькое письмо, которое прислала якобы из Версаля графиня де Ламотт. Письмо было сурово, оно отнимало у кардинала последнюю надежду; графиня требовала, чтобы он ни о чем и думать не смел; она запрещала ему появляться запросто в Версале; она взывала к его великодушию и заклинала не возобновлять отношений, которые стали невозможны.
Перечитывая эти строки, принц не находил себе места, он вглядывался в каждую букву и, казалось, готов был требовать отчета у бумаги за те жестокие слова, которые начертала на ней безжалостная рука.
– Капризная, распутная кокетка! – в отчаянии вскричал он. – О, я отомщу!
Он собрал вместе все жалкие мелочи, которые служат тем, кто слаб духом, утешением в любовных горестях, но не излечивают от самой любви.
– Вот, – промолвил он, – четыре письма от нее, одно несправедливее другого, одно деспотичнее другого! Она снизошла до меня из прихоти! Едва ли я прощу ей это унижение, если она отринет меня ради нового каприза.
И несчастная жертва обмана, он со страстной надеждой перечитывал все письма, сочиненные с отменным искусством, отчего их резкость разила еще безжалостней.
Последнее из писем было шедевром жестокости, оно пронзило насквозь сердце бедняги кардинала, и все же он был так влюблен, что испытывал смешанное с болью наслаждение, читая и перечитывая холодные дерзости, исходившие, если верить графине де Ламотт, из Версаля.
В это самое время к нему в особняк явились ювелиры.
Его удивила настойчивость, с какой они добивались, чтобы их впустили, невзирая на запрет. Трижды он отсылал лакея, говоря, что никого не принимает, но тот вернулся в четвертый раз и сообщил, что Бемер и Босанж не желают уходить, разве что их выведут силой.
– Что бы это значило? – удивился кардинал. – Пусть войдут.
Они вошли. На их потрясенных лицах заметны были следы борьбы как нравственной, так и физической, которую им пришлось выдержать. Из первой они вышли победителями, зато во второй изрядно пострадали. Никогда еще князю церкви не представали две такие растерянные физиономии.
– Послушайте, господа ювелиры, – вскричал, завидя их, кардинал, – с какой стати вы так грубо врываетесь в дом? Или здесь вам задолжали?
Такое начало поразило несчастных ювелиров ужасом. Бемер бросил на компаньона взгляд, в котором стоял вопрос: «Неужто все начнется сначала?»
– Ну, нет! Ни за что! – отвечал тот, властным и весьма воинственным движением поправляя на голове парик. – Что до меня, то я готов выдержать любой натиск.
И он едва ли не с угрожающим видом шагнул вперед, пока более благоразумный Бемер оставался сзади.
Кардинал решил, что оба сошли с ума, и так прямо им и сказал.
– Ваше высокопреосвященство, – с мукой в голосе выдохнул Бемер, – умоляем вас о справедливости, о милосердии! Не доводите нас до отчаяния, не заставляйте забыть о почтении, которое мы питаем к величайшему, славнейшему из принцев!
– Господа, либо вы в здравом рассудке, и тогда вас вышвырнут в окно, – произнес кардинал, – либо вы сошли с ума, и тогда вас попросту выставят за дверь. Выбирайте.
– Ваше высокопреосвященство, мы не сошли с ума, мы ограблены!
– Какое мне до этого дело? – возразил г-н де Роган. Я же не начальник полиции!
– Но ожерелье находилось у вас в руках, монсеньор, – рыдая проговорил Бемер. – Вы засвидетельствуете это в суде, не правда ли?
– Ожерелье? – переспросил принц. – Значит, ожерелье украдено?
– Да, ваше высокопреосвященство.
– Ну а что говорит королева? – воскликнул кардинал, в котором пробудился интерес к делу.
– Королева послала нас к вам, ваше высокопреосвященство.
– Весьма любезно со стороны ее величества. Но что я могу для вас сделать, горемыки?
– Вы все можете, ваше высокопреосвященство; вы можете сказать, что стало с ожерельем.
– Я?
– Несомненно.
– Дорогой мой господин Бемер, тон, который вы взяли в разговоре со мной, был бы уместен, если бы я принадлежал к шайке воров, укравших у королевы ожерелье.
– Оно было украдено не у королевы.
– О Господи! У кого же?
– Королева уверяет, что не оставляла его у себя.
– Как это так, уверяет! – с сомнением в голосе воскликнул кардинал. – Вы же получили от нее расписку.
– Королева говорит, что расписка фальшивая.
– Быть того не может! – вскричал кардинал. – Что за чепуху вы тут рассказываете?
– Я говорю правду? – спросил Бемер у Босанжа, и тот в подтверждение трижды кивнул.
– Вероятно, у королевы кто-то был, – предположил г-н де Роган, – потому она и сказала, что у нее нет никакого ожерелья.
– Посторонних никого не было, монсеньор. Но это еще не все.
– Что еще?
– Мало того что королева утверждала, будто ожерелье не у нее, и объявила расписку поддельной: она показала нам другую расписку, подтверждающую, будто мы получили от нее ожерелье.
– Расписку от вас? – уточнил кардинал. – И эта расписка?..
– Такая же фальшивка, как та, ваше высокопреосвященство; вам это хорошо известно.
– Фальшивка… Две фальшивки… И вы полагаете, что мне это хорошо известно?
– Разумеется: вы же приезжали подтвердить нам слова графини де Ламотт; ведь вы прекрасно знали, что мы в самом деле продали ожерелье и что оно находится в руках у королевы.
– Так… – произнес кардинал, проведя рукой по лбу, – дело, насколько я понимаю, принимает весьма серьезный оборот. Давайте-ка объяснимся. Вот действия, которые я производил совместно с вами.
– Да, ваше высокопреосвященство?
– Сначала я купил у вас для ее величества ожерелье и выплатил вам за него двести пятьдесят тысяч ливров.
– Верно, ваше высокопреосвященство.
– Затем покупка была подтверждена непосредственно королевой; во всяком случае, так вы мне сказали; она подтвердила сделку в недвусмысленных выражениях и скрепила письмо собственноручной подписью.
– Подписью… Как по-вашему, ваше высокопреосвященство, это подпись королевы?
Покажите.
Вот она.
Ювелиры извлекли письмо из бумажника. Кардинал вгляделся в него.
– Ну, знаете! – воскликнул он. – Вас провели, как детей. Мария Антуанетта Французская… Да ведь королева принадлежит к австрийскому дому. Вас обокрали: и почерк, и подпись – все поддельное!
– Но тогда, – вне себя возопили ювелиры, – графиня де Ламотт, должно быть, знает, кто изготовил фальшивки и украл ожерелье!
Кардинала потрясла справедливость этих слов.
– Давайте пригласим графиню де Ламотт, – в изрядном смущении предложил он.
И г-н де Роган позвонил, как прежде это сделала королева.
Его люди устремились на поиски Жанны, чья карета еще не могла отъехать далеко.
Тем временем Бемер и Босанж, цепляясь за обещания королевы, как утопающий за соломинку, твердили:
– Где ожерелье? Где ожерелье?
– Вы меня оглушили! – с досадой прикрикнул на них г-н де Роган. – Откуда мне знать, где ваше ожерелье? Я сам передал его королеве, вот все, что мне известно.
– Ожерелье! Разве мы не получили задаток! Но где ожерелье? – повторяли коммерсанты.
– Господа, это меня не касается, – вспылил кардинал, готовый вышвырнуть за дверь обоих кредиторов.
– Графиня де Ламотт! Ее сиятельство графиня де Ламотт! – возопили осипшими от горя голосами Бемер и Босанж. – Вот кто нас погубил!
– Я запрещаю вам подвергать сомнению порядочность госпожи де Ламотт, если вы хотите уйти живыми из моего дома.
– Но кто-то же совершил преступление, – жалобно возразил Бемер, – кто-то же подделал две расписки?
– Не я же это сделал! – высокомерно отрезал г-н де Роган.
– Мы совсем не это хотим сказать, ваше высокопреосвященство.
– Тогда чего же вы от меня добиваетесь?
– Во имя неба, монсеньор, дайте нам разъяснение.
– Подождите, покуда я сам его получу.
– Но что мы скажем королеве, ваше высокопреосвященство? Ведь ее величество тоже винит во всем нас!
– Что же она говорит?
– Что ожерелье не у нее, а у вас или у графини де Ламотт.
– Что ж! – ответил кардинал, побелев от ярости и стыда, – ступайте, скажите королеве, что… Нет, лучше ничего не говорите. Не будем раздувать скандал. Но завтра… завтра, слышите ли, я служу мессу в капелле Версаля; приходите – вы увидите, как я подойду к королеве, заговорю с нею, спрошу, в самом ли деле у нее нет ожерелья, и вы услышите, что она ответит; если она будет все отрицать, глядя мне в глаза… тогда, господа, я уплачу – мое имя Роган!
С этими словами, произнесенными с тем величием, которое невозможно передать на бумаге, принц спровадил обоих компаньонов, и они удалились, пятясь задом и подталкивая друг друга локтями.
– Итак, до завтра, – пролепетал Бемер, – не правда ли, ваше высокопреосвященство?
– Завтра, в одиннадцать утра, в версальской капелле, – отозвался кардинал.
На другой день, часов около десяти, в Версаль въехала карета, украшенная гербом г-на де Бретейля.
Если читатель не забыл истории Бальзамо и Жильбера, он помнит и о том, что г-н де Бретейль, соперник и заклятый враг г-на де Рогана, давно уже поджидал случая нанести своему недругу смертельный удар.
В этом отношении дипломатия куда выше искусства шпаги: в фехтовании удар надо парировать ударом, хорошо ли, плохо ли, но немедленно, а дипломаты лет пятнадцать, если не больше, готовят свой удар, дабы он оказался возможно более сокрушительным.
Час назад для г-на де Бретейля испросили аудиенцию у короля, и вот теперь он входил к его величеству, который одевался, собираясь к мессе.
– Погода великолепная, – радостно объявил Людовик XVI, едва дипломат вступил в его кабинет. – Вот это Успение! Полюбуйтесь, на небе ни облачка!
– Я в отчаянии, государь, что омрачу тучами спокойствие вашего величества, – ответствовал министр.
– Ну, вот! – нахмурился король. – Снова день начинается с огорчений. Что там у вас стряслось?
– Я в большом затруднении, ваше величество, не знаю, с чего и начать, тем более что дело это на первый взгляд не имеет отношения к моему министерству. Речь идет о краже, а кражи касаются скорее начальника полиции.
– О краже? – отозвался король. – Ведь вы министр юстиции, а воры рано или поздно всегда предстают перед судом. Суд же находится в ведении министра юстиции, каковым вы и являетесь. Итак, говорите.
– Хорошо, государь, дело заключается в следующем. Приходилось ли вашему величеству слышать что-либо о бриллиантовом ожерелье?
– Об ожерелье господина Бемера?
– Да, государь.
– От которого отказалась королева?
– Вот именно.
– Благодаря ее отказу я получил превосходный корабль «Сюфрен», – потирая руки, добавил король.
– Так вот, ваше величество, – продолжал барон де Бретейль, не смущаясь тем, какое зло собирается причинить, – это ожерелье похищено.
– А, тем хуже, тем хуже, – сказал король. – Оно стоило больших денег. Впрочем, эти бриллианты легко узнать, а распилить их – значит сильно обесценить украденное. Их не распилят, и полиция их найдет.
– Государь, – перебил барон де Бретейль, – это не обычная кража. Ходят всякие слухи.
– Слухи? Какие слухи?
– Государь, поговаривают, будто королева оставила ожерелье себе.
– Как оставила? Она отказалась от него при мне, не пожелала даже на него взглянуть. Глупости, чепуха, барон. Королева не оставляла себе ожерелья.
– Государь, я употребил более мягкое выражение, чем то, которое твердят сплетники. Клевета настолько не считается с великими мира сего, что слова, к которым она прибегает, слишком мучительны для королевского слуха. Слово «оставила»…
– Ах, полноте, господин де Бретейль, – с улыбкой заметил король, – я полагаю, никто не говорит, что королева украла бриллиантовое ожерелье.
– Государь, – поспешно подхватил г-н де Бретейль, – поговаривают, что королева тайком возобновила сделку, которую расторгла в присутствии вашего величества; поговаривают – мне нет нужды повторять вашему величеству, как я, почтительный и преданный ваш слуга, презираю эти гнусные домыслы, – но злые языки утверждают, будто у ювелиров хранится собственноручная расписка ее величества, подтверждающая, что ожерелье осталось у королевы.
Король побледнел.
– И это говорят вслух! До чего же еще договорятся? Право, это весьма меня удивляет, – воскликнул он. – С какой стати королеве покупать ожерелье тайком? Я ничуть не осудил бы ее за это приобретение. Королева – женщина, а ожерелье – прекрасная и уникальная вещица. Королева, слава Богу, в состоянии потратить полтора миллиона на украшения, коль скоро ей придет охота. Я одобрил бы ее; она совершила лишь один промах: ей не следовало скрывать от меня свое желание. Но королю не пристало вникать в такое дело: на это имеет право только супруг. Муж бранит жену, если хочет и если может, но я ни за кем не признаю права вмешиваться в их отношения или злословить на их счет.
Барон склонился, слыша столь благородные и смелые речи. Но твердость Людовика XVI была поверхностна. Едва выказав ее, он вновь начинал колебаться и беспокоиться.
– И потом, – продолжал он, – что вы толкуете о краже? Ведь вы, по-моему, упомянули о краже? Если ожерелье украдено, оно не может находиться у королевы. Это было бы нелогично.
– Гнев вашего величества произвел на меня такое действие, – отвечал барон, – что я не в силах был говорить.
– Гнев? Мой гнев? Ну, барон… Право, барон…
И добродушный король расхохотался.
– Ну да ладно, договаривайте и расскажите мне все как есть. Скажите, что королева продала ожерелье евреям. Бедняжка, она все время нуждается в деньгах, а я не всегда их ей даю.
– Именно об этом я и собирался рассказать вашему величеству. Два месяца назад королева через господина де Калонна обратилась с просьбой о пятистах тысячах ливров, а вы, ваше величество, отказались подписать приказ.
– Верно.
– Так вот, государь, говорят, будто эти деньги предназначались для выплаты первого взноса за купленное ожерелье. Не получив денег, королева отказалась платить.
– Что же дальше? – осведомился король, мало-помалу проникаясь интересом к словам посетителя, как это бывает, когда вызывающий сомнение рассказ начинает обретать правдоподобие.
– Дальше, государь, начинается история, которую я, как усердный слуга вашего величества, обязан вам рассказать.
– А, так это только начало? Что же за ним последует, силы небесные? – воскликнул король, выдав тем самым свое смущение и уступив барону преимущество в разговоре.
– Государь, говорят, будто королева обратилась за деньгами к некоему лицу.
– К кому же? Надо думать, к какому-нибудь еврею?
– Нет, государь, не к еврею.
– О Господи! Вы как-то странно говорите об этом, Бретейль. А, понимаю, я догадался: нити интриги тянутся за границу. Королева попросила денег у брата, у родни. Тут замешана Австрия.
Известно, как чувствителен был король ко всему, что шло из Вены.
– Если бы так! – отозвался г-н де Бретейль.
– Что? Да у кого же в таком случае королева попросила денег?
– Государь, я не смею…
– Вы меня поражаете, сударь, – вскинув голову, произнес король властным тоном. – Немедля объяснитесь и назовите человека, ссудившего королеву деньгами.
– Господин де Роган, ваше величество.
– И вы, не краснея, называете мне имя господина де Рогана, о котором вся Франция знает, что он разорен дотла?
– Государь… – потупившись, начал г-н де Бретейль.
– Нет, мне ваши слова не по вкусу, – перебил король, – и я приказываю вам сию минуту все мне объяснить, господин министр юстиции.
– Нет, государь, ни за что на свете, ибо ничто на свете не заставит меня проронить хотя бы слово, пятнающее честь моего короля и ее величества королевы.
Король нахмурился.
– Мы опустились весьма низко, господин де Бретейль, – сказал он. – Ваше донесение все пропахло миазмами того вертепа, откуда вы его почерпнули.
– Любая клевета проникнута ядовитыми испарениями, государь, и посему необходимо, чтобы короли очищали воздух, прибегая к самым действенным мерам, иначе этот яд достигнет трона и запятнает честь самого государя.
– Господин де Роган! – прошептал король. – Но где тут хоть капля правдоподобия? Неужели кардинал дал понять…
– Ваше величество, вы сами можете убедиться, что господин де Роган вел переговоры с ювелирами Бемером и Босанжем, что продажа ожерелья была улажена при его участии, что он оговорил и принял условия сделки.
– Этого не может быть! – воскликнул король, охваченный гневом и ревностью.
– Это подтвердит первый же допрос. Ручаюсь вашему величеству.
– Ручаетесь?
– Без колебаний, государь, и готов отвечать чем угодно.
Король заметался по кабинету.
– Ужасные вещи творятся, – произнес он, – но во всем этом я не усматриваю кражи.
– Государь, ювелиры утверждают, что получили от королевы расписку и что ожерелье находится у нее.
– А! – подхватил король, у которого вспыхнула надежда. – Так она это отрицает! Вот видите, Бретейль, она это отрицает!
– Помилуйте, государь, да разве я когда-нибудь убеждал ваше величество, что не верю в невиновность королевы? Неужто дела мои настолько плохи, что ваше величество не видит, какое почтение, какую любовь питаю я в своем сердце к этой чистейшей из женщин!
– Значит, вы обвиняете только господина де Рогана…
– Но, государь, я следую очевидности.
– Тяжкое обвинение, барон.
– Возможно, оно повлечет за собой расследование; но расследование ведется без предубеждения. Подумайте, государь, королева утверждает, что ожерелья у нес нет; ювелиры утверждают, что продали его королеве; ожерелье исчезло, и люди произносят слово «кража», присовокупляя к нему имя господина де Рогана и священное имя королевы.
– Верно, верно, – отвечал потрясенный король, – вы правы, Бретейль, это дело необходимо прояснить.
– Иного выхода нет, государь.
– Боже мой! Кто это следует по галерее? По-моему, это господин де Роган направляется в капеллу?
– Нет, государь, господину де Рогану еще не время идти в капеллу. Еще нет одиннадцати, и потом, господин де Роган нынче должен служить мессу, а посему будет в кардинальском облачении. Нет, это не он. У вашего величества еще полчаса в запасе.
– Что же мне делать? Побеседовать с ним? Призвать его сюда?
– Нет, государь, позвольте мне дать совет вашему величеству: не предавайте дело огласке, пока не потолкуете с ее величеством.
– Да, – согласился король, – она скажет мне правду.
– Ни на секунду в этом не усомнюсь, государь.
– Вот что, барон, располагайтесь здесь и, отринув стеснения, ничего не смягчая, изложите мне все обстоятельства дела со всеми пояснениями.
– Здесь в портфеле у меня подробный доклад, снабженный доказательствами.
– В таком случае за работу, погодите только, пока я запру дверь кабинета; на нынешнее утро у меня назначены две аудиенции, но я их отложу.
Король отдал распоряжения и, усаживаясь, бросил последний взгляд в окно.
– А вот это уж точно кардинал, – сказал он. – Поглядите.
Бретейль встал, приблизился к окну и из-за шторы увидел г-на де Рогана: в пышном облачении, как полагалось кардиналу и архиепископу, он шествовал в покои, которые отводились ему всякий раз, когда он служил торжественную мессу в Версале.
– Наконец-то он здесь! – поднявшись на ноги, вскричал король.
– Тем лучше, – отозвался г-н де Бретейль. – Вы сможете объясниться с ним, не откладывая.
И он принялся поучать короля с усердием человека, вознамерившегося погубить другого человека.
В своем портфеле он с дьявольским искусством собрал все, что могло сокрушить кардинала. На глазах у короля росла груда доказательств вины г-на де Рогана, однако Людовик XVI был в отчаянии: доказательств невинности королевы было куда меньше.
Четверть часа он нетерпеливо переносил эту пытку, вдруг в близлежащей галерее послышались крики. Король напряг слух, Бретейль прервал чтение. В дверь кабинета осторожно постучал офицер.
– В чем дело? – осведомился король, которого разоблачения г-на де Бретейля привели в крайнее возбуждение.
Офицер вошел.
– Государь, ее величество королева просит ваше величество удостоить ее своим посещением.
– Случилось нечто новое, – побледнев, заметил король.
– Возможно, – согласился Бретейль.
– Я иду к королеве, – воскликнул Людовик. – Господин де Бретейль, ждите меня здесь.
– Как видно, мы близимся к развязке, – прошептал министр юстиции.
19. Дворянин, кардинал и королева
В тот же час, когда г-н де Бретейль входил к королю, бледный и встревоженный г-н де Шарни испросил у королевы аудиенцию.
Мария Антуанетта одевалась; из окна своего будуара, выходившего на террасу, она увидела Шарни, который настаивал, чтобы его провели к королеве.
Не успел он договорить свою просьбу, как Мария Антуанетта приказала, чтобы его впустили.
Она уступила сердечному желанию; она с благородной гордостью полагала, что чистая, возвышенная любовь, которая на нее низошла, имеет право являться в любое время даже в покои королевы.
Шарни вошел, с трепетом коснулся руки, которую она ему протянула, и задыхающимся голосом произнес:
– Сударыня, какое несчастье!
– Что случилось? – воскликнула она, бледнея при виде его бледности.
– Сударыня, знаете ли вы, что я сейчас узнал? Знаете, что говорят? Знаете, о чем, быть может, уже известно королю или станет известно завтра же?
Она содрогнулась, вообразив, что в ту ночь, исполненную невинного блаженства, ее мог увидеть в версальском парке какой-нибудь завистливый враг.
– Говорите, у меня достанет сил услышать все, – отвечала она, прижав руку к сердцу.
– Говорят, сударыня, будто вы купили ожерелье у Бомера и Босанжа.
– Я отослала его назад, – с живостью возразила она.
– Послушайте, говорят, что вы только сделали вид, будто отослали его; вы якобы надеялись, что сумеете его оплатить, но король помешал вам в этом, отказавшись подписать смету господина де Калонна, и тогда вы обратились за деньгами к одному человеку… к вашему любовнику.
– Оставьте, сударь! – воскликнула королева, поддавшись порыву благородного доверия. – Оставьте! Пускай себе говорят. Им приятно швырять нам, словно оскорбление, слово «любовник», между тем как истине соответствует другое слово – «друг», священное для нас обоих.
Шарни осекся, смущенный этим мощным, всепобеждающим красноречием, которое, подобно тончайшему аромату, источает истинная любовь великодушной женщины.
Он замешкался с ответом, и его молчание удвоило тревогу королевы. Она вскричала:
– О чем вы хотите сказать мне, господин де Шарни? Клевета изъясняется языком, которого я никогда не понимала. Неужели вы его поняли?
– Сударыня, соблаговолите выслушать меня с неослабным вниманием, обстоятельства весьма серьезны. Вчера я ходил вместе с дядей, господином де Сюфреном, к придворным ювелирам, Бемеру и Босанжу. Мой дядя привез из Индии бриллианты, он хотел их оценить. Разговор шел обо всем и обо всех. Ювелиры рассказали господину байи ужасную историю, раздутую врагами вашего величества. Сударыня, я в отчаянии, вы купили ожерелье – пусть так; вы не заплатили за него – пусть и это правда. Но не заставляйте меня поверить, что за него заплатил господин де Роган.
– Господин де Роган? – повторила королева.
– Да, господин де Роган, про которого все думают, что он любовник королевы; у которого королева взяла в долг деньги; которого несчастный Шарни видел в версальском парке, когда он улыбался королеве, преклонял перед ней колени, целовал ей руки…
– Сударь, – вырвалось у Марии Антуанетты, – если за глаза вы верите сплетням, значит, вы меня не любите.
– Мы в большой опасности, – отвечал молодой человек. – Я не прошу у вас ни откровенности, ни ободрения; я умоляю вас об услуге.
– Прежде всего, о какой опасности идет речь? – спросила королева.
– Этой опасности не заметит только безумец, сударыня. Если кардинал ручается за королеву, платит за нее, он ее губит. Я уж не говорю, как мучительно для несчастного Шарни знать о том, каким доверием пользуется у вас господин де Роган. Нет. От такого горя можно умереть, но сетовать на него нельзя.
– Вы с ума сошли! – в ярости вскричала Мария Антуанетта.
– Я не сошел с ума, государыня, но вы попали в беду, близки к гибели. Я сам видел вас в парке. Говорю вам, что не обознался. Сегодня ужасная, убийственная правда вышла наружу. Быть может, господин де Роган похваляется…
Королева схватила руку Шарни.
– Сумасшедший, сумасшедший! – повторила она с невыразимой тревогой в голосе. – Верьте в ненависть, призраки, в невозможное, но во имя неба заклинаю вас, не верьте, что я виновна! Я – виновна! Это слово жжет меня, как горящие уголья… Виновна – и в чем! Это я-то, которая, думая о вас, всякий раз молила Бога, чтобы он простил мне эти мысли, казавшиеся мне преступными! Ах, господин де Шарни, если вы не хотите увидеть ныне мой позор, а завтра смерть, не говорите никогда, что вы меня подозреваете, или бегите как можно далее, чтобы не услышать моего падения, не увидеть, как я испущу дух.
Оливье в тоске ломал руки.
– Выслушайте меня, – сказал он, – если хотите, чтобы я вам помог.
– Это вы-то мне поможете? – вскричала королева. – Вы, жестокостью превосходящий моих врагов? Они ведь только обвиняют меня, в то время как вы – подозреваете! Я никогда, никогда, сударь, не приму помощь от человека, который меня презирает!
Оливье приблизился к ней и взял ее руку в свои.
– Вы убедитесь, – сказал он, – что я не из тех, кто стенает и плачет; каждая минута дорога; вечером будет уже поздно сделать то, что нам осталось сделать. Хотите спасти меня от отчаяния, а себя от позора?
– Сударь!
– Да, перед лицом смерти я не стесняюсь в выражениях. Если вы меня не послушаете, нынче вечером нас обоих уже не будет в живых: вы умрете от бесчестья, я не смогу пережить вашу смерть. Так встретим врага лицом к лицу, сударыня! Пойдемте навстречу опасности, как на войне! Поспешим навстречу смерти! Пойдемте вместе, я буду простым солдатом, безвестным, но храбрым, в этом вы убедитесь; а вы устремитесь в схватку, вооружась королевским величием и силой. Если вы падете – что ж! Вы погибнете не одна. Сударыня, считайте меня своим братом… Вам… нужны деньги, чтобы уплатить за ожерелье?
– Мне?
– Не отпирайтесь!
– Уверяю вас…
– Не говорите, что ожерелья у вас нет.
– Клянусь вам…
– Не клянитесь, если не хотите лишиться моей любви.
– Оливье!
– Вам осталось единственное средство спасти свою честь и мою любовь. Ожерелье стоит миллион шестьсот тысяч ливров, вы уплатили двести пятьдесят тысяч. Вот полтора миллиона, возьмите их.
– Что это?
– Какое вам дело? Берите и уплатите.
– Вы продали свои владения! Вы отдаете мне все, что у вас есть, в уплату долга! Оливье! Вы разорились ради меня! У вас доброе, благородное сердце, и ради такой любви я не стану более скупиться на признания. Оливье, я люблю вас!
– Соглашайтесь!
– Нет – но я вас люблю!
– Значит, уплатит господин де Роган? Подумайте сами, сударыня, это с вашей стороны не великодушие, а жестокость, которая меня убивает… Вы примете деньги от кардинала?
– Полно, господин де Шарни. Я королева, я могу подарить подданным любовь или состояние, но я ничего от них не принимаю.
– Что же вы будете делать?
– Вы сами скажете мне, как я должна поступить. Как по-вашему, что думает господин де Роган?
– Он думает, что вы его любовница.
– Вы жестоки, Оливье…
– Я говорю так, как говорят перед лицом смерти.
– А что, по-вашему, думают ювелиры?
– Что королева не в состоянии уплатить, но за нее заплатит господин де Роган.
– А что думают люди об ожерелье?
– Что оно у вас, но вы его припрятали и признаетесь в этом не раньше, чем оно будет оплачено либо кардиналом, который любит вас, либо королем, который не захочет допустить скандала.
– Хорошо. Теперь, Шарни, посмотрите мне в глаза и отвечайте на мой вопрос: что думаете вы о том, что видели версальском парке?
– Я думаю, сударыня, что вам нужно доказать мне свою невиновность, – горячо возразил благородный молодой человек.
Королева вытерла лоб, по которому струился пот.
– Принц Луи, кардинал де Роган, великий раздаватель милостыни Франции! – прокричал в коридоре голос привратника.
– Это он! – прошептал Шарни.
– Для вас все складывается как нельзя лучше, – заверила королева.
– Вы его примете?
– Я сама велела его позвать.
– А я…
– Ступайте в мой будуар, оставьте дверь приоткрытой и слушайте.
– Сударыня!
– Ступайте скорее, кардинал уже здесь.
Она втолкнула Шарни в комнату, о которой шла речь, неплотно прикрыла дверь и впустила кардинала. Кардинал де Роган ступил на порог. Он был великолепен в церковном облачении. За ним на почтительном расстоянии следовала многочисленная свита, одетая с той же пышностью, что его высокопреосвященство. Среди склонившихся в поклоне людей виднелись Бемер с Босанжем, которым было слегка не по себе в придворных костюмах. Королева пошла навстречу кардиналу с подобием улыбки, которая быстро сошла с ее лица.
Луи де Роган был серьезен и даже печален. Он сохранял спокойствие, подобно отважному воину, идущему в бой, и в то же время от него исходила неуловимая угроза, как от священника, которому дано отпускать грехи. Королева указала на табурет; кардинал остался стоять.
– Ваше величество, – начал он с поклоном, не в силах скрыть дрожь, – мне нужно сообщить много важных вещей, но вы задались целью меня избегать.
– Разве я избегаю вас, ваше высокопреосвященство, – возразила она, – ведь я сама пригласила вас сюда.
Кардинал метнул взгляд в сторону будуара.
– Мы с вами одни, ваше величество? – тихо спросил он. – Могу ли я говорить вполне свободно?
– Вполне свободно, ваше высокопреосвященство; не церемоньтесь, мы с вами одни.
Ее уверенный голос, казалось, стремился достичь слуха молодого человека, который был спрятан в будуаре. Она держалась гордо и смело, стараясь с первых же слов внушить уверенность г-ну де Шарни, который, несомненно, прислушивался к разговору.
Кардинал решился. Он придвинул табурет к креслу королевы, стараясь держаться как можно дальше от двустворчатой двери.
– Какие приготовления! – заметила королева с подчеркнутой шутливостью.
– Дело в том… – начал кардинал.
– В чем же? – переспросила королева.
– Сюда не придет король? – осведомился г-н де Роган.
– Ни король, ни кто другой, не бойтесь, – поспешно отозвалась Мария Антуанетта.
– Ах, я боюсь только вас, – дрогнувшим голосом произнес кардинал.
– Тем более не бойтесь: я нисколько не страшна вам; говорите же коротко, громко, ясно, я люблю откровенность, а если вы будете со мной хитрить, я подумаю, что вам недостает благородства. Прошу вас, говорите начистоту: я слышала, вы на меня в обиде. Скажите мне все как есть: я люблю войну, я не из пугливых! Знаю, что и вам не занимать храбрости. В чем вы можете меня упрекнуть?
Кардинал испустил вздох и встал, словно желая полной грудью вдохнуть воздух комнаты. Наконец он овладел собой и начал.
Как мы уже сказали, королева и кардинал встретились наконец лицом к лицу. Спрятавшись в кабинете, Шарни слышал каждое слово из их разговора; объяснение, которого так страстно ожидали обе стороны, наконец-то началось.
– Ваше величество, – с поклоном произнес кардинал, – вам известно, что творится вокруг вашего ожерелья?
– Нет, сударь, мне это не известно, и я рада была бы узнать это от вас.
– Почему вы, ваше величество, с некоторых пор вынуждаете меня общаться с вами только через посредников? Если у вас появились причины меня ненавидеть, почему вы не хотите объявить мне, в чем они состоят?
– Не знаю, что вы имеете в виду, ваше высокопреосвященство: у меня нет ни малейшего повода вас ненавидеть; но думается мне, что разговор у нас должен пойти не об этом. Благоволите дать мне внятные разъяснения на предмет этого злополучного ожерелья и прежде всего скажите, куда делась графиня де Ламотт?
– Я хотел спросить об этом ваше величество.
– Простите, но кому, как не вам, знать, где находится госпожа де Ламотт?
– Мне, сударыня? С какой стати?
– О, не мое дело выслушивать ваши признания, господин кардинал; мне нужно побеседовать с графиней де Ламотт, я велела вызвать ее, к ней домой уже много раз приезжали мои посланцы, но она не откликнулась. Согласитесь, что это весьма странно.
– Я и сам, государыня, удивлен ее исчезновением, потому что я тоже велел передать госпоже де Ламотт, что желаю ее видеть; мне она не ответила так же, как вашему величеству.
– В таком случае оставим графиню в покое и поговорим о нас.
– Нет, нет, ваше величество, сначала поговорим о ней, потому что речи вашего величества заронили во мне горестное подозрение: мне кажется, что вы, государыня, упрекаете меня в чрезмерном пристрастии к графине.
– Я еще ни в чем не упрекнула вас, сударь, но потерпите.
– О, ваше величество, подобное подозрение объяснило бы мне, насколько чувствительна ваша душа, и, как бы я ни отчаивался, мне стала бы понятна необъяснимая доныне суровость вашего обращения со мною.
– Вот опять мы перестаем понимать друг друга, – заметила королева. – Вы для меня совершенная загадка, и я прошу объяснений вовсе не для того, чтобы мы с вами еще больше поссорились. К делу! К делу!
– Ваше величество, – воскликнул кардинал, умоляюще сложив руки и приблизившись к королеве, – окажите мне милость, не уходите от этого разговора: еще два слова в продолжение нашей беседы, и мы поймем друг друга.
– Право, сударь, я не понимаю языка, на котором вы говорите; перейдем лучше на французский, прошу вас. Где ожерелье, которое я отослала ювелирам?
– Ожерелье, которое вы отослали! – вскричал г-н де Роган.
– Да, как вы с ним поступили?
– Я? Но я ничего о нем не знаю, ваше величество.
– Полно, ведь все проще простого: ожерелье взяла графиня де Ламотт и вернула им от моего имени; ювелиры же уверяют, что они его не получили. У меня в руках расписка, утверждающая обратное: ювелиры говорят, что она подложная. Госпожа де Ламотт могла бы объяснить все в двух словах. Ее не удается отыскать – ну что ж! Позвольте мне, основываясь на этих неясных фактах, высказать свои предположения. Госпожа де Ламотт хотела вернуть ожерелье. Вы же всегда с болезненным упорством, вызванным, разумеется, самыми добрыми чувствами, хотели, чтобы оно досталось мне: вы привезли его ко мне и предложили, что сами за него уплатите, и вот вы…
– Но ваше величество наотрез отвергло мое предложение, – со вздохом сказал кардинал.
– Все так! Да, вы упорствовали в вашем неуемном желании, чтобы ожерелье досталось мне, и потому вы, по-видимому, не вернули его ювелирам, надеясь, что благоприятный случай позволит мне им завладеть. Госпоже де Ламотт известно было, что я в жизни на это не соглашусь, что я не в состоянии заплатить за ожерелье и приняла незыблемое решение не принимать его бесплатно, но она не устояла: она вступила с вами в заговор, полагая, что служит моим интересам, а теперь прячется от меня, опасаясь моего гнева. Скажите, все так и было? Я верно угадала суть этого запутанного дела, да или нет? Я упрекну вас за легкомыслие, за нарушение моего прямого приказа, вы безропотно примете мой выговор, и все будет кончено. Более того, я обещаю вам простить госпожу де Ламотт – пускай она вернется из своего добровольного изгнания. Но ради Бога, отриньте эту скрытность, сударь: я не желаю, чтобы жизнь мою омрачала ныне хоть единая тень, я этого не желаю, поймите.
Королева с такой горячностью произнесла эту тираду, вложив в свои слова столько страсти и значения, что кардинал не смел и не мог ее перебить, но, как только она умолкла, он сказал, подавив вздох:
– Ваше величество, я отвечу на все ваши предположения. Нет, я не упорствовал в мысли, что ожерелье должно принадлежать вам, поскольку был убежден, что оно у вас в руках. Нет, я не вступал с госпожой де Ламотт в заговор относительно этого ожерелья. Нет, ожерелья у меня нет, как нет его у ювелиров и как, по вашим словам, нет его и у вас.
– Быть того не может! – воскликнула королева в изумлении. – Ожерелье не у вас?
– Нет, государыня.
– Это не вы посоветовали госпоже де Ламотт на время скрыться?
– Нет, государыня.
– Не вы ее прячете?
– Нет, государыня.
– И вы не знаете, где она, что с ней?
– Не больше, чем вы, государыня.
– Но как же тогда вы объясняете все, что произошло?
– Ваше величество, я вынужден признать, что у меня нет объяснения. Более того, уже не в первый раз я жалуюсь королеве, что она меня не понимает.
– Когда это вы мне жаловались, сударь? Не помню.
– Смилуйтесь, ваше величество, и соблаговолите припомнить мои письма.
– Ваши письма? – удивилась королева. – Вы мне писали?
– Писал, ваше величество, хоть и выразил в этих письмах лишь малую часть того, что у меня на сердце.
Королева встала.
– Сдается мне, – сказала она, – что оба мы обмануты; давайте поскорее покончим с этой шуткой. О каких письмах вы толкуете? Что это за письма и что такого есть у вас на сердце или в сердце, не помню уж, как именно вы сказали?
– О Господи, ваше величество, не принуждайте меня высказывать в полный голос тайну, заключенную в моем сердце.
– Какую тайну? В своем ли вы уме, ваше высокопреосвященство?
– Государыня!
– Не юлите! Судя по вашим речам, вы словно расставляете мне ловушку и хотите запутать меня при свидетелях.
– Клянусь вам, сударыня, что не сказал ничего такого… Разве кто-нибудь слышит наш разговор?
– Нет, сударь, нет и нет, мы здесь одни, а потому объяснитесь, но только до конца, и если вы в здравом уме, докажите это.
– Ах, государыня, почему здесь нет госпожи де Ламотт? Она, наш с вами друг, помогла бы мне освежить если не ваше чувство ко мне, то хотя бы вашу память.
– Наш с вами друг? Мое чувство? Мою память? Я словно сплю и вижу сон.
– Ваше величество, прошу вас, – вспыхнул кардинал, выведенный из себя язвительным тоном королевы, – пощадите меня. Ваше право разлюбить, но не оскорбляйте меня.
– Силы небесные! – побледнев, возопила королева. – Силы небесные! Что говорит этот человек?
– Прекрасно, – продолжал г-н де Роган, все более воодушевляясь гневом, который вскипал в нем и кружил ему голову, – прекрасно! Ваше величество, я полагаю, что был достаточно сдержан и скромен, чтобы не навлечь на себя вашу немилость; но я ставлю вам в вину только грех легкомыслия. Мне не следовало бы повторяться. Надо было понимать, что слова «я больше не хочу», сказанные королевой, имеют столь же непреложную силу закона, как слово «хочу!», сказанное женщиной.
Королева испустила пронзительный вопль и вцепилась в кружево кардинальского рукава.
– Вы утверждаете, – дрожащим голосом произнесла она, – что я говорила «я больше не хочу!» и что я говорила «хочу!». Кому я сказала первое, а кому второе? Отвечайте!
– И то, и другое вы сказали мне.
– Вам?
– Забудьте об одном, а о другом я никогда не забуду.
– Вы негодяй, господин де Роган, вы лжец!
– Я?
– Вы подлец, вы клевещете на женщину.
Я!
– Вы предатель, вы оскорбляете королеву.
– А вы бессердечная женщина и бесчестная королева.
– Презренный!
– Своими уловками вы постепенно вскружили мне голову. Вы подавали мне надежду.
– Надежду? Боже всемогущий! Или я лишилась рассудка, или этот человек – злодей.
– Разве я осмелился бы просить вас о ночных свиданиях, которые вы мне назначали?
Королева издала яростный вопль, ответом которому был тяжкий вздох в будуаре.
– Разве я посмел бы, – продолжал г-н де Роган, – явиться без спутников в версальский парк, если бы вы не послали за мной графиню де Ламотт?
– Господи!
– Разве я посмел бы украсть ключ от калитки, что за егермейстерским домом?
– Господи!
– Разве я посмел бы попросить у вас эту розу? Обожаемая роза! Проклятая роза! Я иссушил, опалил ее поцелуями!
– Господи!
– Разве я вынудил вас прийти на другой день и протянуть мне обе руки? Их благоухание доныне жжет меня и сводит с ума. Ваш упрек справедлив.
– Довольно же! Довольно!
– И наконец, как бы ни ослепляла меня гордыня, разве я когда-нибудь осмелился бы мечтать о той третьей ночи под открытым небом, о сладостном безмолвии, о преступной любви!
– Сударь! Сударь! – отпрянув, крикнула королева. – Вы кощунствуете!
– Боже всемогущий, – произнес кардинал, возведя глаза к небу, – тебе ведомо, что я отдал бы все мое достояние, свободу, жизнь, лишь бы сохранить любовь этой лживой женщины!
– Господин де Роган, если вы хотите, чтобы ваше достояние, свобода и жизнь остались при вас, вы немедля признаетесь, что хотели меня погубить, что вы выдумали все эти ужасы, что вы не приходили в Версаль ночью…
– Приходил, – гордо возразил кардинал.
– Если вы будете продолжать эти речи, вы умрете.
– Роган никогда не лжет. Я приходил в парк.
– Господин де Роган, господин де Роган, заклинаю вас всем, что есть святого, скажите, что вы не видели меня в парке!
– Если понадобится, я умру, как вы угрожали мне, но в версальском парке, куда привела меня госпожа де Ламотт, я видел вас, и только вас.
– Еще раз спрашиваю вас, – дрожа и слабея, воззвала королева, – вы отрекаетесь от своих слов?
– Нет!
– Второй раз: вы признаете, что возвели на меня гнусный поклеп?
– Нет!
– В последний раз взываю к вам, господин де Роган: вы согласитесь, что вас самого могли ввести в заблуждение, что все это клевета, сон, нечто немыслимое, необъяснимое, – вы признаете, что допускаете мысль о моей невиновности?
– Нет.
Королева выпрямилась; от нее веяло властной беспощадностью.
– В таком случае, – изрекла она, – вам придется иметь дело с королевским правосудием, коль скоро вы отвергли правосудие Божие.
Кардинал безмолвно поклонился.
Королева так яростно дернула звонок, что в комнату вбежали сразу несколько ее дам.
– Уведомите его величество, – приказала она, утирая губы, – что я прошу оказать мне честь своим посещением.
По ее приказу к королю отправился один из офицеров. Кардинал, готовый ко всему, бесстрашно ждал в углу кабинета.
Мария Антуанетта раз десять приближалась к двери будуара, но не входила туда, словно всякий раз, теряя самообладание, обретала его у этой двери.
Тягостное ожидание продлилось не более десяти минут; наконец на пороге, прижимая руку к кружевному жабо, показался король.
В толпе придворных по-прежнему маячили испуганные физиономии Бемера и Босанжа, чувствовавших приближение бури.
Как только король показался на пороге кабинета, королева с необычайной поспешностью обратилась к нему.
– Государь, – сказала она, – вот господин де Роган, он рассказывает нечто невероятное; соблаговолите попросить его, чтобы он повторил свои слова.
Слыша эту речь, этот неожиданный приказ, кардинал побледнел. Все это в самом деле было так странно, что прелат ничего уже не понимал. Как мог он, настойчивый влюбленный и почтительный подданный, повторить своему королю и законному мужу Марии Антуанетты доводы, подтверждавшие его права на женщину, на королеву?
Но король, поглощенный своими размышлениями, повернулся к кардиналу и сказал:
– Вы хотите мне сообщить, что я должен выслушать нечто невероятное относительно ожерелья, не так ли, сударь? Говорите же, я слушаю.
Г-н де Роган тут же принял решение: из двух трудностей он выбрал меньшую; из двух натисков он претерпит лучше тот, который нанесет меньший урон чести короля и королевы; а если они по неразумию обрекут его и на вторую опасность, – что ж, он выдержит это испытание как храбрый воин и безупречный кавалер.
– Да, государь, это касается ожерелья, – пробормотал он.
– Так, значит, вы купили ожерелье, сударь? – спросил король.
– Государь…
– Да или нет?
Кардинал посмотрел на королеву и ничего не сказал.
– Да или нет? – повторила Мария Антуанетта. – Правду, сударь, отвечайте правду, вас просят только об этом.
Г-н де Роган молча отвернулся.
– Поскольку господин де Роган не желает отвечать, скажите сами, сударыня, – велел король, – должно быть, вы что-нибудь обо всем этом знаете. Вы купили это ожерелье? Да или нет?
– Нет! – без колебаний воскликнула королева.
Г-н де Роган задрожал.
– Это слово королевы! – торжественно изрек король. – Господин кардинал, берегитесь.
На губах у г-на де Рогана заиграла презрительная улыбка.
– Вам нечего сказать? – осведомился король.
– В чем меня обвиняют, государь?
– Ювелиры говорят, что продали ожерелье вам или королеве. Они предъявляют расписку ее величества.
– Расписка поддельная, – произнесла королева.
– Ювелиры, – продолжал король, – утверждают, что за отсутствием королевы вы приняли перед ними обязательства в уплате.
– Я не отказываюсь платить, государь, – отвечал г-н де Роган. – Королева не опровергает этого, значит, надо думать, что это правда.
И в завершение своих слов и своей мысли он улыбнулся с еще большим презрением, чем в первый раз.
Королева затрепетала. Презрение кардинала не могло ее оскорбить – ведь оно было незаслуженно, но оно могло быть местью порядочного человека, и ей стало страшно.
– Господин кардинал, – вновь заговорил король, – как бы то ни было, в деле имеется поддельная расписка, скрепленная фальшивой подписью королевы.
– Есть еще и другая фальшивка, – воскликнула королева, – которую также можно вменить в вину благородному дворянину! Она удостоверяет от имени ювелиров, что ожерелье к ним вернулось.
– Королева, – отвечал г-н де Роган все с тем же презрением, – вольна приписывать мне обе фальшивит; тот, кто подделал одну расписку, мог подделать и две, какая разница?
Королева едва сдержала негодование, король жестом велел ей успокоиться.
– Берегитесь, – вновь сказал он кардиналу, – вы усугубляете свое положение, сударь. Я говорю вам: оправдывайтесь! А вы как будто хотите кого-то обвинить.
Кардинал на мгновение задумался, потом, изнемогая под бременем этой загадочной клеветы, невыносимой для его чести, произнес:
– Оправдываться? Ни за что.
– Сударь, известные вам люди утверждают, что у них похищено ожерелье; вы предлагаете уплатить за него и тем самым признаете свою вину.
– Кто в это поверит? – с великолепным высокомерием отрезал кардинал.
– Поверят, сударь, хоть вы и не допускаете подобной мысли.
И лицо короля, обычно столь добродушное, исказила гневная судорога.
– Государь, мне ничего не известно о том, что говорят, ничего не известно о том, что произошло; я могу лишь утверждать, что ожерелья у меня нет; могу утверждать, что бриллианты находятся у человека, который должен был бы в этом признаться, но не желает и вынуждает меня напомнить ему слова Писания: зло обратится на голову того, кто его совершил.
При этих словах королева сделала такое движение, словно хотела взять короля за руку; он сказал ей:
– Сударыня, правда либо на вашей стороне, либо на стороне кардинала. Еще раз спрашиваю: ожерелье у вас?
– Нет! Клянусь честью моей матери, жизнью моего сына! – отвечала королева.
С огромной радостью выслушав этот ответ, король обернулся к кардиналу.
– В таком случае, сударь, коль скоро вы не желаете обратиться к моему милосердию, вами займется правосудие, – сказал он.
– В королевском милосердии нуждаются преступники, государь, – отвечал кардинал, – я предпочитаю правосудие.
– Вы ни в чем не хотите сознаться?
– Мне нечего сказать.
– Но послушайте, сударь, – воскликнула королева, – ваше молчание ставит под удар мою честь!
Кардинал безмолвствовал.
– Ну что ж, а вот я молчать не стану, – продолжала королева. – Молчание его высокопреосвященства жжет меня, как огонь, оно свидетельствует о великодушии, в котором я не нуждаюсь. Узнайте, государь, что преступление кардинала состоит вовсе не в том, что он продал или украл ожерелье.
Г-н де Роган поднял голову, его лицо покрылось бледностью.
– Что это значит? – с тревогой в голосе спросил король.
– Государыня! – пробормотал потрясенный кардинал.
– Ах, никакие доводы, никакие страхи, никакая слабость не замкнет мне рта: сердце приказывает мне кричать на весь свет о моей невиновности.
– О вашей невиновности! – отозвался король. – Сударыня, да у кого достанет дерзости или низости, чтобы вынудить ваше величество к оправданиям!
– Государыня, умоляю вас! – сказал г-н де Роган.
– А, вы задрожали. Значит, я угадала верно: потемки выгодны вашим интригам! А мне любезней яркий свет. Государь, потребуйте от господина де Рогана, чтобы он повторил при вас то, что недавно говорил мне здесь, на этом месте.
– Ваше величество, берегитесь! – вырвалось у кардинала. – Вы переходите границы.
– Как вы сказали? – высокомерно оборвал его король. – Где вы слышали, чтобы с королевой говорили в таком тоне? Я, по-моему, себе этого не позволяю.
– В том-то и дело, государь, – вмешалась Мария Антуанетта. – Его высокопреосвященство говорит с королевой в таком тоне, потому что утверждает, будто имеет на это право.
– Вы, сударь! – прошептал король, становясь мертвенно-бледным.
– Он! – презрительно воскликнула королева. – Он!
– У его высокопреосвященства имеются доказательства? – осведомился король, на шаг приблизившись к принцу.
– У господина де Рогана, по его словам, есть письма! – пояснила королева.
– Говорите, сударь! – настаивал король.
– Письма! – не владея собой от ярости, воскликнула королева. – Предъявите письма!
Кардинал провел рукой по лбу, по которому струился ледяной пот; казалось, он вопрошает Господа, как в одном создании могут соединяться такая отвага и такая испорченность. Однако он молчал.
– Но это еще не все, – продолжала королева, под влиянием великодушного негодования забыв об осторожности. – его высокопреосвященство удостоился свиданий.
– Сударыня! Помилуйте! – простонал король.
– Устыдитесь! – подхватил кардинал.
– Что ж, сударь, – обратилась к нему королева, – если вы не последний негодяй на земле, если для вас есть что-то святое, значит, вы располагаете доказательствами, так предъявите их.
– Нет, сударыня, у меня их нет.
– Неужели ко всем преступлениям вы прибавите еще это? Неужели вы без конца будете меня позорить? У вас есть пособница, сообщница, свидетельница всех ваших дел? Назовите ее нам.
– Кто это? – воскликнул король.
– Госпожа де Ламотт, сударь, – отвечала королева.
– Ах, вот оно что! – заметил король, довольный тем, предубеждение его против Жанны оправдалось. – Вот как обернулось дело! Разыскать эту женщину, допросить ее!
– Да в том и беда! – вскричала королева. – Она скрылась! Спросите у его высокопреосвященства, куда он ее спрятал. Для него была прямая выгода вывести ее из игры.
– Ее вывели из игры другие, – возразил кардинал, – те, кому это было куда выгоднее, чем мне. Вот почему ее теперь невозможно будет найти.
– Но если вы невиновны, сударь, – с негодованием промолвила королева, – помогите же отыскать преступников.
Но кардинал де Роган, метнув на нее последний взгляд, повернулся к ней спиной и скрестил руки на груди.
– Сударь! – объявил оскорбленный король. – Вы пойдете в Бастилию.
Кардинал поклонился и самоуверенным тоном возразил:
– В этой одежде? В кардинальском облачении? На глазах у всего двора? Соблаговолите вообразить, государь, какой поднимется шум, он только усугубит страдания той особы, на которую обрушится всеобщее осуждение.
– Такова моя воля, – горячо возразил король.
– Своей поспешностью вы причините незаслуженное горе высокопоставленному духовному лицу, государь; кара не должна предшествовать осуждению, это незаконно.
– Будет так, как я сказал, – отвечал король, отворяя дверь в соседнюю комнату и ища глазами, кому передать свой приказ.
В комнате был г-н де Бретейль; впившись взглядом в королеву, которая была вне себя от волнения, в разгневанного короля и в застывшего кардинала, он понял, что его недруг пал. Не успел король вполголоса изложить ему приказ, как министр юстиции, присвоив себе обязанности капитана гвардии, крикнул звучным голосом, слышным до самого конца галерей:
– Арестовать господина кардинала!
Г-н де Роган содрогнулся. Ропот голосов под сводами, волнение придворных, внезапное появление королевских гвардейцев – все вместе придавало этой сцене характер зловещего предзнаменования.
Кардинал прошел мимо королевы, не поклонившись ей; гордая австриячка вспыхнула от негодования. Проходя мимо короля, он склонился перед ним в смиренном поклоне, а минуя г-на де Бретейля, глянул на него с такой искусно разыгранной жалостью, что барон счел свое мщение недостаточным.
К кардиналу робко приблизился лейтенант гвардейцев: он словно испрашивал у г-на де Рогана дозволения исполнить полученный приказ.
– Да, сударь, – сказал ему кардинал, – вам следует арестовать именно меня.
– Отведите господина де Рогана в его покои; во время мессы я приму решение, как с ним следует поступить, – изрек король посреди гробового молчания.
Наконец кардинал медленно удалился по галерее в сопровождении лейтенанта гвардейцев, обнажившего голову; король и королева остались одни при распахнутых дверях.
– Сударыня, – промолвил король, дрожа и насилу сдерживаясь, – вы сознаете, что это приведет к публичному судебному разбирательству, к скандалу, который погубит честь преступника?
– Благодарю вас, – воскликнула королева, порывисто сжимая руки Людовика, – вы избрали единственное средство, которое может меня оправдать.
– Вы меня благодарите?
– От всей души. Вы вели себя как истинный король, я – как истинная королева, не правда ли?
– Хорошо же, – отвечал король, охваченный радостью, – наконец-то мы положим конец всем этим низостям. Мы с вами раз и навсегда раздавим змею, и надеюсь, заживем спокойно.
Он поцеловал королеву в лоб и удалился в свои покои.
Тем временем в конце галереи г-н де Роган увидел Бемера и Босанжа, которые поддерживали друг друга, чтобы не упасть.
Еще через несколько шагов он заметил своего скорохода; тот ловил взгляд своего господина, в ужасе от обрушившейся на него беды.
– Сударь, – обратился кардинал к сопровождавшему офицеру, – все будут встревожены, если я не вернусь из Версаля; нельзя ли мне предупредить домочадцев о том, я арестован?
– Ах, монсеньор, пока никто не смотрит, передайте что нужно, – отвечал молодой офицер.
Кардинал поблагодарил; затем он сказал скороходу несколько слов по-немецки и, вырвав страничку из требника, нацарапал на ней записку.
Потом кардинал скатал эту бумажку в трубочку и уронил на пол; офицер тем временем следил, чтобы их не застигли врасплох.
– Я готов следовать за вами, сударь, – сказал ему кардинал.
Затем оба они удалились.
Скороход налетел на записку, как коршун на свою жертву, бросился прочь из дворца, вскочил на коня и ринулся в Париж.
Спускаясь по лестнице в сопровождении своего стража, кардинал видел из окна, как он скачет по полю.
– Она меня губит, – прошептал он, – но я ее спасу. Спасу ради тебя, мой король, ради тебя, Господи, что велишь прощать оскорбления; во имя твое я прощаю другим; прости же и ты мне!
Не успел повеселевший король вернуться к себе в покои и подписать приказ о препровождении г-на де Рогана в Бастилию, как к нему явился граф Прованский; он вошел в кабинет, делая г-ну де Бретейлю знаки, которые тот, невзирая на все свое почтение и добрую волю, не в силах был понять.
Но эти знаки предназначались не министру юстиции; принц повторил их опять, желая привлечь внимание короля, который, поглядывая в зеркало, писал приказ.
Усилия графа не пропали втуне: король заметил его знаки и, выпроводив г-на де Бретейля, осведомился у брата:
– Что означают знаки, которые вы посылали Бретейлю?
– О государь…
– Что означают эти торопливые жесты, этот озабоченный вид?
– Ничего особенного, но…
– Вы, конечно, можете и не отвечать, брат мой, – заметил уязвленный король.
– Государь, дело в том, что я только что узнал об аресте кардинала де Рогана.
– И почему же это известие привело вас, брат, в такое волнение? Или вам кажется, что господин де Роган невиновен? Или мне не следовало обрушиваться на столь могущественную особу?
– Не следовало? Почему же, брат мой. Вы в своем праве. Я вовсе не это хотел сказать.
– Я был бы весьма удивлен, граф Прованский, если бы вы взяли сторону человека, который пытается обесчестить королеву. Я только что виделся с королевой, брат мой, и одного ее слова оказалось достаточно…
– Боже меня упаси обвинять королеву, государь! Вы сами это знаете. У ее величества… моей сестры нет более преданного друга, чем я. Сколько раз мне случалось ее защищать и, не в упрек вам будет сказано, брать ее сторону в спорах с вами?
– В самом деле, брат мой? Разве на нее часто возводят обвинения?
– Не везет мне, государь: что бы я ни сказал, все вам не по вкусу. Я хотел сказать, что королева сама бы не поверила, что я сомневаюсь в ее невиновности.
– В таком случае вы должны радоваться вместе со мной унижению, которому я подверг кардинала, судебному разбирательству, которое за этим последует, скандалу, который положит предел всем измышлениям, коих никто не посмел бы распускать о простой придворной даме, но все охотно повторяют, коль скоро они касаются королевы, потому что она, по общему суждению, недосягаема для клеветы.
– Да, государь, я совершенно одобряю решение вашего величества и полагаю, что в отношении ожерелья все к лучшему.
– Видит Бог, яснее ясного, брат мой! – отвечал король. – Да разве отсюда не видно, что господин де Роган похваляется родственной близостью с королевой, что он от ее имени заключил сделку и приобрел бриллианты, от которых она отказалась, дав повод думать, будто бриллианты находятся в руках у королевы или у кого-то из ее близких? Это чудовищно, и, как сказала она сама, что подумают люди, если выяснится, что она была с ним заодно в этой секретной сделке?
– Государь…
– И потом, вы забываете, брат мой, что клевета никогда не останавливается на полдороге; мало того что легкомыслие господина де Рогана бросает тень на королеву, самые толки о его легкомыслии пятнают ее честь.
– О да, да, брат мой, в деле, касающемся пропажи ожерелья, вы поступили совершенно верно.
– А что, – удивился король, – разве есть еще и другое дело?
– Но, государь… королева, надо думать, говорила вам…
– Говорила мне? О чем говорила?
– Государь, вы ставите меня в неловкое положение… Не может быть, чтобы королева не сказала…
– Да о чем же, сударь? О чем?
– Государь!..
– Ах, вы имеете в виду бахвальство господина де Рогана, его недомолвки, письма, которые он якобы получал?
– Нет, государь, нет.
– Что же тогда? Беседы, которыми королева удостаивала господина де Рогана по поводу этого ожерелья?
– Нет, государь, речь не об этом.
– Я знаю одно, – продолжал король, – я питаю к королеве полнейшее доверие, коего она заслуживает своей прямотой и благородным характером. Ее величество могла с легкостью умолчать обо всем, что произошло. Она с легкостью могла уплатить или заставить уплатить других, а могла попросту не обратить внимания на сплетни; но королева, одним махом покончив со всеми секретами, служившими источником для толков, доказала этим, что обращается прежде всего ко мне, а не к общему мнению. Королева воззвала ко мне, она доверила мне заботу о защите ее чести. Она избрала меня наперсником и судьей, короче, она во всем мне призналась.
– Ну что ж, – отвечал граф Прованский, смущенный менее, чем можно было ожидать, поскольку от него не укрылось, что король вовсе не так убежден, как желает показать, – опять вы берете под сомнение мою дружбу и почтение к королеве, моей сестре. Если вы и впредь будете выслушивать меня с такой подозрительностью, я больше ничего не скажу, опасаясь, как бы вы не приняли меня за ее недруга и обвинителя, в то время как я, напротив, ее защищаю. Между тем обратите внимание, ведь вы изменяете логике. Признания королевы уже открыли вам правду, служащую моей сестре оправданием. Почему же вы не хотите, чтобы вашим глазам открылись и другие истины, которые с еще большей полнотой прояснят всю невиновность нашей королевы?
– Ну вот, брат мой, – неуверенно возразил король, – вы опять прибегаете к обинякам, в которых я ничего не понимаю.
– Ораторский прием, государь, избыток горячности. Увы! Приношу свои извинения вашему величеству: это изъян моего образования. Меня испортил Цицерон.
– Цицерон, брат мой, темен лишь в тех случаях, когда стоит за неправое дело; вы же защищаете правое, так изъясняйтесь же напрямик, во имя неба!
– Осуждая мою манеру изъясняться, вы, государь, понуждаете меня к молчанию.
– Ну вот, уж и рассердился, irritabile genus rhetorum[142], – вскричал король, попавшись на удочку. – К делу, защитник, к делу! Что вам известно в дополнение к тому, о чем мне поведала королева?
– В сущности, ничего, сударь, видит Бог! Но давайте сперва уточним, что именно сказала вам ее величество.
– Королева сказала мне, что ожерелья у нее нет.
– Так.
– Она сказала, что не подписывала письма, которыми располагают ювелиры.
– Так, прекрасно!
– Сказала, что все толки о ее сговоре с господином де Роганом – ложь, измышленная ее врагами.
– Превосходно, сударь!
– И наконец, что она никогда не давала господину де Рогану права думать, будто он значит для нее больше, чем любой из ее подданных, из чужих, посторонних людей.
– А… Она так сказала…
– Так и сказала тоном, не допускающим возражений, потому что кардинал ее не оспорил.
– Итак, государь, если кардинал ее не оспорил, следовательно, он сознался во лжи; его отпирательство подтверждает слухи о том, что некие лица пользуются у королевы предпочтением.
– О Господи, что еще там? – упавшим голосом спросил король.
– Сущая бессмыслица, как вы сами убедитесь. Коль скоро установлено, что господин де Роган не прогуливался вдвоем с королевой…
– Как! – вскричал король. – Утверждают, будто господин де Роган прогуливался вдвоем с королевой?
– Эти слухи опровергла сама королева, государь, и господин де Роган также отказался их подтвердить. Но коль скоро это установлено, вы сами понимаете, что остается загадкой для всех – ведь злоба людская не знает удержу! – зачем же тогда королева гуляла ночью по версальскому парку?
– Ночью, по версальскому парку? Королева?
– И с кем она там гуляла, – бесстрастно продолжал граф Прованский.
– С кем? – прошептал король.
– Несомненно!.. Разве каждый поступок королевы не приковывает к себе всеобщего внимания? А ведь ночью, не ослепленные ни сиянием солнца, ни блеском королевского величия, глаза наблюдателей делаются еще зорче!
– То, что вы говорите, брат мой, – низко! Берегитесь!
– Государь, я повторяю чужие слова, и повторяю с таким негодованием, что надеюсь, это подвигнет ваше величество на выяснение всей правды.
– Как, сударь? Говорят, будто королева прогуливалась ночью, не одна… по версальскому парку?
– Мало того что не одна, государь, – вдвоем… Ах, если бы говорили просто «не одна», на это не стоило бы обращать внимание.
Тут король вспылил:
– Вы сказали мне, что повторяете чужие слова, – сказал он. – Посему докажите, что кто-то в самом деле это говорил.
– К сожалению, это очень легко, – отвечал граф Прованский. – Я располагаю четырьмя свидетельствами: во-первых, моего егермейстера, который видел королеву два дня или, вернее, две ночи подряд, когда она выходила из версальского парка через калитку за егермейстерским домом. Вот письменное свидетельство, скрепленное его подписью. Прочтите.
Король, дрожа, взял бумагу, прочел и вернул брату.
– А это более любопытный документ, государь, исходящий от человека, который несет ночную стражу в Трианоне. Он докладывает, что ночь прошла спокойно, что кто-то стрелял один раз в лесу Сатори – должно быть, браконьер; в парках же все было тихо, не считая того дня, когда там прогуливалась ее величество королева под руку с каким-то дворянином. Взгляните, этот протокол составлен в недвусмысленных выражениях.
Король снова прочел, содрогнулся и бессильно уронил руку.
– Третье свидетельство, – невозмутимо продолжал граф Прованский, – исходит от привратника восточных ворот. Этот человек видел королеву, когда она выходила через калитку за егермейстерским домом. Он сообщает, как была одета королева, – взгляните, государь; далее он говорит, что издали не сумел узнать кавалера, с которым рассталась ее величество; так и написано; но по выправке он принял его за офицера. Этот протокол подписан. Он добавляет еще одно любопытное обстоятельство, не оставляющее сомнений в том, что это была именно королева: ее величество сопровождала графиня де Ламотт, подруга королевы.
– Подруга королевы! – в ярости вскричал король. – Да, все так – подруга королевы!
– Не браните этого честного малого, государь: нельзя ставить ему в вину избыток усердия. Он поставлен сторожить – вот он и сторожит; ему велено следить, вот он и следит. Последний протокол, – продолжал граф Прованский, – представляется мне наиболее надежным. Он составлен слесарем, которому поручено следить за тем, чтобы после вечерней зори все ворота были заперты. Этот человек, вашему величеству он известен, удостоверяет, что видел, как королева вместе с каким-то дворянином входила в купальню Аполлона.
Король, побледнев и задыхаясь от гнева, вырвал бумагу из рук графа и прочел ее.
Граф Прованский продолжал говорить:
– Правда, госпожа де Ламотт находилась не далее чем в двадцати шагах от входа в купальню, а королева оставалась там не более часа.
– Но кто он, этот дворянин? – возопил король.
– Государь, в рапорте он не назван по имени; пускай ваше величество соблаговолит проглядеть последний документ – вот он. Он составлен лесничим, который сидел в шалаше за садовой стеной близ купальни Аполлона.
– Эта бумага помечена следующим днем, – заметил король.
– Да, сударь, лесничий видел, как королева вышла из парка через калитку и выглянула наружу; она опиралась на руку господина де Шарни!
– Господина де Шарни! – вскричал король, почти потеряв голову от гнева и стыда. – Ну что ж… Ну что ж… Ждите меня здесь, граф, мы наконец дознаемся до правды.
И король ринулся прочь из кабинета.
Как только король удалился из покоев королевы, она бросилась в будуар, где находился г-н де Шарни, слышавший каждое слово. Она отворила дверь, затем вернулась и замкнула вход в свои покои; потом, упав в кресло, словно потрясение, которое ей пришлось перенести, лишило ее всех сил, она молча стала ждать, каково будет решение г-на де Шарни, самого грозного ее судьи.
Но ждала она недолго; граф вышел из будуара, он был еще бледнее и печальнее, чем раньше.
– Ну, что? – произнесла она.
– Государыня, – отвечал он, – вы видите: все восстает против нашей с вами дружбы. Раньше вас оскорбляло то, что я поверил в вашу вину, теперь будет оскорблять публичное осуждение; после скандала, разразившегося нынче, у нас с вами не будет больше ни минуты покоя. Враги еще больше ожесточатся при виде первой раны, которую вам нанесли; они облепят вас и будут пить из вас кровь, подобно мухам, слетевшимся к раненой газели…
– Вы ищете нужные слова, – печально заметила королева, – и не находите их.
– Полагаю, что никогда не давал вашему величеству повода сомневаться в моей откровенности, – возразил Шарни, – напротив, подчас я злоупотреблял ею до жестокости; приношу в этом свои извинения.
– Итак, – с чувством сказала королева, – всего, что я сейчас сделала, когда вызвала переполох, бесстрашно напала на одного из наиболее могущественных вельмож в королевстве, открыто вступила во вражду с церковью, подвергла свое доброе имя нападкам парламентов, – всего этого вам недостаточно. Я уже не говорю о том, что доверие ко мне короля навсегда пошатнулось; едва ли это вас занимает. Да и что такое для вас король? Обманутый муж.
И она улыбнулась с такой горечью и болью, что из глаз у нее брызнули слезы.
– О, вы самая благородная, самая великодушная из женщин! – вскричал Шарни. – Я медлю с ответом лишь потому, что не смею следовать велению сердца: я чувствую, что я вас недостоин и не вправе осквернять столь возвышенную душу мольбами о любви.
– Господин де Шарни, вы считаете меня виновной.
– Ваше величество!..
– Господин де Шарни, вы поверили словам кардинала.
– Ваше величество!..
– Господин де Шарни, я настаиваю, чтобы вы сказали, что вы думаете о поведении господина де Рогана.
– Должен признаться, сударыня, кардинал де Роган не показался мне ни сумасшедшим, хоть вы его в этом упрекнули, ни слабым человеком, хоть его можно было заподозрить в слабости; это человек, убежденный в своей правоте, человек, который любил вас и любит; ныне он стал жертвой ошибки, которая приведет его к падению, а вас…
– Меня?
– Вас, государыня, к неизбежному позору.
– Силы небесные!
– Передо мной встает угрожающий призрак гнусной графини де Ламотт, которая исчезла как раз тогда, когда ее свидетельство могло бы вернуть нам все – покой, честь, безопасность на будущее. Эта женщина – ваш злой гений, она бич королевства; вы неосторожно посвятили ее в свои секреты, возможно, даже в самые сокровенные тайны…
– Какие у меня секреты, какие тайны, сударь, о чем вы? – воскликнула королева.
– Ваше величество, кардинал ясно сказал вам и привел доказательства тому, что вы сговорились с ним о покупке ожерелья.
– Ах, вы вновь возвращаетесь к этому, господин де Щарни, – краснея, произнесла королева.
– Простите, простите! Сами видите, я далеко не так великодушен, как вы; и впрямь, я недостоин того, чтобы вы посвящали меня в свои думы. Пытаясь вас смягчить, я лишь гневлю вас.
– Постойте, сударь, – возразила королева, вновь обретя гордость и загораясь гневом, – то, чему верит король, может принять на веру кто угодно; с друзьями я не более сговорчива, чем с супругом. По – моему, мужчина не может любить женщину и искать с нею встреч, коль скоро он не питает к ней уважения. Я не о вас толкую, сударь, – поспешно добавила она, – ведь я не женщина, я королева, и вы для меня не мужчина – вы мой судья.
Шарни склонился в таком низком поклоне, что королеве ничего не оставалось, как удовольствоваться этим изъявлением смирения со стороны своего верного подданного.
– Я советовала вам, – внезапно сказала она, – оставаться в вашем мнении; это было мудрым решением. Вдали от двора, который претит вашим привычкам, вашей прямоте, вашей неопытности, – уж позвольте мне сказать, – так вот, вдали от двора вы бы лучше сумели оценить актеров, играющих свои роли на этой сцене; нужно сохранять оптическую иллюзию, господин де Шарни: перед толпой нельзя обойтись без румян и котурнов. Я слишком снисходительная королева: с теми, кто меня любил, я пренебрегала поддержанием своего королевского величия во всем его блеске. Ах, господин де Шарни, сияние, которое распространяет корона над челом королевы, лишает ее стыдливости, мягкости, ума, а главное, сердца. Ведь она королева, сударь, она властвует надо всеми – зачем ей, чтобы ее любили?
– Я не в силах высказать, государыня, – отвечал Шарни, – какую боль мне причиняет суровость вашего величества. Я мог позабыть, что вы моя королева, но, отдайте мне справедливость, я никогда не забывал, что вы более всех женщин достойны моего уважения и…
– Не продолжайте, я не выпрашиваю милостыню. Да, я говорила, что вам необходимо удалиться. Что-то подсказывало мне: ваше имя окажется замешано в эту историю.
– Сударыня, этого не может быть!
– Вы говорите – не может быть! Да вы только подумайте, каким могуществом обладают те, кто вот уже полгода играет моей репутацией, моей жизнью; разве вы сами не признали, что кардинал убежден в своей правоте, что он действует под влиянием ошибки, в которую его ввели! Те, кто внушает ему подобные убеждения, кто вводит его в подобные ошибки, способны доказать вам, что вы дурной подданный вашего короля и что дружба с вами меня порочит. Кто так ловко выдумывает ложь, те легко обнаружат правду! Не теряйте времени, над вами нависла страшная опасность; удалитесь в ваши земли, избегите скандала, что последует за судебным разбирательством, которое надо мной учинят: я не желаю увлечь вас за собой в бездну, не желаю губить вашу судьбу. Я, слава Богу, ни в чем не виновата и сильна, мне не в чем себя упрекнуть; если понадобится, я готова обнажить грудь, чтобы доказать недругам чистоту моего сердца; я им не поддамся. А для вас это обернется крахом, клеветой, быть может, даже тюрьмой; заберите деньги, которые вы так великодушно мне предложили; верьте, что ни одно благородное движение вашей души не укрылось от меня; что ни одно ваше сомнение меня не оскорбило, ни одно страдание ваше не оставило меня равнодушной; ступайте же и поищите в других краях то, чего не может ныне подарить вам королева Франции: веру, надежду, счастье. Я полагаю, пройдет две недели, пока Париж узнает об аресте кардинала, пока соберется парламент, пока будут выслушаны все свидетельства. Ступайте! У вашего дяди наготове два корабля, в Шербуре, и Нанте, выберите один из них, но расстаньтесь со мной. Я приношу несчастье, оставьте меня. Я в этой жизни дорожила только одним, теперь, лишившись этого, я погибла.
С этими словами королева порывисто поднялась; казалось, она дает понять Шарни, что аудиенция окончена. Со всей почтительностью он быстро приблизился к ней.
– Ваше величество, – произнес он прерывистым голосом, – вы напомнили мне, в чем состоит мой долг. Не в моих владениях, не за пределами Франции затаилась опасность, а в Версале, где на вас пало подозрение, и в Париже, где вас будут судить. Необходимо, сударыня, чтобы все подозрения развеялись, чтобы приговор стал вашим оправданием, и, поскольку вам не найти более преданного свидетеля, более решительного сторонника, чем я, – я остаюсь. Искусные клеветники, сударыня, станут повторять свою клевету. Но вам по крайней мере выпадет неоценимое для благородных людей счастье сойтись с нашими врагами лицом к лицу. Пускай их приведет в трепет величие невинной королевы и отвага человека, который лучше их. Да, я остаюсь, государыня, и верьте мне, вашему величеству более нет надобности скрывать от меня свои мысли: вы знаете, что я не сбегу; вы знаете, что я ничего не боюсь; а еще вы знаете, что, если вы никогда более не захотите меня видеть, вам ни к чему отправлять меня в изгнание. Ах, сударыня, сердца подают друг другу знак и в разлуке, издали они стремятся друг к другу еще более страстно. Вы хотите, чтобы я удалился не ради себя, а ради вас самой; не опасайтесь ничего: я буду достаточно близко, чтобы вас защитить, чтобы вас поддержать, но не для того, чтобы вас оскорбить или навредить вам; не правда ли, вы меня не видели, покуда я целую неделю жил в сотне туазов от вас, ловя каждое ваше движение, каждый шаг, живя вашей жизнью? Поверьте, и впредь будет то же самое, но я не могу исполнить вашу волю, не могу уехать! Да и не все ли вам равно? Разве вы обо мне вспомните?
Она отстранила молодого человека мановением руки.
– Как вам будет угодно, – сказала она, – но… вы поняли меня и не заблуждайтесь относительно того, что я вам сказала. Я не кокетка, господин де Шарни; привилегия истинной королевы – говорить то, что думает, думать то, что говорит; так я всегда и поступаю. Когда-то, сударь, я избрала вас среди всех. Не знаю, что привлекло к вам мое сердце. Я жаждала сильной и чистой дружбы, и я дала вам это понять, не правда ли? Сегодня все изменилось, и я думаю уже не так, как тогда. Ваша душа уже не сестра моей. Я говорю вам об этом с прежней откровенностью, так не будем же мучить друг друга.
– Что ж, ваше величество, – прервал ее Шарни, – я никогда не верил, что вы меня избрали, никогда не верил… Ах, государыня, я не в силах вынести мысль, что вы для меня потеряны. Сударыня, от ужаса и ревности я не помню себя. Сударыня, если вы отнимете у меня свое сердце, я этого не переживу; оно мое, вы мне его вручили, и никто не отнимет его, пока я жив. Ведь вы женщина: смягчитесь, не злоупотребляйте моей слабостью; только что вы ставили мне в вину мои сомнения, а теперь ваши подозрения уничтожают меня.
– Детское, женское сердце! – промолвила королева. – И вы хотите, чтобы я на вас рассчитывала! Нечего сказать, хорошо же мы сумеем защитить друг друга! Да, вы – человек слабый, и горе в том, что я не сильнее вас!
– Если бы вы не были такая, как вы есть, – прошептал он, – я не любил бы вас.
– Как! – страстно и взволнованно воскликнула она. – Неужели эта проклятая, погибшая королева, эта женщина, которую будет судить парламент, которую осудит молва, которую, быть может, прогонит король, ее супруг, – неужели она кому-то дорога?
– Преданному слуге, который перед ней преклоняется и был бы рад пролить свою кровь за одну слезинку, которую она только что уронила.
– Тогда она блаженнейшая из женщин, – вскричала королева, – она горда, она не знает себе равных, она счастливее всех на земле. Она слишком счастлива, господин де Шарни; не понимаю, как эта женщина смела роптать? Простите ее!
Шарни упал к ногам Марии Антуанетты и в порыве священной любви стал покрывать их поцелуями.
В этот миг отворилась дверь, которая вела в потайной коридор, и на пороге застыл, словно громом пораженный, дрожащий король. Он увидел человека, которого обвинил граф Прованский, у ног Марии Антуанетты.
Королева и Шарни обменялись взглядами, в которых застыл такой ужас, что самый жестокий их недруг сжалился бы над ними.
Шарни медленно поднялся и склонился перед королем в почтительном поклоне.
Сердце Людовика XVI лихорадочно билось под кружевным жабо.
– А, господин де Шарни, это вы! – глухо произнес он.
Вместо ответа граф еще раз поклонился.
Королева чувствовала, что не в силах вымолвить слово, что она погибла.
Между тем король с поразительной сдержанностью продолжал:
– Господин де Шарни, мало чести для дворянина быть настигнутым с поличным во время кражи.
Кражи? прошептал Шарни.
– Кражи? – повторила королева, у которой еще стояли в ушах чудовищные обвинения, касавшиеся ожерелья; она предположила, что граф, подобно ей, окажется замаран этим делом.
– Да, – подтвердил король, – стоять на коленях перед чужой женой – это кража; а коль скоро речь идет о королеве, преступление называется оскорблением величества. Вам это подтвердит мой министр юстиции, господин де Шарни.
Граф хотел заговорить; он хотел оправдаться, но королева, движимая великодушным нетерпением, не могла вынести, чтобы при ней упрекали в недостойном поступке человека, которого она любит; она пришла ему на помощь.
– Государь, – поспешно сказала она, – мне кажется, что вы склоняетесь к недобрым опасениям и готовы заподозрить Бог знает что; уверяю вас, вы на ложном пути. Я вижу, что почтительность лишает графа дара речи; но, зная, что у него на сердце, я считаю своим долгом встать на его защиту.
Тут она смолкла, слабея от волнения и страшась той лжи, которую ей необходимо было, но никак не удавалось изобрести.
Однако эта нерешительность, пагубная на взгляд горделивой королевы, обернулась сущим спасением для женщины. В такие чудовищные минуты, когда честь и жизнь застигнутой женщины поставлены на карту, подчас довольно бывает выиграть несколько мгновений, чтобы спастись, в то время как потерянные мгновения были бы чреваты гибелью.
Повинуясь инстинкту, королева уцепилась за возможность передышки; она пресекла подозрения короля; она сбила его с толку и позволила графу собраться с мыслями. Такие решающие мгновения обладают огромной силой: они усыпляют ревность, и бывает, что навсегда, если бес-искуситель ревнивцев не разбудит ее вновь.
– Уж не хотите ли вы мне внушить, – отвечал Людовик XVI, от роли короля переходя к роли подозрительного мужа, – будто я не видел де Шарни на коленях перед вами, сударыня? Он стоял перед вами на коленях, и вы его не поднимали, а это значит…
– Это значит, – сурово возразила королева, – что подданный французской королевы испрашивал у нее некую милость… Я полагаю, что такое достаточно часто случается при дворе.
– Испрашивал у вас некую милость? – воскликнул король.
– А я отказывала ему в этой милости, – продолжала королева. – Иначе, уверяю вас, господин де Шарни не стал бы упорствовать, а я тут же велела бы ему подняться, радуясь, что могу исполнить желание дворянина, к коему питаю необычайное уважение.
Шарни перевел дух. Во взгляде короля появилась нерешительность, и лицо его, принявшее поначалу крайне угрожающее выражение, несколько прояснилось.
Тем временем Мария Антуанетта лихорадочно искала выхода, снедаемая яростью, что принуждена лгать, и отчаянием, что не может придумать правдоподобной лжи.
Она надеялась, что любопытство короля будет удовлетворено ее признанием; она, дескать, не в силах оказать графу милость, о которой он просит. Она мечтала, что допрос на этом прекратится. Но она заблуждалась. Любая другая женщина на ее месте повела бы себя с большей ловкостью, проявив меньшую непреклонность, однако лгать при любимом человеке было для нее невыносимой пыткой. Выставлять себя в столь жалком и двусмысленном свете, юлить, ломать комедию означало заключить все уловки, все хитрости, коих уже потребовала от нее загадка, связанная с парком, столь же бесчестной развязкой; это было почти то же самое, что признать себя виновной; это было хуже смерти.
Она еще колебалась. Она была бы рада отдать жизнь, чтобы Шарни сам изобрел какую-нибудь ложь; но он, рыцарь без страха и упрека, был на это неспособен, да и не пытался. В своей щепетильности он боялся даже подать вид, что готов вступиться за честь королевы.
Все, что заложено в этой изобилующей возможностями сцене, которую мы описываем, быть может, с излишним многословием, могли бы выразить и передать в полминуты трое актеров.
Впившись взглядом в губы короля, Мария Антуанетта напряженно ждала вопроса, и вопрос этот наконец прозвучал.
– Ну что ж, сударыня, какой милости тщетно добивался от вас господин де Шарни, так что ему пришлось даже опуститься перед вами на колени?
И, словно желая смягчить суровость, с которой он допытывался до правды, король добавил:
– Быть может, я окажусь более счастлив, чем вы, сударыня, и господину де Шарни не придется опускаться передо мной на колени.
– Государь, я сказала вам, что просьба господина де Шарни невыполнима.
– И все же в чем она состоит?
«О чем можно просить на коленях? – терялась в догадках королева. – О чем можно умолять? Чего я не в силах исполнить? Ну же? Ну?»
– Я жду, – произнес король.
– Видите ли, государь, просьба господина де Шарни касается семейной тайны.
– Ни у кого не может быть тайн от короля: он владыка своего королевства и отец, пекущийся о чести и безопасности всех своих подданных: все они его дети, даже те, – добавил Людовик XVI с царственной угрозой в голосе, – даже те изверги, которые покушаются на честь и безопасность своего отца.
От этих угрожающих слов королеву бросило в дрожь.
– Господин де Шарни, – воскликнула она в смятении и ужасе, – господин де Шарни испрашивал у меня…
– Что же, сударыня?
– Разрешения на брак.
– Вот как! – вскричал король, мгновенно удовлетворившись таким объяснением. Но тут же в нем снова заговорила ревность.
– Но в таком случае, – продолжал он, не замечая, каких мук стоило бедной женщине выговорить эти слова, как побледнел Шарни, от которого не укрылись ее страдания, – но в таком случае почему же господину де Шарни невозможно вступить в брак? Разве он не принадлежит к высшей знати? Разве он не обладает огромным состоянием? Разве он не отважен, не красив? Никто не откажется принять его в свою семью, ни одна женщина его не отвергнет – разве только принцесса крови или замужняя дама; кроме этих двух случаев, я не вижу никаких непреодолимых препятствий. Итак, сударыня, назовите мне имя той женщины, на которой желает жениться господин де Шарни, и, если она не принцесса крови и не замужем, ручаюсь вам, что преодолею все препоны… в угоду вам.
Королева, под угрозой все возрастающей опасности, вынужденная громоздить одну ложь на другую, горячо продолжала:
– Нет, сударь, нет, есть на свете препятствия, которых вы не в силах преодолеть. Та, о которой мы говорим, из их числа.
– Тем более я желаю знать, какие препятствия не по силам королю, – с глухой яростью перебил король.
Шарни взглянул на королеву: казалось, у нее подгибаются ноги. Он готов был уже подбежать к ней, но неподвижность короля пригвождала его к месту. По какому праву он, чужой человек, предложит руку женщине, которую оставляет без помощи ее король и супруг?
«Что же это за сила, – думала она, – над которой король не властен? Господи, помоги мне, вразуми меня!»
И вдруг ее осенило.
«Видно, сам Господь прислал мне помощь, – прошептала она. – Тех, кто принадлежит Богу, никто не может у него отнять, даже король».
И наконец она, выпрямившись, отвечала королю:
– Государь, та, на ком хочет жениться господин де Шарни, находится в монастыре.
– А, это дело серьезное, – воскликнул король. – В самом деле, нелегко отнять у Господа его добро и отдать человеку. Но мне странно, что господина де Шарни посетила столь внезапная любовь: никто никогда мне об этом не говорил ни слова, даже его дядюшка, которому я ничем не отказываю. Кто же та женщина, которую вы любите, господин де Шарни, скажите, прошу вас?
Королеву пронзила душераздирающая боль. Сейчас Оливье назовет имя, и его ложь обернется для нее пыткой. И кто знает, быть может, Шарни припомнит имя той, которую когда-то любил, воскресит доныне мучительный для него образ минувшего или назовет имя, с которым связана для него робкая, смутная надежда на грядущую любовь. Мария Антуанетта решила предвосхитить этот мучительный удар. Она воскликнула:
– Государь, та, на которой хочет жениться господин де Шарни, вам знакома: это… мадемуазель Андреа де Таверне.
Шарни испустил стон и закрыл лицо руками.
Королева прижала руку к груди и почти без чувств упала в кресло.
– Мадемуазель де Таверне! – повторил король. – Мадемуазель де Таверне… Это та, что удалилась в обитель Сен-Дени?
– Да, государь, – чуть слышно пролепетала королева.
– Насколько мне известно, она еще не дала обет?
– Вскоре она должна принять постриг.
– Мы в это вмешаемся, – объявил король. – А почему – спросил он, вновь поддавшись недоверчивости, – почему она решила постричься в монахини?
– Она бедна, – пояснила Мария Антуанетта. – Вы обогатили только ее отца, – с укором добавила она.
– Это мой промах, и я его исправлю, сударыня. Ее любит господин де Шарни…
Королева затрепетала и бросила на молодого человека умоляющий взгляд, словно призывая его опровергнуть слова короля. Шарни пристально взглянул на Марию Антуанетту и промолчал.
– Хорошо! – изрек король, который принял молчание как знак почтительного согласия. – А мадемуазель де Таверне, несомненно, любит господина де Шарни? Я дам мадемуазель де Таверне приданое; я подарю ей те самые пятьсот тысяч ливров, которые недавно не дал для вас господину де Калонну. Благодарите королеву, господин де Шарни, за то, что она соблаговолила рассказать мне о вашем деле и тем устроила счастье всей вашей жизни.
Шарни сделал шаг вперед и поклонился, бледный, как статуя, ожившая на миг по воле всевышнего.
– О, дело стоит того, чтобы вы еще раз преклонили колени, – заметил ему король с тем легким оттенком вульгарной насмешки, который слишком часто проскальзывал у него посреди унаследованного от предков обычного благородства.
Королева содрогнулась и, повинуясь порыву, протянула обе руки молодому человеку. Он стал перед нею на колени и запечатлел на ее прекрасных руках, холодных как лед, поцелуй, в который, казалось, вложил всю свою душу.
– Ну ладно, – сказал король, – предоставим ее величеству позаботиться о вашем деле; пойдемте, сударь, пойдемте.
И он быстро прошел вперед, так что Шарни успел обернуться на пороге и поймать горестный взгляд королевы, посылавшей ему вечное прощание.
Дверь за ними затворилась, навеки положив непреодолимый предел этой невинной любви.
Королева осталась одна; она была в отчаянии. На нее обрушилось разом столько ударов, что она уже не понимала, который из них ранит ее мучительнее.
Не меньше часа она пребывала в сомнениях и смертельной усталости, но потом сказала себе, что нужно поискать выход. Опасность настала. Король, в восторге оттого, что улики опровергнуты, станет трубить об этом направо и налево. И огласка может уничтожить все плоды обмана.
Увы! Королева корила себя за этот обман, ей хотелось вернуть назад сказанное, она готова была отнять даже у Андреа призрачное счастье, от которого девушка еще, быть может, откажется!
В самом деле, тут крылась новая трудность. Имя Андреа во всем убедило короля. Но кто поручится за столь капризное, независимое, своевольное создание, как эта мадемуазель де Таверне? Можно ли рассчитывать, что эта гордая особа поступится своей свободой, своим будущим ради королевы, которую не столь давно покинула, не скрывая враждебности?
Что же будет? Андреа откажется, это вполне возможно; все нагромождение лжи рухнет. Королева прослывет заурядной интриганкой, Шарни – пошлым чичисбеем, обманщиком, и то, что прежде было клеветой, обернется неопровержимым обвинением в супружеской измене.
Мария Антуанетта чувствовала, что мысли ее путаются; она почти готова была уступить неизбежному; и вот она замерла, уткнув пылающее лицо в ладони.
Кому довериться? Кто истинная подруга королевы? Г-жа де Ламбаль? Ах, чистое, рассудительное создание! И эта холодность, эта непреклонность! К чему смущать ее девственное воображение? А все эти придворные дамы, в угодливости своей готовые льстить всем, кому сопутствует успех, пуще всего на свете боящиеся даже легкой немилости, пожалуй, даже рады будут проучить свою королеву, если ей понадобится их помощь.
Оставалось только обратиться к самой мадемуазель де Таверне. Ее сердце – чистый бриллиант: грани его легко режут стекло, но неодолимая твердость и прозрачная чистота могут спасти королеву в ее великих горестях.
Итак, Мария Антуанетта решилась ехать к Андреа. Она поведает девушке о своей беде и умолит ее смягчиться. Андреа, конечно, будет отказываться: она не из тех, кем можно помыкать; но постепенно она уступит мольбам королевы и согласится. Да и кто знает, не удастся ли выпросить отсрочку: когда минует первая горячка, король, умиротворенный видимым согласием между женихом и невестой, может обо всем забыть. Тогда они уедут, и все будет улажено. Андреа и Шарни могут покинуть Париж, стоустая клевета потеряет к ним интерес, все будут думать, что влюбленные дали друг другу слово, и никому в голову не придет, что это сватовство было комедией.
Тогда мадемуазель де Таверне не придется поступаться своей свободой, Шарни также останется свободным. И королеве не придется испытывать угрызения совести при мысли о том, что она пожертвовала двумя судьбами во имя спасения своей чести, а между тем и ее честь, и нерасторжимая с нею честь супруга и детей останется неуязвима. Мария Антуанетта передаст ее во всем блеске грядущей королеве Франции.
Таковы были ее мысли.
Таким образом, она заранее привела, как ей казалось, к согласию свои интересы и законы приличия. Под угрозой столь ужасной опасности следовало все обдумать с неукоснительной логикой. Перед встречей с такой опасной противницей, как мадемуазель де Таверне, которая склонна была слушаться не сердца своего, а своей гордыни, следовало хорошо вооружиться.
Все обдумав, Мария Антуанетта решила ехать. Она бы рада была предупредить Шарни, чтобы он не сделал какого-нибудь ложного шага, но ее останавливала мысль о том, что она наверняка окружена шпионами и любой ее поступок в такой миг будет дурно истолкован; она была настолько убеждена в рассудительности, преданности и решимости Оливье, что не сомневалась: он одобрит все, что она сочтет нужным предпринять.
Было уже три часа пополудни; начался обед, сопровождавшийся обычной парадной пышностью, затем представления, визиты. Королева принимала визитеров с безмятежным челом и с приветливостью, которая прекрасно сочеталась с ее всем известной гордостью. С теми, кого она числила среди своих врагов, она вела себя особенно твердо, как ведут себя люди, не знающие за собой никакой вины.
При дворе было многолюдно, как никогда: в королеву, над которой нависла угроза, впивались тысячи любопытных взглядов. Мария Антуанетта предстала перед всеми, повергла врагов, привела в восторг друзей; равнодушных она превратила в усердных поклонников, усердных – в пылких обожателей и при этом блистала такой красотой и держалась так величаво, что сам король выразил ей во всеуслышание свое восхищение.
А когда все было кончено, она стерла с лица деланную улыбку, вновь предалась своим воспоминаниям, своим горестям; она осталась одна, совсем одна в этом мире; она переменила туалет – теперь на ней была серая шляпа с голубыми лентами и цветами, шелковое платье стального цвета, – села в карету в сопровождении одной-единственной дамы и приказала везти себя в аббатство Сен-Дени.
В это время монахини расходились по кельям и после сдержанного шума, царившего в трапезной, погружались в молчаливые размышления, предшествовавшие вечерней молитве.
Королева велела позвать в приемную мадемуазель Андреа де Таверне.
В просторном домашнем платье из белого льна девушка стояла на коленях у окна и смотрела, как над старыми липами встает луна; поэзия наступающего вечера вдохновляла ее на страстные, горячие молитвы, которые она воссылала Господу, облегчая душу.
Андреа со всем пылом предалась неутолимой печали добровольного изгнания. Эта пытка знакома только сильным душам; в ней есть и мука, и отрада. Она сопряжена с тою же тоской, что и все горести на свете. Но есть в ней блаженство, которое дано изведать только тем, кто способен принести счастье в жертву гордыне.
Андреа сама покинула двор, сама порвала со всем, что питало ее любовь. Гордая, как Клеопатра, она не перенесла бы мысли о том, что г-н де Шарни думает о другой женщине, будь эта женщина даже королевой.
У нее не было никаких доказательств, что Шарни пылко влюблен в другую. Малейшие улики не ускользнули бы от внимания ревнивой Андреа. Но разве она не видела, как Шарни равнодушно прошел мимо нее? Разве не подметила, что королева дорожит, пускай бессознательно, но дорожит поклонением и восхищением Оливье?
Зачем же тогда ей было оставаться в Версале? Вымаливать комплименты? Ловить улыбки? Время от времени радоваться, что он предложил ей руку, коснулся ее руки на прогулке, когда королева уступит ей своего любезного спутника, вынужденная ненадолго удалить его от себя?
Нет, стоицизм Андреа не допускал унизительной слабости, не допускал сделок. Любовь и взаимность означают жизнь, любовь и раненая гордость сулят монастырь.
– Никогда! Никогда! – твердила гордая Андреа. – Тот, кого я буду любить в безвестности, кто останется для меня тенью, образом, воспоминанием, тот никогда меня не оскорбит, тот всегда будет мне улыбаться и никогда не обманет!
Вот почему она провела столько печальных, но безмятежных ночей; вот почему Андреа была счастлива, что может плакать, когда ее одолевает слабость, проклинать судьбу, когда наступает отчаяние. И добровольное уединение, позволявшее ей не поступаться ни любовью, ни достоинством, было ей дороже, чем возможность видеть человека, которого она ненавидела за то, что не могла не любить.
В сущности, безмолвные размышления о чистой любви, возвышенный восторг одинокой души были для дикарки Андреа куда привлекательнее, чем блестящие версальские празднества, и необходимость склоняться перед соперницами, и страх выдать тайну, заключенную в сердце.
Мы уже сказали, что вечером в день Святого Людовика королева приехала в Сен-Дени; Андреа, погруженная в задумчивость, сидела у себя в келье.
К ней пришли и сообщили, что прибыла королева, что капитул принимает ее величество в большой приемной и что после первых приветствий Мария Антуанетта осведомилась, нельзя ли ей поговорить с мадемуазель де Таверне.
И странное дело, для Андреа, чье сердце было размягчено любовью, этого оказалось достаточно, чтобы потянуться навстречу аромату Версаля, аромату, который еще накануне она проклинала, но который становился ей все дороже, чем дальше она от него отходила: он сделался ей дорог, как все, что исчезает, все, что забывается, дорог – почти как сама любовь!
– Королева! – прошептала Андреа. – Королева в Сен-Дени! Королева меня зовет!
– Скорее, не мешкайте, – поторопили ее.
Она и в самом деле не стала мешкать: накинула на плечи длинную монашескую накидку, подпоясала широкое платье льняным поясом и, не бросив ни единого взгляда в свое зеркальце, поспешила вслед за привратницей, которая за ней пришла.
Но не сделала она и ста шагов, как собственная радость показалась ей унизительной.
«Почему мое сердце так встрепенулось? – спросила она себя. – Какое дело Андреа де Таверне до того, что французская королева посетила аббатство Сен-Дени? Чем мне гордиться? Королева приехала не ради меня. Чему мне радоваться? Я больше не люблю королеву. Ну, успокойся, же, дурная монахиня: ты не принадлежишь ни Богу, ни свету, так постарайся хотя бы держать себя в руках».
Так распекала себя Андреа, спускаясь по главной лестнице; усилием воли она согнала с лица румянец нетерпения, умерила поспешность движений. Поэтому последние шесть ступеней она одолела медленнее, чем предыдущие тридцать.
Когда Андреа миновала хоры и вступила в парадную приемную, где руки послушниц уже успели зажечь люстры и затеплить свечи, она была бледна и спокойна.
Едва она услышала, как привратница, которую за ней посылали, произносит ее имя, едва заметила Марию Антуанетту, сидевшую в кресле аббатисы в окружении самых высокородных монахинь капитула, которые толпились вокруг нее, девушка затрепетала и с трудом прошла оставшиеся шаги.
– Подойдите же, мадемуазель, я хочу с вами поговорить, – с полуулыбкой обратилась к ней королева.
Андреа приблизилась и склонила голову.
– Вы позволите, мать моя? – спросила королева, обернувшись к настоятельнице.
В ответ та присела в реверансе и вышла из приемной, а за нею и остальные монахини.
Королева осталась наедине с Андреа, чье сердце билось так громко, что, казалось, его биение можно было бы услышать, когда бы не медленный стук маятника старинных часов.
Разговор, как подобало, начала королева.
– Вот и вы, мадемуазель, – с тонкой улыбкой сказала она. – Как странно видеть вас в монашеском одеянии!
Андреа не отвечала.
– Видеть старую приятельницу, – продолжала королева, – уже порвавшую с миром, в котором все мы еще живем, – это все равно что внимать суровому назиданию, исходящему из гроба. Вы согласны со мной, мадемуазель?
– Ваше величество, – возразила Андреа, – разве кто-нибудь посмеет читать назидания королеве? Сама смерть и та явится к королеве без предупреждения. Да и может ли быть иначе?
– Почему?
– Потому, государыня, что королева в силу своего высокого положения предназначена для того, чтобы не претерпевать никаких лишений, кроме самых неизбежных. Она обладает всем, что может украсить ее жизнь; а если чего-либо ей недостает, она берет это у других.
На лице у королевы отразилось удивление.
– Таково право коронованной особы, – поспешила добавить Андреа. – Для королевы – все люди подданные, чье достояние, честь и сама жизнь принадлежат властителям. Значит, и жизнь, и честь, и все духовные и земные богатства людей суть собственность королевы.
– Эта теория меня удивляет, – медленно произнесла Мария Антуанетта. – По-вашему, королева у нас в стране – это некая сказочная людоедка, поглощающая счастье и богатство обычных людей. Разве я такова, Андреа? Скажите начистоту, разве у вас были поводы на меня жаловаться, когда вы жили при дворе?
– Ваше величество, вы уже изволили задавать мне этот вопрос, когда я покидала двор, – ответила Андреа. – Ныне я отвечаю так же, как тогда: нет, государыня.
– Но часто бывает, – вновь заговорила королева, – что нас огорчает обида, причиненная вовсе не нам. Быть может, я навредила кому-нибудь из ваших близких и тем заслужила суровые слова, которые вы мне сказали? Андреа, в эту обитель, которую вы избрали себе убежищем, не должно быть доступа мирским страстям. Здесь Господь учит нас кротости, смирению, умению прощать – тем добродетелям, в коих он служит нам образцом. Неужели сестра моя во Христе, которую я здесь посетила, встретит меня с насупленным челом и желчными речами? Неужели я, приехавшая сюда как друг, услышу упреки и найду вражду и непримиримость?
Андреа подняла взгляд, пораженная таким миролюбием, к коему отнюдь не были приучены люди Марии Антуанетты: когда ей противоречили, она становилась суровой и надменной.
Одинокая дикарка Андреа была глубоко тронута тем, что королева без гнева выслушала ее речи, явив чудеса терпения и дружеского участия.
– Вы хорошо знаете, ваше величество, – уже тише сказала она, – что никто из Таверне не может быть вашим врагом.
– Понимаю, – возразила королева, – вы не простили мне холодности по отношению к вашему брату; быть может, он сам винит меня в легкомыслии, в переменчивости?
– Мой брат слишком почтительный подданный, чтобы винить королеву, – сказала Андреа, не позволяя себе смягчаться.
Королева поняла, что, пытаясь приручить Цербера, задабривая его медом, она только возбуждает подозрения. Поэтому она сменила тактику.
– Как бы то ни было, – сказала она, – я приехала в Сен-Дени, чтобы потолковать с аббатисой, и мне захотелось увидеться с вами и заверить вас, что вдали, как и вблизи, я остаюсь вашим другом.
Андреа уловила этот оттенок; она испугалась, что в свой черед оскорбила ту, которая хотела ее обласкать; еще больше испугало ее, что она неосторожно приоткрыла проницательному взору другой женщины свою тяжкую рану.
– Желание вашего величества для меня большая честь и большая радость, – печально ответила она.
– Не говорите так, Андреа, – возразила королева, сжимая ее руку, – вы надрываете мне сердце. Да неужели несчастная королева обречена не иметь ни единой подруги, ни одной близкой души; неужели, встречаясь глазами с таким ясным взглядом, как ваш, она будет искать в нем только корысть или ненависть? Что ж, Андреа, позавидуйте королевам, владычицам достояния, чести и жизни своих подданных! Да, они королевы! Да, и золото, и кровь народа принадлежит им – но только не сердца, не сердца! Сердец они отнять не могут: они могут лишь получить их в дар.
– Уверяю вас, ваше величество, – дрогнув под влиянием этой горячей речи, возразила Андреа, – что я любила вас так, как никогда уже не полюблю в этой жизни.
И, покраснев, она опустила голову.
– Вы меня любили? – воскликнула королева, на лету уловив смысл сказанного. – Значит, вы более меня не любите?
– О, ваше величество!
– Я ничего у вас не прошу, Андреа. Будь проклят монастырь, который так быстро убивает сердца!
– Не вините мое сердце, – пылко возразила Андреа, – оно мертво.
– Ваше сердце мертво. Вы ли это, Андреа? Молодая, прекрасная – вы утверждаете, что ваше сердце мертво! О, не играйте этими зловещими словами. У кого сердце мертво, у тех не бывает такой красоты, такой улыбки; нет, Андреа, не наговаривайте на себя.
– Повторяю вам, ваше величество, ничто при дворе, ничто в свете меня больше не манит. Здесь я живу, как трава, как растение: у меня есть мне одной ведомые радости; вот почему только что, когда я увидела вас, свою блистательную государыню, я, робкая отшельница, не сразу поняла, что происходит: мои глаза зажмурились, ослепленные вашим блеском; умоляю вас, простите меня: в том, что я забыла суетную пышность света, нет большого греха; мой духовник каждый день хвалит меня за это, ваше величество, молю вас, не будьте ко мне строже, чем он.
– Так вам нравится в монастыре? – спросила королева.
– Я наслаждаюсь уединением.
– И не жалеете ни о каких радостях мира?
– Ни о каких.
«Силы небесные! – подумала королева. – Неужели я потерплю поражение?»
И по ее жилам пробежал смертельный холод.
«Попробуем ее искусить, – решила она. – Если это средство не удастся, прибегнем к мольбам. Боже милосердный, неужели мне придется умолять ее, чтобы она не отвергала господина де Шарни! За что мне такая мука!»
Справившись с волнением, Мария Антуанетта заговорила вновь:
– Андреа, вы столь решительно изъявили свое довольство, что лишили меня надежды, которую я питала.
– Какой надежды, ваше величество?
– Не будем об этом говорить, коль скоро намерения ваши так тверды… Увы, я лелеяла тень мечты, но вот она развеялась! Я живу среди теней! Не будем больше к этому возвращаться.
– И все-таки, ваше величество, раз уж вам этого хотелось, объясните мне…
– Зачем же? Вы удалились от мира, не правда ли?
– Да, государыня.
– По доброй воле?
– О да, по доброй воле.
– И вы довольны своим решением?
– Как никогда прежде.
– Вот видите, в таком случае мои речи излишни. Бог свидетель, я на мгновение поверила, что могу сделать вас счастливой.
– Меня?
– Да, вас, неблагодарная, а вы еще на меня роптали. Но теперь вам открылись иные радости, вы лучше, чем я, знаете, что вам по вкусу, в чем ваше призвание. И я отказалась…
– Сделайте милость, ваше величество, скажите мне в конце концов, о чем идет речь.
– О, ничего особенного: я хотела вернуть вас ко двору.
– Вернуть меня ко двору? – с горькой улыбкой воскликнула Андреа. – О Господи! Ни за что, никогда, как ни мучительно мне ослушаться вас, ваше величество!
Королева задрожала. Ее сердце пронзила невыразимая боль. Она терпит поражение – могучий корабль наскочил на крохотный гранитный утес.
– Вы отказываетесь? – прошептала она и, чтобы не выдать своего смущения, закрыла лицо руками.
Видя, что королева страдает, Андреа подошла и опустилась перед ней на колени; она словно надеялась, что ее почтение смягчит боль, которую она причинила Марии Антуанетте, уязвив ее дружбу или гордость.
– Полноте, – сказала она, – что бы вы стали делать при дворе со мной – печальной, ничтожной, нищей, отверженной, которой все избегают, потому что женщинам я не в силах внушить даже капли ревности, а мужчинам – даже легкого интереса и влечения? Ах, государыня, обожаемая моя госпожа, оставьте в покое монахиню, которую даже Бог не призывает к себе, видя ее никчемность, – даже Бог, прибежище убогих телом и духом. Оставьте меня.
– Поверьте, то, что я хотела вам предложить, – продолжала королева, поднимая взгляд, – опровергло бы все унижения, на которые вы жалуетесь! Благодаря замужеству, которое я имела для вас в виду, вы стали бы одной из самых блестящих дам во всей Франции.
– Благодаря замужеству?.. – пробормотала изумленная Андреа.
– Вы отказываетесь? – спросила королева, теряя всякую надежду.
– Да, отказываюсь, отказываюсь!
– Андреа… – начала было королева.
– Ваше величество, я отказываюсь.
У Марии Антуанетты болезненно сжалось сердце: пора было переходить к мольбам. Она встала с кресла, растерянная, дрожащая, в нерешительности не зная, с чего ей начать свои уговоры, и тут Андреа заступила ей дорогу. Удерживая ее за край платья – ей показалось, что королева сейчас уйдет, – она попросила:
– Ваше величество, окажите мне хотя бы одну огромную милость: назовите человека, который желал бы видеть меня спутницей жизни; я столько страдала от унижений, что имя этого великодушного человека…
И она улыбнулась горестной улыбкой.
– Имя его отныне будет бальзамом для моей израненной гордости.
Королева заколебалась, но нужно было идти до конца.
– Господин де Шарни, – печальным и спокойным тоном произнесла она.
– Господин де Шарни? – вскричала потрясенная Андреа. – Господин Оливье де Шарни?
– Да, господин Оливье, – подтвердила королева, удивленно глядя на девушку.
– Племянник господина де Сюфрена? – допытывалась Андреа; щеки у нее раскраснелись, глаза вспыхнули, как звезды.
– Племянник господина де Сюфрена, – отвечала Мария Антуанетта, со все возрастающим удивлением следя за тем, как переменилось лицо Андреа.
– Скажите, ваше величество, вы хотите выдать меня за господина Оливье?
– Да, именно за него.
– И он… согласен?
– Он к вам сватается.
– Я согласна, согласна! – в упоении, в восторге воскликнула Андреа. – Значит, он любит меня – и я его люблю!
Бледная, трепещущая королева с глухим стоном отпрянула и в изнеможении упала в кресло; Андреа, ничего не замечая вокруг, кинулась целовать ей колени, платье, обливать ее руки слезами и покрывать их жгучими поцелуями.
– Когда мы едем? – спросила она, когда от невнятных стонов и вздохов смогла перейти к словам.
– Следуйте за мной, – прошептала королева, которой казалось, что жизнь отлетает от нее; но, прежде чем умирать, нужно было спасти свою честь.
Она встала, оперлась об Андреа, которая потянулась к ее ледяной щеке пылающими губами. Пока девушка собиралась в дорогу, у несчастной вершительницы судеб тридцати миллионов подданных вырвался горький стон:
– Боже, Боже мой! Не слишком ли много страданий для одного сердца?
Но она тут же добавила:
– И все-таки следует возблагодарить Господа: он спас моих детей от позора, благодаря ему я умру королевой!
27. От чего растолстел барон де Таверне
Покуда в аббатстве Сен-Дени королева распоряжалась судьбой мадемуазель де Таверне, Филипп, чье сердце надрывалось от горестных известий и открытий, поспешно готовился к отъезду.
Солдату, привыкшему бродить по свету, нужно не так уж много времени, чтобы собрать сундук да накинуть на плечи дорожный плащ. Но у Филиппа были более веские, чем у любого другого, причины поскорей расстаться с Версалем: он не хотел быть свидетелем скорого и неминуемого позора, который грозил королеве, его единственной любви.
Поэтому он еще быстрее обычного оседлал лошадей, зарядил пистолеты, сложил в сундук вещи, без которых ему труднее всего было обойтись на чужбине, а затем послал к г-ну де Таверне-отцу с сообщением, что желает с ним поговорить.
Старикашка в это время возвращался из Версаля, на ходу удовлетворенно подпрыгивая икрами и гордо неся округлившееся брюшко. За последние три-четыре месяца барон изрядно растолстел и гордился этим, что нетрудно понять: он считал тучность свидетельством наивысшего довольства жизнью.
А наивысшее довольство жизнью означало для г-на де Таверне очень и очень многое.
Итак, барон возвращался в игривом расположении духа с прогулки водворен. Вечерами он причащался всех скандалов, которые разыгрывались днем. Он улыбался г-ну де Бретейлю в знак презрения к г-ну де Рогану; улыбался г-ну де Субизу и г-ну де Гемене в знак презрения к г-ну де Бретейлю; улыбался графу Прованскому, выказывая тем пренебрежение королеве; улыбался графу д'Артуа в знак вражды к графу Прованскому; словом, его улыбки свидетельствовали о вражде, которую он питал к целой куче людей, но не свидетельствовали ни о единой дружбе. Гуляя, он пополнял запасы злости и мелких пакостей, а набрав их полную корзину, возвращался домой в отменном расположении духа.
Когда он узнал от лакея, что сын желает с ним побеседовать, он не стал ждать, пока явится Филипп, а сам пошел ему навстречу.
Он без доклада вошел в комнату, где царил беспорядок, предшествующий отъезду.
Филипп не ждал, что отец, узнав о его решении, ударится в чувствительность, но и полного равнодушия он тоже не ожидал. В самом деле, Андреа уже покинула родительский дом – одна жертва ускользнула от своего мучителя; с ее уходом в жизни старого барона образовалась пустота, и теперь, когда к его потерям добавится отъезд последнего мученика, барон, подобно ребенку, у которого забрали сперва собачку, а потом птичку, может из чистого эгоизма пуститься в жалобы.
Каково же было удивление Филиппа, когда барон разразился ликующим смехом и вскричал:
– А, уезжаешь, уезжаешь!
Филипп посмотрел на отца с изумлением.
– Я в этом не сомневался, – продолжал барон. – Готов был побиться об заклад, что так ты и сделаешь. Прекрасно сыграл, мой мальчик, прекрасно сыграл!
– О чем вы, сударь? – осведомился молодой человек. – В чем, по-вашему, состоит моя игра?
Старик замурлыкал себе под нос, подпрыгивая на месте и поглаживая руками чуть наметившееся брюшко. В то же время он отчаянно подмигивал Филиппу, намекая, чтобы тот услал лакея.
Филипп понял, чего хочет отец, и повиновался. Барон вытолкал Шампаня за дверь и запер за ним. Потом приблизился к сыну и тихо сказал:
– Превосходно, сын мой, превосходно!
– Сударь, я не возьму в толк, – холодно отвечал Филипп, – чем я заслужил вашу похвалу.
– Ах-ах-ах! – вихляясь, поддразнил его старик.
– Разве что ваша веселость вызвана тем, что я уезжаю и вы от меня избавитесь.
– Ох-ох-ох!.. – снова поддразнил его старый барон. – Ладно уж, меня-то можешь не стесняться, не стоит труда: ты же знаешь, что меня не проведешь… Ах-ах-ах!
Филипп скрестил руки на груди; он всерьез заподозрил, что старик потихоньку сходит с ума.
– Чем я вас не проведу? – спросил он.
– Своим отъездом, черт побери! Ты воображаешь, будто я поверил в твой отъезд?
– Вы не верите, что я уезжаю?
– Поскольку Шампань вышел, я тебе отвечу: не прикидывайся; впрочем, согласен, тебе ничего больше не оставалось, как решиться на это, вот ты и решился. Слава Богу!
– Сударь, вы меня до того удивляете…
– Да, то, что я догадался, достойно удивления; но что же ты хочешь, Филипп? Я самый любопытный человек на свете, и, когда что-нибудь возбуждает мое любопытство, я начинаю искать; притом я всегда необычайно удачлив в поисках; вот я и обнаружил, что твой отъезд – притворный, с чем тебя и поздравляю.
– Притворный? – воскликнул пораженный Филипп.
Старик подошел поближе, дотронулся до груди молодого человека пальцами, костлявыми, как пальцы скелета, и доверительно произнес:
– Клянусь честью, я убежден, что, не пустись ты на эту уловку, все вышло бы наружу. Ты вовремя спохватился. Может быть, завтра было бы уже поздно. Поспеши, дитя мое, поспеши.
– Сударь, – ледяным тоном отвечал Филипп, – уверяю вас, я не понимаю ни слова, ни единого слова из того, что вы изволите мне говорить.
– Где ты припрячешь лошадей? – продолжал старик, избегая прямого ответа. – Кобыла у тебя очень уж приметная: берегись, как бы ее не обнаружили здесь, когда сам ты, по общему мнению, будешь уже… Кстати, куда ты якобы собрался?
– Я еду в Таверне-Мезон-Руж, сударь.
– Хорошо, очень хорошо. Ты едешь якобы в Мезон-Руж. Никто ничего не узнает. Да, но только… Все-таки веди себя осторожно: на вас обоих устремлено столько глаз!
– На нас обоих? О ком это вы?
– Видишь ли, она так порывиста… – продолжал старик, – ее горячность может погубить вас. Берегись! Будь благоразумнее, чем она.
– Нет, право слово, – в глухой ярости вскричал Филипп, – вы, сударь, потешаетесь надо мной, и, клянусь, это бессердечно с вашей стороны, это дурно; видя, что я в горе и в раздражении, вы толкаете меня на забвение сыновней почтительности.
– Ну, почтительности я от тебя больше не требую: ты уже достаточно взрослый, чтобы улаживать наши дела, и справляешься с этим так ловко, что я сам проникаюсь к тебе почтением. Ты у нас Жеронт, а я Шалый[143]. Оставь же мне адрес на случай, если мне надо будет переслать тебе какое-нибудь срочное сообщение.
– В Таверне, сударь, – сказал Филипп, решив, что старик наконец-то образумился.
– Да ты надо мной смеешься! В Таверне, за восемьдесят лье! Ты вообразил, что, коль скоро мне захочется подать тебе срочный совет, я буду насмерть загонять гонцов на дороге в Таверне, и все ради правдоподобия? Полно, я же не прошу, чтобы ты указал мне свой дом в парке: я понимаю, моих посланцев там могут выследить, мои ливреи могут узнать, но выбери какой-нибудь третий адрес в четверти часа пути от своего убежища; что ж, разве у тебя недостанет воображения, черт побери? Тот, кто так искусно улаживает свои любовные дела, как ты, доказал свою сообразительность!
– Дом в парке, любовные дела, воображение? Сударь, мы играем в загадки, но разгадкой владеете вы один.
– Второго такого скрытного чудовища свет не видывал! – с досадой вскричал отец. – Никогда не видел, чтобы кто-нибудь запирался с таким обидным упорством! Можно подумать, ты боишься, что я тебя выдам. Забавно!
– Сударь! – вне себя простонал Филипп.
– Ладно, ладно! Оставь свои тайны при себе, а тайну своего местопребывания оставь в егермейстерском доме.
– Я, по-вашему, жил в егермейстерском доме?
– А тайну своих ночных прогулок вверь попечению двух своих очаровательных подруг.
– Мои ночные прогулки?.. – бледнея, прошептал Филипп.
– А тайну сладких, как мед, поцелуев дари цветочкам и росе.
– Сударь, – взревел Филипп, пьянея от неистовой ревности, – извольте замолчать!
– Будет, будет, я только напоминаю тебе твои же дела. Я ведь сказал, что мне все известно! А ты в этом сомневался? Черт возьми, мог бы сразу мне поверить. Твоя близость с королевой, твои попытки, что были встречены столь благосклонно, твои прогулки в купальню Аполлона – да это счастье и довольство для всех нас! Так не бойся меня, Филипп, доверься мне.
– Сударь, вы внушаете мне ужас! – воскликнул Филипп, закрывая лицо руками.
И в самом деле, несчастный Филипп испытывал ужас перед человеком, который выставил на обозрение все его раны и, не довольствуясь тем, что обнажил их, беспощадно разбередил их и углубил. Да, он испытывал ужас перед человеком, который приписывал ему счастье его соперника и, воображая, будто льстит ему, нещадно терзал его этим чужим счастьем.
Все, что барон узнал и о чем догадался, все, что злопыхатели приписывали г-ну де Рогану, а люди, лучше осведомленные, г-ну де Шарни, – все это старик отнес на счет своего сына. Он полагал, что королева любит Филиппа и что Филипп мало-помалу украдкой возносится к самым высотам королевских милостей. В этом и заключалось полное довольство, от которого вот уже несколько недель росло брюшко г-на де Таверне.
Завидев эту новую трясину бесчестья, Филипп содрогнулся при мысли, что в нее толкает его единственный человек, который должен был бы не меньше его дорожить честью семьи. Удар был настолько жесток, что он застыл, оглушенный, не находя слов, меж тем как барон с небывалым пылом продолжал молоть языком.
– Да, мастерски ты обделал дело, – говорил он, – всех сбил со следа. Сегодня я в полусотне взглядов прочел: «Это Роган», в доброй сотне: «Это Шарни!» Две сотни сказали мне: «Это Роган и Шарни!» И ни в одном, слышишь ли, ни в одном не было написано: «Это Таверне». Повторяю тебе, ты мастерски обделал дело, и это самый скромный из комплиментов, которые я готов тебе принести. Впрочем, это делает честь вам обоим, мой дорогой. Ей – потому что она тебя выбрала. Тебе – потому что она у тебя в руках.
Филипп, которого эти похвалы привели в ярость, испепелял безжалостного старика негодующим взглядом, предвещавшим грозу, как вдруг во дворе особняка послышался стук кареты, и внимание Филиппа привлекли странный шум и беготня.
Слышно было, как Шампань крикнул:
– Барышня! Барышня приехала!
И несколько голосов подхватило:
– Барышня!
– Какая барышня? – спросил Таверне. – Что там еще за барышня?
– Это сестра! – прошептал изумленный Филипп, узнавший Андреа, которая выходила из кареты, освещенная факелом привратника.
– Ваша сестра? – переспросил старик. – Андреа? Неужели?
Вошедший Шампань подтвердил слова Филиппа.
– Сударь, – сказал он Филиппу, – мадемуазель ваша сестра ждет вас в будуаре, смежном с большой гостиной; она желает с вами побеседовать.
– Пойдемте к ней! – вскричал барон.
– Она хочет видеть меня, – возразил Филипп с поклоном. – С вашего позволения, я пойду к ней первый.
В тот же миг во двор с шумом въехала вторая карета.
– Черт побери, еще кто-то приехал! – пробормотал барон. – Ну и вечер! Сплошные приключения.
– Его сиятельство граф Оливье де Шарни! – крикнул голос привратника, обращавшегося к лакею.
– Проводите графа в гостиную, – сказал Шампаню Филипп, – его примет господин барон. А я иду к сестре, в будуар.
Двое мужчин медленно спустились по лестнице. «Зачем сюда явился граф де Шарни?!» – гадал Филипп.
«Зачем приехала Андреа?» – раздумывал барон.
Гостиная была расположена в передней части особняка на первом этаже. Налево от нее находился будуар, оттуда можно было выйти на лестницу, которая вела в покои Андреа.
Направо была расположена малая гостиная, смежная с большой.
Филипп быстро вошел в будуар, где ждала сестра. Еще в вестибюле он ускорил шаги: ему не терпелось обнять свою любимицу.
Не успел он отворить двойную дверь будуара, как Андреа бросилась ему на шею и расцеловала его, вся так и лучась радостью, от которой Филипп, печальный влюбленный и несчастный брат, давно отвык.
– Силы небесные, что с тобой случилось? – спросил молодой человек у Андреа.
– Радость! Большая радость, брат!
– И ты вернулась, чтобы со мной поделиться?
– Я вернулась навсегда! – воскликнула Андреа в порыве восторга, и голос ее зазвенел на весь дом.
– Тише, тише, сестричка, – сказал Филипп, – эти стены отвыкли от радости; кроме того, в гостиную, от которой нас отделяет эта дверь, сейчас придет человек, который может тебя услышать.
– Человек? Какой человек? – удивилась Андреа.
– Послушай, – отозвался Филипп.
– Его сиятельство граф де Шарни. – возвестил лакей, вводивший Оливье из малой гостиной в большую.
– Это он! Это он! – вскричала Андреа и с новой силой стала осыпать брата поцелуями. – Иди же к нему! Уж я-то знаю, зачем он приехал!
– Ты знаешь?
– Еще бы мне не знать! Я даже вспомнила, что одежда моя в беспорядке, а поскольку я предвижу, что скоро и мне придется пожаловать в гостиную, чтобы услышать своими ушами то, что собирается сказать господин де Шарни…
– Ты не шутишь, дорогая Андреа?
– Слушай, слушай, Филипп, и пусти меня: я пойду к себе в комнаты. Королева увезла меня так неожиданно! Пойду и сменю монастырское платье на наряд… невесты.
Последнее слово она шепнула на ухо Филиппу, сопроводив его веселым поцелуем, а затем легко и беззаботно упорхнула на лестницу, которая вела в ее покои.
Оставшись один, Филипп приложил ухо к двери, которая вела в гостиную, и стал слушать.
Граф де Шарни был уже в гостиной. Он медленно мерил шагами паркет; казалось, он не столько ждал, сколько размышлял.
Затем в гостиную вошел г-н де Таверне-отец; он приветствовал графа изысканно вежливым, но сдержанным поклоном.
– Чему обязан честью вашего неожиданного посещения, граф? – начал он. – Смею заверить, что оно для меня – большая радость.
– Я прибыл к вам по торжественному поводу, сударь, и прошу меня извинить, что мой дядя, байи де Сюфрен, не приехал со мною вместе, как подобало бы при таких обстоятельствах.
– Право, я принимаю ваши извинения, мой дорогой господин де Шарни, – пролепетал барон.
– Я сознаю, что с той просьбой, с какой я намерен к вам обратиться, уместнее было бы прибыть нам обоим.
– Что же это за просьба? – спросил барон.
– Имею честь, – произнес Шарни твердым голосом, – просить у вас руки вашей дочери, мадемуазель де Таверне.
Барон подскочил на месте. Глаза у него заблестели, он жадно ловил каждый звук голоса графа де Шарни.
– Моей дочери… – прошептал он. – Вы сватаетесь к Андреа?
– Да, господин барон, если мадемуазель де Таверне не питает отвращения к этому союзу.
«Вот оно что! – подумал старик. – Значит, Филипп уже в такой чести, что один из его бывших соперников желает извлечь из этого выгоду, женившись на его сестре. Ей-богу, недурной ход, господин де Шарни!»
Вслух с улыбкой он отвечал:
– Ваше желание – такая честь для нашего дома, ваше сиятельство, что я уступаю ему с большой радостью, насколько это в моей власти; мне остается уведомить дочь, дабы вы поскорее пришли к окончательному согласию.
– Сударь, – холодно возразил граф, – полагаю, что это был бы излишний труд. Королева изволила самолично справиться у мадемуазель де Таверне о ее намерениях, и ответ вашей дочери оказался для меня благоприятен.
– Ах, вот как! – воскликнул восхищенный барон. – Сама королева…
– Да, сударь, сама королева соблаговолила посетить аббатство Сен-Дени.
Барон встал.
– Мне остается, граф, дать вам отчет о состоянии мадемуазель де Таверне. Документы касательно наследства, доставшегося ей от матери, хранятся у меня наверху. Ваша невеста небогата, граф, и, прежде чем принять окончательное решение…
– Излишние заботы, господин барон, – сухо отвечал Шарни. – Я богат за двоих, а когда речь идет о такой женщине, как мадемуазель де Таверне, торг неуместен. Напротив, я, со своей стороны, хотел дать вам отчет, господин барон, о своем состоянии.
Не успел он договорить, как дверь будуара отворилась, и на пороге показался бледный, смятенный Филипп; одну руку он спрятал на груди, другая была судорожно стиснута в кулак.
Шарни церемонно раскланялся с ним; Филипп вернул поклон.
– Сударь, – сказал он, – мой отец был прав: мы оба должны дать вам необходимые разъяснения. Пускай барон поднимется наверх за бумагами, а я тем временем буду иметь честь потолковать с вами подробнее о нашем деле.
И взглядом, исполненным непреодолимой властности, Филипп приказал барону удалиться; тот, предвидя подвох, нехотя вышел.
Филипп проводил отца до дверей из малой гостиной, желая убедиться, что за дверью никого не будет. Затем он заглянул в будуар и, уверившись, что никто не слушает, кроме гостя, сказал, скрестив руки на груди и глядя графу в глаза:
– Господин де Шарни, как вы посмели свататься к моей сестре?
Оливье отпрянул и залился румянцем.
– Вы хотели получше скрыть свою связь с женщиной, которую преследуете и которая вас любит? Или надеялись, что люди не заподозрят женатого человека в том, что у него есть любовница?
– Сударь, право… – пролепетал униженный Шарни, у которого подгибались колени.
– Или вы рассчитываете, что ваша любовница приблизит к себе вашу жену и вам легче станет встречаться с нею, с вашей обожаемой возлюбленной?
– Сударь, вы переходите границы!
– Или, быть может, и я склонен думать именно так, – продолжал Филипп, наступая на Шарни, – вы знаете, что, сделавшись вашим шурином, я не придам огласке все, что мне известно о вашей недавней связи?
– Все, что вам известно? – в ужасе воскликнул Шарни. – Берегитесь! Берегитесь!
– Да, – все более распаляясь, продолжал Филипп, – мне известно все: и то, что вы сняли егермейстерский дом, и ваши тайные прогулки по версальскому парку ночью, и вздохи, и пожимания рук, и нежные взгляды у калитки…
– Сударь, заклинаю вас! Вы ничего не знаете, сударь, признайтесь, что вам ничего не известно!
– Это мне-то ничего не известно? – с убийственной иронией вскричал Филипп. – Да ведь я прятался в зарослях за самой калиткой, что позади купальни Аполлона, когда вы вышли оттуда под руку с королевой.
Шарни сделал два шага как человек, сраженный смертельным ударом, который ищет опоры.
Филипп в молчании сверлил его яростным взглядом.
Пускай он страдает, этот соперник, пускай хоть мимолетной мукой искупит те часы незабываемого блаженства, которых не мог ему простить Филипп.
Наконец Шарни оправился от потрясения.
– Что ж, сударь, – произнес он, – даже после ваших слов я прошу у вас руки мадемуазель де Таверне. Если бы я был низким искателем выгод, если бы я стремился к этому браку ради себя самого, как вы только что предположили, я был бы таким негодяем, что боялся бы человека, который держит в руках мою тайну и тайну королевы. Но королеву нужно спасти, сударь, иного выхода нет.
– Что за беда для королевы, – возразил Филипп, – в том, что господин де Таверне видел, как она пожимала руку господину де Шарни и возводила к небу глаза, увлажненные счастьем? Что за беда, если я знаю, что она вас любит? Я не вижу, сударь, какая надобность приносить в жертву королеве мою сестру, и я не допущу этой жертвы.
– Сударь, знаете ли вы, почему этот брак должен состояться, иначе королева погибла? Потому что нынче утром, когда арестовали господина де Рогана, король застал меня на коленях у ног королевы.
– Господи!
– И на вопрос короля, в котором пробудилась ревность, королева ответила, что я на коленях просил у нее руки вашей сестры. Вот почему, сударь, я должен жениться на вашей сестре, иначе королева погибла. Теперь вы понимаете?
Слова Оливье были прерваны криком и вздохом, прозвучавшими одновременно. Вздох шел из будуара, крик – из малой гостиной.
Оливье бросился туда, откуда послышался вздох: в будуаре он увидел Андреа де Таверне, одетую в белое платье, как невеста. Она слышала весь разговор и лишилась чувств.
Филипп выбежал на крик в малую гостиную. Он увидел распростертое тело барона де Таверне; известие, что королева любит Шарни, разбило все его надежды и поразило его, словно удар грома.
Сраженный апоплексическим ударом, барон испустил дух.
Предсказание Калиостро исполнилось.
Филипп сразу все понял, понял он и то, как позорна эта смерть; он молча покинул труп и вернулся в гостиную, к Шарни, который смотрел на холодную, бесчувственную Андреа, дрожа и не смея до нее дотронуться.
Через две отворенные двери видны были оба тела, отца и дочери, простертые там, где настигла их чудовищная весть.
В глазах у Филиппа стояли слезы, сердце у него кипело, но он нашел в себе силы обратиться к графу де Шарни:
– Барон де Таверне умер. После него главой семьи стал я. Если мадемуазель де Таверне выживет, я отдам ее вам в жены.
Шарни с отвращением посмотрел на труп старого барона, с отчаянием – на неподвижную Андреа. Филипп меж тем рвал волосы на голове и обращал к небу стоны, которые могли бы тронуть сердце самого Господа Бога на его предвечном престоле. Когда буря, бушевавшая у него в груди, улеглась, он сказал:
– Граф де Шарни, я даю вам слово от имени сестры, которая теперь нас не слышит: она пожертвует своим счастьем ради королевы, а я, если мне будет дано такое счастье, пожертвую ради нее жизнью. Прощайте, господин де Шарни, прощайте, шурин.
Он поклонился Оливье, который не знал, как ему пройти, поскольку оба выхода загораживали жертвы; Филипп поднял Андреа, обнял ее и дал дорогу графу, который удалился через будуар.
29. Сперва дракон, потом гадюка
Теперь нам пора вернуться к тем героям нашей истории, которых мы, в угоду сюжету, а также в согласии с исторической истиной, вынуждены были отодвинуть на второй план.
Олива уже собиралась бежать под опеку Жанны, но внезапно близ нее очутился Босир, уведомленный анонимным письмом, Босир, трепетавший с тех самых пор, как Олива опять исчезла; он похитил ее из дома Калиостро, покуда г-н Рето де Билет напрасно ждал ее в конце улицы Золотого короля.
Убедившись, что ее провели, г-жа де Ламотт послала всех доверенных людей, каких только могла найти, на розыски счастливых любовников, в поимке которых был так заинтересован г-н де Крон.
Графиня де Ламотт, как мы понимаем, предпочитала сама беречь свою тайну, а не доверять ее чужому попечению, и для успеха в ведении дела, которое она готовила, ей необходимо было упрятать Николь понадежнее.
Невозможно описать тревогу графини, когда все ее эмиссары, вернувшись один за другим, доложили, что поиски оказались тщетными.
В ее убежище поступал приказ за приказом от королевы, где ей предписывалось явиться и дать отчет о том, как она поступила с ожерельем.
Ночью она, спрятав лицо под вуалью, уехала в Бар-сюр-Об, где у нее был свой домик; неузнанная, она окольными путями добралась до места и решила спокойно обдумать свое положение. Она выиграла два-три дня, которые могла провести наедине с собой; она позволила себе передышку, чтобы вновь собраться с силами и не дать возведенному ею зданию клеветы рассыпаться в прах.
Для этой непостижимой женщины два дня передышки означали борьбу, в которой она должна была обуздать свой дух и тело, чтобы совесть, грозное оружие, никогда не обратилась против преступницы, чтобы кровь послушно бежала по жилам, не бросаясь в лицо пристыженной или испуганной интриганке.
Король и королева приказали ее разыскать, но к тому времени, когда им сообщили о местонахождении графини, та уже подготовилась к войне. За нею прислали нарочного. Графине уже было известно, что кардинал арестован.
Другая на ее месте пришла бы в ужас от этой грозной атаки, но Жанне было уже нечего бояться. Много ли потянет чья-то свобода на тех весах, на которых что ни день взвешивают жизнь и смерть.
Когда она узнала, что королева бросила кардиналу обвинение и он заключен в тюрьму, она хладнокровно сделала из этого вывод:
«Королева сожгла свои корабли; теперь ей нет дороги назад. Отказавшись уладить дело с кардиналом полюбовно и заплатить ювелирам, она поставила на карту все. Это доказывает, что она сбросила меня со счетов и не представляет себе, какими силами я располагаю».
Такую броню отковала себе Жанна; и тут перед ней нежданно-негаданно вырос человек, не то офицер полиции, не то гонец, возвестивший, что ему велено доставить се ко двору.
Гонец собирался везти ее прямо к королю, но Жанна с присущей ей находчивостью вымолвила:
– Вы любите королеву, сударь, не правда ли?
– Какие тут могут быть сомнения, ваше сиятельство, – отозвался гонец.
– Тогда во имя вашей любви и почтения, которое вы питаете к государыне, заклинаю вас: отвезите меня сначала к ее величеству.
Офицер пытался возражать.
– Наверняка вы лучше меня знаете, в чем дело, – сказала ему Жанна. – Поэтому вы поймете, как необходимо мне втайне побеседовать с королевой.
Гонец, свято веривший всем сплетням, отравлявшим на протяжении последних месяцев версальский воздух, решил, что он и впрямь окажет Марии Антуанетте услугу, если привезет к ней графиню де Ламотт, минуя короля.
Вообразите себе, каким испытанием для надменности и гордости королевы, для ее уязвленной совести было появление Жанны – исчадия ада, – которую она еще не раскусила до конца, хоть и подозревала, что в се жизни эта женщина сыграла самую гнусную роль.
Вообразите себе, что Мария Антуанетта, еще безутешно оплакивающая свою любовь, не устоявшую перед угрозой скандала, Мария Антуанетта, поникшая под тяжестью оскорбительного обвинения, которое она не могла опровергнуть, – вообразите же себе, как после стольких страданий Мария Антуанетта готовится наступить ногой на голову ужалившей ее гадюки!
Безграничное презрение, едва сдерживаемая ярость, ненависть женщины к женщине, неизъяснимое чувство превосходства – таково было оружие противниц. Первым делом королева пригласила в свидетельницы двух своих статс-дам; ее соперница вошла, потупив взор, сомкнув уста, лелея в сердце тайны, питая в уме множество планов и воодушевляясь отчаянием. Едва увидев обеих дам, г-жа де Ламотт заявила:
– Этих двух свидетельниц очень скоро попросят удалиться.
– Наконец-то вы здесь, сударыня! – воскликнула королева. – Наконец-то вас разыскали.
Жанна поклонилась.
– Итак, вы скрывались? – нетерпеливо спросила королева.
– Скрывалась? Нет, ваше величество, – отвечала Жанна нежным голоском, не таким звонким, как всегда, словно трепет перед королевой лишил ее голос обычной звучности, – я не скрывалась; если бы я скрывалась, меня бы не нашли.
– Тем не менее вы сбежали! Назовем это, как вам будет угодно.
– Да, ваше величество, я уехала из Парижа.
– Без моего разрешения?
– Я опасалась, что ваше величество откажет мне в маленьком отпуске, который был мне нужен для устройства своих дел в Барсюр-Об: я пробыла там неделю, а затем меня догнал приказ вашего величества. К тому же я не думала, что присутствие мое настолько необходимо вашему величеству, что я должна предупреждать даже о недельной отлучке.
– В самом деле, сударыня, вы правы: с какой стати вам опасаться отказа? О каком отпуске вы можете просить? И почему я должна давать вам на него разрешение? Разве вы исполняете какие-нибудь обязанности?
В последних словах прозвучало такое презрение, что Жанна оскорбилась. Но до поры до времени она проглотила это оскорбление.
– Ваша правда, государыня, – смиренно отвечала она, – у меня нет обязанностей при дворе, но вы, ваше величество, удостаивали меня столь драгоценной доверенности, что благодарность удерживала меня близ вас куда более прочными узами, чем других удерживает долг.
Слово «доверенность» Жанна нашла после долгих поисков и теперь сделала на нем особое ударение.
– С этой доверенностью мы сейчас разберемся, – возразила королева с еще большим презрением в голосе. – Вы видели короля?
– Нет, ваше величество.
– Вы его увидите.
Жанна поклонилась.
– Большая честь для меня, – произнесла она. Королева призвала на помощь все свое хладнокровие, чтобы сохранить за собой перевес в предстоящем разговоре.
Жанна воспользовалась паузой и сказала:
– Боже правый, до чего строго вы со мной обращаетесь, ваше величество! Я трепещу.
– Это еще не предел строгости, – резко возразила королева. – Вы знаете, что господин де Роган в Бастилии?
– Мне об этом сказали, ваше величество.
– Вы догадываетесь, почему он там?
Жанна окинула королеву пристальным взглядом и, повернувшись к дамам, которые, казалось, стесняли ее своим присутствием, сказала:
– Не знаю, сударыня.
– Однако вы помните, как рассказывали мне об ожерелье, не правда ли?
– Да, сударыня, о бриллиантовом ожерелье.
– И от имени кардинала предлагали мне помощь в покупке этого ожерелья?
– Сущая правда, ваше величество.
– Приняла я эту помощь или отвергла?
– Отвергли, ваше величество.
– Так! – удовлетворенно воскликнула королева, явно не ожидавшая такого ответа.
– Вы даже уплатили ювелирам задаток в двести тысяч ливров, ваше величество, – добавила Жанна.
– Так… Что же дальше?
– Дальше вы, ваше величество, не сумели расплатиться с ними, потому что господин де Калонн не предоставил вам денег, и вернули ларец ювелирам Бемеру и Босанжу.
– Кому я поручила отвезти ларец?
– Мне.
– И что сделали вы?
Я, медленно произнесла Жанна, понимавшая всю весомость слов, которые слетали с ее уст, – я отдала бриллианты его высокопреосвященству.
– Его высокопреосвященству! – вскричала королева. – Но скажите на милость, почему вы не вернули их ювелирам?
– Потому, государыня, что господин де Роган желал, чтобы дело уладилось к удовольствию вашего величества, и я весьма огорчила бы его, лишив возможности уладить дело самому.
– Но каким образом вы получили у ювелиров расписку?
– Эту расписку дал мне господин де Роган.
– А письмо, которое вы, по словам ювелиров, передали им от моего имени?
– Это письмо просил меня передать господин де Роган.
– Оказывается, что во всем и везде был замешан господин де Роган! – воскликнула королева.
– Не знаю, что имеет в виду ваше величество, – с равнодушным видом отозвалась Жанна, – и в чем именно был замешан господин де Роган.
– Я имею в виду, что расписка, которую вы передали или переслали ювелирам от моего имени, оказалась поддельной!
– Поддельной? – простодушно удивилась Жанна. – О, ваше величество!
– А также, что письмо, в котором я подтверждаю покупку ожерелья, скрепленное якобы моей подписью, – тоже поддельное.
– О! – воскликнула Жанна, разыгрывая все возрастающее удивление.
– И наконец, я хочу сказать, – продолжала королева, – что для прояснения этого дела нужно устроить вам и господину де Рогану очную ставку.
– Очную ставку? – переспросила Жанна. – Но зачем, ваше величество?
– Он сам об этом просил.
– Он сам?
– Он повсюду искал вас.
– Но этого быть не может, сударыня!
– По его словам, он хотел доказать, что вы его обманули.
– В таком случае, ваше величество, я тоже прошу об очной ставке.
– Не сомневайтесь, графиня, ваша просьба будет исполнена. Итак, вы утверждаете, что вам неизвестно, где находится ожерелье?
– Откуда же мне об этом знать?
– Вы отрицаете, что помогали кардиналу де Рогану в его интригах?
– Ваше право лишить меня своего благоволения, но никто не вправе меня оскорблять. Я ношу имя Валуа, ваше величество.
– Кардинал де Роган в присутствии короля подтвердил свою клевету; вероятно, он рассчитывает подкрепить ее надежными доказательствами.
– Не понимаю.
– Кардинал утверждает, что он писал мне.
Жанна в упор посмотрела на королеву, но промолчала.
– Вы слышите? – осведомилась Мария Антуанетта.
– Да, слышу, ваше величество.
– И что вы мне ответите?
– Я отвечу, когда меня сведут лицом к лицу с его высокопреосвященством.
– Но помогите же нам теперь, коль скоро вы знаете правду.
– Правда заключается в том, что ваше величество обвиняет меня без всяких оснований и терзает без причин.
– Это не ответ.
– Другого ответа я дать не могу, ваше величество.
И Жанна еще раз оглянулась на двух статс-дам.
Королева поняла, но не уступила. Любопытство не превозмогло в ней самолюбия. В недомолвках Жанны, во всем ее поведении, одновременно смиренном и вызывающем, сквозила уверенность, свойственная тому, кто владеет тайной. Но, быть может, эту тайну удастся выведать лаской? Королева отвергла такую возможность как недостойную.
– Господин де Роган попал в Бастилию за чрезмерную разговорчивость, – сказала Мария Антуанетта. – Берегитесь, сударыня, как бы вам не угодить туда же в наказание за излишнюю скрытность.
Жанна до боли стиснула кулаки, но улыбнулась.
– Что значит кара, – возразила она, – для того, чья совесть чиста? Разве Бастилия убедит меня, что я виновна в преступлении, которого не совершила?
Королева смерила Жанну яростным взглядом.
– Вы будете говорить? – спросила она.
– Нет, сударыня: то, что я могу сказать, я доверю только вам.
– Мне? Да разве вы теперь говорите не со мной?
– Не только с вами.
– Ах, вот оно что, вы хотите тайного разбирательства, – воскликнула королева. – Сперва вы накликали на меня стыд всеобщего подозрения, а теперь сами надеетесь избежать стыда публичного расследования.
Жанна выпрямилась.
– Не будем об этом говорить, – сказала она, – все, что я делала, я делала ради вас.
– Какая дерзость!
– Я почтительно снесу оскорбления от моей королевы, – не краснея, объявила Жанна.
– Нынче вы будете ночевать в Бастилии, госпожа де Ламотт.
– Как будет угодно вашему величеству. Но перед сном я, как всегда, помолюсь Богу о том, чтобы он хранил честь и счастье моей королевы, – парировала обвиняемая.
Королева в гневе встала и вышла через смежную комнату, яростно распахнув дверь.
– Дракона я победила, – прошептала она, – теперь раздавлю гадюку!
«Я вижу ее игру насквозь, – подумала Жанна. – Полагаю, что победа за мной».
30. Как случилось, что господин де Босир, думая загнать зайца, сам угодил в ловушку агентов господина де Крона
По воле королевы госпожа де Ламотт была взята под стражу.
Это доставило необыкновенное удовольствие королю, питавшему к ней инстинктивную ненависть. Следствию по делу об ожерелье помогали и усердие разоренных коммерсантов, надеявшихся исправить беду, и ярость обвиняемых, которым не терпелось оправдаться, и старание уважаемых судей, которые держали в руках жизнь и честь королевы, не говоря уж о том, что здесь были замешаны их самолюбие и пристрастность.
Вся Франция возвысила голос. И по оттенкам этого голоса королева распознавала своих врагов и друзей.
С тех самых пор, как г-н де Роган был арестован, он настойчиво домогался очной ставки с г-жой де Ламотт. Его желание было удовлетворено. Принц жил в Бастилии, как вельможа, в отдельном доме, который он снял внаем. По его просьбе ему предоставили все, что угодно, кроме свободы.
Расследование с самого начала велось крайне осторожно, поскольку в нем были замешаны столь важные особы. Всем было странно, что на отпрыска рода Роганов пало обвинение в краже. И офицеры, и комендант Бастилии выказывали кардиналу все почтение, все уважение, какое подобает питать к человеку, сраженному горем. Для них он был не преступник, а опальный вельможа.
Но все переменилось, когда прошел слух о том, что г-н де Роган пал жертвой дворцовых интриг. Симпатия, которую все выказывали принцу, сменилась обожанием.
А сам г-н де Роган, один из знатнейших людей в королевстве, не понимал, что обязан народной любовью только тому обстоятельству, что гоним особами, которые знатнее его. Последняя жертва деспотизма, г-н де Роган оказался одним из первых революционеров во Франции.
Его беседа с г-жой де Ламотт ознаменовалась примечательным происшествием. Графиня, которой разрешили понижать голос всякий раз, когда разговор касался королевы, ухитрилась шепнуть кардиналу:
– Удалите людей, и я дам вам все объяснения, которых вы требуете.
Тогда г-н де Роган пожелал, чтобы их оставили наедине и позволили ему расспросить ее так, чтобы никто не слышал.
В этом ему отказали, но разрешили его поверенному потолковать с графиней.
Она сказала, что не знает, куда девалось ожерелье, но оно вполне могло достаться ей в руки.
Поверенный ахнул, пораженный дерзостью этой женщины; тогда она спросила, разве услуга, которую она оказала королеве и кардиналу, не стоит миллиона?
Адвокат передал кардиналу ее слова; тот побледнел, поник головой и понял, что угодил в силки адского птицелова.
Он уже склонялся к мысли, что следует замять дело, слухи о котором губят королеву, но и враги, и друзья толкали его на борьбу.
Ему напоминали, что на карту поставлена его честь, что речь идет о краже, что оправдаться без решения парламента невозможно.
Итак, чтобы оправдаться, нужно было доказать, что между кардиналом и королевой существовала связь и что преступление совершено королевой.
Жанна на эти соображения возразила, что никогда не стала бы обвинять ни королеву, ни кардинала, но если ответственность за ожерелье собираются взвалить на нее, она решится на то, чего вовсе не собиралась делать, и докажет, что королева и кардинал заинтересованы в ложном обвинении.
Когда ее слова передали кардиналу, принц не скрыл, какое презрение вызывает в нем женщина, готовая на подобное предательство. Он добавил, что поведение Жанны ему отчасти понятно, но он не в силах постичь поведение королевы.
Когда эти слова с соответствующим толкованием пересказали Марии Антуанетте, она задрожала от гнева и возмущения. Она пожелала, чтобы для прояснения всех неясностей был проведен особый допрос. Тут-то и сказалась вся пагубность ночных свиданий: о них во всеуслышание заговорили клеветники и сплетники.
И вот над несчастной королевой нависла угроза. При людях Марии Антуанетты Жанна твердила, что не понимает, о чем речь; но при людях кардинала она была не столь сдержанна и все время повторяла:
– Пускай меня оставят в покое, иначе я молчать не стану.
Эти недомолвки и скромные умолчания превратили ее в героиню идо того запутали следствие, что самые отважные потрошители судебных дел с содроганием заглядывали в страницы протоколов и ни один судебный следователь не осмеливался вести допросы графини.
Оказался ли кардинал слабее или откровеннее, чем она? Доверил ли кому-нибудь из друзей то, что сам он считал тайной своей любви? Неведомо; мы в это не верим, потому что принц был человек верный и великодушный. Но, несмотря на его преданное молчание, по городу поползли слухи о свиданиях кардинала с королевой. Все, о чем доложил граф Прованский, все, что увидели и узнали Шарни и Филипп, все эти тайные деяния, непостижимые для всех, кроме таких тайных воздыхателей, как брат короля, или ревнивых соперников, как Филипп и Шарни, весь таинственный аромат оболганной и невинной любви развеялся и, смешавшись с воздухом обыденности, утратил свой первоначальный изысканный оттенок.
Конечно, у королевы пылкие защитники, а у г-на де Рогана ревностные соратники, но это не имеет значения.
Дело в том, что никто не задавался вопросом, в самом ли деле королева украла бриллиантовое ожерелье.
Такой вопрос сам по себе означал бесчестье, но и этого было мало. Все ломали себе головы над другим: не попустительствует ли королева вору, укравшему ожерелье, поскольку он, этот вор, проник в тайну ее преступной любви?
Вот какое бремя возложила на королеву г-жа де Ламотт. И вот почему королеве пришлось вступить на путь, который неизбежно вел к бесчестью.
Но королева не сдалась; она решила бороться; король ее поддерживал.
Министры также были всецело на ее стороне. Королева помнила, что г-н де Роган – порядочный человек, не способный намеренно погубить женщину; она помнила, как твердо он клялся в том, что ему назначали свидания в Версале.
Она пришла к выводу, что кардинал не питает к ней личной вражды и что он, так же как она, защищает в этом деле только свою честь.
Отныне все расследование сосредоточилось на г-же де Ламотт; следствие усердно искало следы пропавшего ожерелья.
Королева, согласившись на публичное судебное разбирательство по обвинению в супружеской неверности, обрушила на Жанну сокрушительное обвинение в мошенничестве и воровстве.
Все свидетельствовало против графини: ее прошлое, первоначальная нищета, странное возвышение; знать не считала эту выскочку своей, народ от нее отрекался: народ инстинктивно ненавидит авантюристов, не прощая им даже успеха.
Жанна спохватилась, что избрала неверный путь; она видела, что королева, не уклоняясь от обвинения и не поддаваясь страху перед молвой, являет кардиналу пример для подражания; ясно было, что рано или поздно оба они, не зная за собою вины, придут к согласию, а если они и падут, то в своем стремительном падении увлекут за собою ничтожную Валуа, обладательницу доблестно украденного миллиона, которым она даже не могла располагать, чтобы подкупить своих судей.
Таково было положение вещей, как вдруг некое происшествие внесло в него значительные перемены.
Г-н де Босир и мадемуазель Олива жили в счастье и довольстве в укромном загородном доме; но однажды счастливчик Босир, оставив дома свою зазнобу, отправился на охоту и угодил в компанию двух агентов из числа тех, кого г-н де Крон рассеял по всей Франции, желая приблизить развязку описываемой нами истории.
Влюбленные не знали, что делается в Париже; они думали только о себе. Мадемуазель Олива толстела, как ласка в амбаре, а счастливый Босир утратил бдительность и зоркость, спасительные свойства, данные природой шустрым ночным птицам и людям, промышляющим за счет ближнего.
В тот день Босир отправился подстрелить зайца. По дороге он наткнулся на стаю куропаток. Так уж вышло, что искал он одно, а нашел совсем другое.
Точно так же и агенты искали Оливу, а нашли Босира. На охоте это не редкость.
Один из сыщиков был великий умник. Узнав Босира, он не схватил его на месте, что было бы лишено всякой выгоды, а вместе со своим товарищем составил следующий план:
– Босир охотится; следовательно, он на свободе и не стеснен в средствах; в кармане у него, быть может, полдюжины луидоров, но дома он, вполне вероятно, оставил двести или даже триста золотых монет. Дадим ему вернуться домой, проникнем вслед за ним и потребуем выкупа. Если мы доставим Босира в Париж, это принесет нам не больше сотни ливров: такова обычная награда; чего доброго, нас еще и побранят, зачем мы заталкиваем в тюрьму кого попало. Попробуем-ка лучше обратить его поимку себе на пользу.
И они принялись охотиться на куропатку и зайца заодно с г-ном де Босиром: то науськивали на зайца собак, то шныряли в траве за куропаткой и преследовали по пятам самого охотника.
Видя, как посторонние люди вмешиваются в его охоту, Босир сперва очень удивился, а потом изрядно разгневался. Как подобало мелкопоместному дворянчику, он ни с кем не желал делиться своей дичью; но в то же время ему вовсе не улыбались новые знакомства. Вместо того чтобы самому спросить нежданных и незваных приспешников, что им угодно, он направился прямиком к сторожу, которого приметил в поле, и велел ему узнать у этих людей, с какой стати они здесь охотятся.
Сторож сказал, что, насколько ему известно, люди эти пришлые, и добавил, что сам хотел прервать их охоту; так он и поступил. Однако чужаки возразили, что охотятся вместе со своим другом, вон с тем господином.
И они указали на Босира. Сторож привел их к нему, к великому неудовольствию благородного охотника, который вовсе не желал этой встречи.
– Господин де Ленвиль, – сказал сторож, – эти господа уверяют, что охотятся вместе с вами.
– Со мной? – вскричал уязвленный Босир. – Скажите пожалуйста!
– А, так вы откликаетесь еще и на имя Ленвиля, мой любезный Босир? – шепнул ему один из агентов.
Босир задрожал: в этих краях он никому не открывал своего настоящего имени.
Он растерянно посмотрел на агента, потом на его спутника; их лица показались ему смутно знакомыми, и, чтобы не подливать масла в огонь, он услал сторожа, подтвердив, что эти люди охотятся вместе с ним.
– Значит, вы их знаете? – воскликнул сторож.
– Да, теперь мы узнаем друг друга, – заметил один из агентов.
И Босир остался в обществе двух охотников, чувствуя себя весьма неловко и опасаясь чем-нибудь себя выдать в разговоре с ними.
– Пригласите нас к себе на завтрак, Босир! – обратился к нему полицейский-умник.
– К себе? Не знаю, право… – начал Босир.
– Неужто вы обойдетесь с нами так нелюбезно?
И тут Босир потерял голову: вместо того чтобы подчинить обстоятельства себе, он подчинился им.
При виде домика полицейские, как подобало людям с хорошим вкусом, принялись расхваливать его красоту, расположение, деревья вокруг, вид; Босир и впрямь избрал прелестный уголок, чтобы свить гнездышко для себя и своей подруги.
То была поросшая лесом долина, которую пересекала неширокая речка; дом был расположен на восточном склоне. Сторожевая башенка, похожая на небольшую колокольню без колокола, служила Босиру наблюдательным пунктом: отсюда он следил за всей округой в дни хандры, когда его надежды тускнели и в каждом землепашце, склонившемся над плугом, ему мерещились стражи закона и правопорядка.
С одной стороны домик был очарователен и открыт обозрению, с трех других его скрывали лес и холмы.
– Как ловко вы здесь спрятались! – с восхищением заметил один из шпиков.
Босир затрепетал от этой шутки и под лай дворовых собак первым вошел в дом.
Агенты с учтивыми ужимками последовали за ним.
Босир не случайно воспользовался входом со двора: он хотел предупредить Оливу, чтобы она была начеку. Не зная о краже ожерелья, Босир зато достаточно знал о бале в Опере и об истории с чаном Месмера, чтобы избегать показывать свою подругу незнакомым людям.
Он рассудил правильно: молодая женщина, читавшая фривольный роман на кушетке в крошечной гостиной, услышала собачий лай, выглянула из окна и увидела, что Босир вернулся не один. Поэтому она не бросилась, как обычно, ему навстречу.
К прискорбию, это не уберегло голубков от ястребиных когтей. Надо было заказать завтрак, а деревенским слугам далеко до Фронтена,[144] увалень лакей несколько раз осведомлялся, надо ли спросить распоряжений у хозяйки.
При этом слове сыщики навострили уши. Они принялись мило подшучивать над Босиром, который, оказывается, прячет даму, чтобы она служила отшельнику приправой ко всем радостям, связанным с богатством и уединением.
Босир вытерпел их зубоскальство, но не показал им Оливу.
Подали обильное угощение, и оба сыщика отдали ему должное. За трапезой много пили и часто провозглашали тосты за здоровье отсутствующей дамы.
Во время десерта все разгорячились, и гг. полицейские решили, что длить пытку хозяина было бы бесчеловечно. Они ловко навели разговор на то, как радостно бывает чувствительным людям возобновлять прежние знакомства.
На это Босир, откупоривая бутылочку ямайского рома, осведомился у незнакомцев, когда и при каких обстоятельствах он с ними встречался.
– Мы друзья одного вашего сообщника, – был ответ, – по дельцу, которое вы провернули вместе с несколькими приятелями, словом, по шутке с португальским посольством.
Босир побледнел. Когда упоминают о подобных делах, собственный галстук начинает натирать шею: в его складках словно прячется конец веревки.
– Вот оно как, – дрожа, промямлил он, – и вы хотите спросить у меня от имени вашего друга…
– И впрямь хорошая мысль, – шепнул шпик своему приятелю, – так оно будет куда приличнее приступить к делу. Нет ничего безнравственного в том, что мы потребуем долю нашего отсутствующего друга.
– К тому же это не лишает нас права на все прочее, – отвечал поборнику нравственности его друг с кисло-сладкой улыбкой, от которой Босира бросило в дрожь с головы до ног.
– Итак?.. – спросил он.
– Итак, дорогой господин Босир, мы были бы очень рады, если бы вы вручили одному из нас сумму, причитающуюся нашему другу. Это составляет, помнится, десять тысяч ливров.
– По меньшей мере и не считая процентов, – поддакнул его товарищ.
– Господа, – возразил Босир, у которого захватило дух от такой настойчивости, – кто же хранит в деревенском доме десять тысяч ливров?
– Это само собой разумеется, и мы не потребуем невозможного. Сколько вы можете выложить на месте?
– У меня при себе не больше пятидесяти или шестидесяти луидоров.
– Для начала мы возьмем их и поблагодарим вас за вашу любезность.
«Так-так, – в восторге от такой сговорчивости подумал Босир, – с ними можно уладить дело полюбовно. Чем черт не шутит, может быть, они боятся меня не меньше, чем я их? Попытаемся!»
Ему пришло в голову, что посетителям невыгодно поднимать шум: они только подтвердят тем свое сообщничество с преступником, а для местных властей это скверная рекомендация. Босир пришел к выводу, что его гостей нетрудно ублаготворить и что они будут держать язык за зубами.
Он так поспешил им поверить, что даже пожалел, зачем посулил им шестьдесят ливров, а не тридцать; зато он решил отделаться от них сразу же, как только они получат деньги.
Но он не принял в расчет, с кем имеет дело: гостям явно у него понравилось; они с приятностью предавались отдыху, столь благоприятному для хорошего пищеварения; они лучились добротой, ведь быть всегда злым так утомительно!
– До чего мил этот Босир! – сказал приятелю Умник. – Просто грех не взять у него шестьдесят луидоров, которые он нам предлагает.
– Я немедленно их вам вручу, – пылко заверил хозяин, которого насторожили хмельные излияния его сотрапезников.
– Нам не к спеху! – возразили оба друга.
– Отчего же, отчего же, для очистки совести я лучше уплачу немедленно. Мы ведь порядочные люди, не то что некоторые.
И он хотел идти за деньгами.
Но в его гостей слишком глубоко въелись привычки, усвоенные во время арестов и обысков; с этими привычками трудно расстаться, единожды их усвоив. Гг. агенты не в силах были расстаться с жертвой, угодившей им в лапы. Так добрый охотничий пес не выпускает из зубов подстреленной куропатки, пока не отдаст ее охотнику.
Истинный сыщик, взяв след, неотступно следует за жертвой. Он слишком хорошо знает, как причудливо подчас складывается охота и как быстро улепетывает дичь, стоит ее упустить.
Поэтому оба с поразительным единодушием завопили, превозмогая сытое оцепенение:
– Господин де Босир! Дорогой Босир!
При этом они хватали его за полы зеленого кафтана.
– Что такое? – удивился Босир.
– Сделайте милость, не уходите! – кричали гости, любезно усаживая его на место.
– Но как прикажете с вами рассчитаться, если вы меня не отпускаете?
– Мы сами сходим с вами наверх, – с пугающей вкрадчивостью в голосе отвечал Умник.
– Но деньги в спальне жены… – возразил Босир.
Он надеялся, что этим спор будет исчерпан, но в действительности только поддал жару: полицейские ищейки так и задрожали от нетерпения.
Их недовольство – а шпики всегда чем-нибудь недовольны – наконец-то отлилось в ясную форму, нашло в себе объяснение и причину.
– В самом деле! – вскричал один из них. – Почему вы прячете от нас жену?
– Да что же мы, по-вашему, недостойны показаться ей на глаза? – подхватил другой.
– Знали бы вы, на что мы ради вас идем, вы вели бы себя порядочнее, – продолжал первый.
– И отдали бы нам все, что угодно, – дерзко добавил второй.
– Однако, господа, вы что-то чересчур распалились, – заметил Босир.
– Мы хотим посмотреть на твою жену! – заявил в ответ Умник.
– А я предупреждаю, что вышвырну вас за дверь! – вскричал Босир, уповая на то, что гости одурманены вином.
Ответом ему был взрыв хохота, который мог бы его вразумить. Но он не обратил на это внимания и заупрямился.
– Теперь вы не получите даже обещанных денег, – сказал он, – и уберетесь прочь.
Они захохотали еще откровеннее. Босир затрясся от ярости.
– Понимаю, – задыхаясь, сказал он, – вы поднимете шум, вы на меня донесете. Но этим вы и себя погубите, не только меня.
Сыщиков по-прежнему разбирал смех: они были в восторге от своей шутки.
Так и не дождавшись ответа, Босир понадеялся, что испугает их неожиданным нападением, и бросился к лестнице, но уже не за деньгами, а за оружием.
Шпики вскочили из-за стола и, не поступаясь своим принципом, бросились за Босиром; он тут же оказался в их цепких руках.
Босир заорал, дверь, выходящая на лестницу, отворилась, и на пороге показалась испуганная и растерянная женщина. Видя ее, полицейские выпустили Босира, и из их глоток тоже вырвался крик, но то был крик радости, торжества, дикарского ликования.
Они узнали ту, которая была похожа на французскую королеву.
Сперва Босир подумал, что их образумило присутствие женщины, но ему тут же открылась жестокая правда.
Умник приблизился к м-ль Оливе и тоном, который мог бы быть и повежливей, учитывая сходство девушки с самой королевой, объявил:
– Ха-ха! Вы арестованы.
– Арестована? – вскричал Босир. – Почему это?
– Потому что таков приказ господина де Крона, – пояснил второй шпик, – а мы состоим у господина де Крона на службе.
Если бы между нашими влюбленными внезапно ударила молния, это привело бы их в меньший ужас, чем слова полицейского.
– Вот что значит, – заметил Босиру Умник, – нелюбезно обращаться с гостями.
Это с его стороны было не слишком последовательно, и второй шпик тут же одернул его, заметив:
– Легринье, ты не прав: будь Босир с нами полюбезней, он показал бы нам свою даму, и мы все равно бы ее арестовали.
Босир стиснул руками пылающую голову; он не думал даже, что его слуга и служанка, стоящие внизу, слышат каждое слово из этой странной сцены, разыгравшейся на лестнице.
И тут его осенила мысль; эта мысль ему понравилась; он немедленно воспрянул духом.
– Вы прибыли меня арестовать? – спросил он у полицейских.
– Да нет, все вышло случайно, – простодушно отвечали они.
– Как бы то ни было, вы могли меня арестовать, но за шестьдесят луидоров согласились отступиться.
– Нет же, мы собирались потребовать с вас еще шестьдесят луидоров.
– И мы своему слову хозяева, – подхватил другой. – За сто двадцать ливров мы оставим вас на свободе.
– А как же с этой дамой? – с замиранием сердца спросил Босир.
– Ну, эта дама – совсем другое дело, – возразил Умник.
– Не правда ли, она стоит не меньше двухсот луидоров? – поспешно спросил Босир.
Полицейские вновь разразились леденящим кровь смехом, и на сей раз, увы, Босир прекрасно понял, что он значит.
– Триста… – предложил он. – Четыреста… Тысячу луидоров! Но только оставьте се на свободе.
Глаза Босира засверкали.
– Вы молчите, – продолжал он. – Вы знаете, что я при деньгах, и хотите заставить меня раскошелиться: что ж, это вполне справедливо. Я дам вам две тысячи луидоров, сорок восемь тысяч ливров на двоих, только отпустите ее.
– Значит, ты ее очень любишь? – спросил Умник. Тут Босир рассмеялся в свой черед, и горький его смех звучал так угрожающе, в нем слышалась такая безнадежная любовь, обуревавшая это бесчестное сердце, что стражи закона испугались и решили принять меры предосторожности, чтобы предупредить взрыв отчаяния, который сулил им блуждающий взгляд Босира.
Шпики выхватили пистолеты и, приставив дула к его груди, сказали:
– Мы не уступим тебе эту женщину даже за сто тысяч экю. Господин де Роган заплатит нам за нее пятьсот тысяч, а королева миллион.
Босир возвел глаза к небу с мольбой, которая смягчила бы любого дикого зверя, за исключением полицейской ищейки.
– Пойдемте, – сказал Умник. – У вас, кажется, есть какая-то повозка, хоть двуколка; велите запрячь ее для вашей дамы: она заслужила, чтобы вы о ней позаботились.
– Мы люди незлые, – подхватил другой, – мы своей властью не злоупотребляем. Вас мы тоже прихватим для виду, но по дороге отвернемся, вы спрыгнете, а мы спохватимся, когда вы уже будете далеко. По рукам?
Босир на это отвечал так:
– Куда она, туда и я. В этой жизни я с ней не расстанусь.
– И в той, грядущей, тоже! – добавила дрожащая от ужаса Олива.
– Что ж, тем лучше! – перебил Умник. – Чем больше арестантов мы привезем господину де Крону, тем забавнее выйдет.
Четверть часа спустя от дома отъехала двуколка Босира, в которой сидели пойманные любовники и их стражи.
Нетрудно себе представить, какое впечатление произвел этот арест на г-на де Крона.
Возможно, агенты и не получили миллион, на который надеялись, но можно не сомневаться, что они остались довольны вознаграждением.
Что до начальника полиции, то, потирая руки в знак радости, он собрался и покатил в Версаль; за его каретой следовала другая, наглухо закрытая и запертая снаружи на замок.
Было это на другой день после того, как Умник и его друг предали Николь в руки г-на де Крона.
Обе кареты въехали в Трианон: из одной выскочил начальник полиции, а вторую он поручил охранять своему главному помощнику.
Он был допущен к королеве, которой заранее послал в Трианон просьбу об аудиенции.
За последний месяц королева не пренебрегала ни единым знаком внимания со стороны полиции; она немедленно исполнила просьбу г-на де Крона; с утра она пришла в свой любимый павильон в сопровождении совсем немногочисленной свиты, потому что все должно было оставаться в тайне.
Как только к ней ввели г-на де Крона, по его сияющему виду она заключила, что он принес добрые вести.
Бедная Мария Антуанетта давно уже встречала повсюду лишь хмурые и озабоченные лица.
В сердце ее, израненном страданиями, впервые за последний убийственный месяц вспыхнула радость.
Приложившись к ее руке, глава полиции спросил:
– Ваше величество, нет ли в Трианоне такой комнаты, чтобы вы могли следить за тем, что в ней происходит, сами оставаясь невидимы?
– Это библиотека, – отвечала королева. – Позади стенных шкафов я велела прорезать оконца в соседнюю комнату, где за ужином мы с госпожой де Ламбаль или с мадемуазель де Таверне, когда она еще состояла при мне, развлекались подчас, глядя, какие уморительные гримасы корчит аббат Вермон[145], натыкаясь на памфлет, в котором его высмеивают.
– Превосходно, ваше величество, – отозвался г-н де Крон. – Внизу ждет карета, приехавшая со мной: я хотел бы, чтобы ее пропустили в замок, но так, чтобы ее содержимого не видел никто, кроме вашего величества.
– Нет ничего проще, – отвечала королева, – где ваша карета?
– В первом дворе, ваше величество.
Королева позвонила.
– Велите вкатить в большие сени карету, которую вам укажет господин де Крон, – сказала она вошедшему слуге, – и заприте обе двери, чтобы в сенях было темно и никто, кроме меня, не увидел диковинку, которую привез мне господин де Крон.
Приказ был исполнен. Капризы королевы встречались обычно с еще большим почтением, чем ее приказы. Карета въехала в ворота мимо караульной будки и выгрузила свое содержимое в темный коридор.
– Теперь, ваше величество, – сказал г-н де Крон, – извольте проследовать вместе со мною в комнату для вечерних трапез и прикажите, чтобы моего главного помощника пропустили в библиотеку вместе с тем лицом, к которому он приставлен.
Десять минут спустя трепещущая королева заглянула в оконце, спрятанное позади шкафов.
Она увидела, как в библиотеку вошла окутанная плащом фигура; помощник освободил ее от плаща, и королева, узнав ее, вскрикнула от испуга. То была Олива в одном из любимейших нарядов Марии Антуанетты.
На ней было зеленое платье с широкими черными муаровыми лентами; у нее была высокая прическа, какую предпочитала и королева, такие же кольца, как у нее, и зеленые атласные туфельки на высоких каблуках; то была вылитая Мария Антуанетта, только вместо крови цезарей в жилах ее бурлила плебейская кровь, вселявшая такое вожделение в г-на де Босира.
Королева словно смотрелась в перевернутое зеркало; она пожирала глазами этот призрак.
– Что скажет ваше величество о подобном сходстве? – осведомился г-н де Крон, наслаждаясь произведенным эффектом.
– Скажу… скажу… сударь… – пролепетала потрясенная королева. «Ах, почему вас здесь нет, Оливье?» – подумалось ей.
– Каковы будут пожелания вашего величества?
– Никаких, сударь, никаких… Пускай об этом известят короля.
– И покажут это графу Прованскому, не правда ли, государыня?
– О, благодарю вас, господин де Крон, благодарю. Но что будет теперь этой женщине?
– Все случившееся приписывают именно ей? – спросил г-н де Крон.
– И нити заговора, наверно, все у вас в руках?
– Почти все, ваше величество.
– А что господин де Роган?
– Господин де Роган еще ничего не знает.
– Ах, – вымолвила королева, закрыв лицо руками, – теперь я вижу, что кардинал обязан своей ошибкой этой женщине!
– Да, ваше величество, но если кардинал де Роган впал в ошибку, то кто-то другой совершил преступление!
– Ищите хорошенько, сударь; честь французского королевского дома у вас в руках!
– И верьте мне, ваше величество, это надежные руки, – отвечал г-н де Крон.
– А как дела с расследованием?
– Оно продвигается. Все все отрицают, но я жду удобного случая, чтобы предъявить вещественное доказательство, которое находится теперь в вашей библиотеке.
– А что госпожа де Ламотт?
– Она не знает, что я разыскал эту девицу, и обвиняет графа Калиостро, что он-де заморочил голову кардиналу и свел его с ума.
– А что граф Калиостро?
– Я велел его допросить; господин Калиостро обещал посетить меня нынче утром.
– Он опасный человек.
– Он будет нам полезен. Он впитает яд от укуса этой гадюки, госпожи де Ламотт, и даст нам противоядие.
– Вы рассчитываете на разоблачения?
– Не сомневаюсь, что они произойдут.
– Каким образом, сударь? Успокойте меня, чем можете!
– Доводы мои таковы, сударыня: госпожа де Ламотт жила на улице Сен-Клод…
– Знаю, знаю, – краснея, подхватила королева.
– Да, вы, ваше величество, оказывали этой женщине честь своим покровительством.
– Не правда ли, она мне за это отплатила? Итак, она жила на улице Сен-Клод…
– Адом господина Калиостро расположен почти что напротив.
– И вы полагаете…
– Что если у одного из соседей есть какой-то секрет, этот секрет известен обоим. Но прошу меня извинить, ваше величество: близится час, когда меня должен посетить в Париже господин Калиостро, и я во что бы то ни стало хочу выслушать его объяснения.
– Ступайте, сударь, ступайте, и еще раз прошу вас не сомневаться в моей признательности.
Едва г-н де Крон вышел, она воскликнула со слезами на глазах:
– Вот и приближается мое оправдание! На всех лицах я прочту свое торжество. Но я не увижу его на лице единственного друга, перед которым мне хотелось оправдаться!
Тем временем г-н де Крон примчался в Париж и вернулся к себе домой, где ждал его граф Калиостро.
Граф со вчерашнего дня знал все. Он ехал к Босиру, чье убежище было ему известно, и собирался уговорить его покинуть Францию, но по дороге увидел его в двуколке с двумя полицейскими по бокам. Олива, стыдясь и заливаясь слезами, пряталась сзади.
Босир заметил графа, который ехал навстречу в почтовой карете, и узнал его. Он понадеялся, что этот загадочный и могущественный вельможа чем-нибудь поможет ему; поэтому он отказался от намерения никогда не разлучаться с Оливой.
Он напомнил полицейским, что они предлагали ему бежать. Те согласились принять сто луидоров, которые были у него при себе, и отпустили пленника вопреки рыданиям Николь.
Но Босир, обняв любовницу, шепнул ей на ухо:
– Надейся. Я сделаю все, чтобы тебя спасти.
Затем он торопливо зашагал в том же направлении, в каком укатил Калиостро.
Калиостро остановил карету; так или иначе ехать к Босиру было незачем, раз уж его увезли. Графу не оставалось ничего другого, как только ждать в надежде, что Босиру каким-нибудь образом удастся до него добраться.
Итак, граф около получаса ждал у поворота дороги; наконец он увидел несчастного возлюбленного м-ль Оливы, бледного, запыхавшегося, полумертвого от усталости.
Завидев стоящую карету, Босир вскрикнул от радости, как утопающий при виде спасительной доски.
– Что случилось, сын мой? – спросил Калиостро, помогая ему подняться в карету.
Босир поведал графу свою горестную повесть; Калиостро выслушал его в молчании.
– Она погибла, – сказал он наконец.
– Почему? – вскричал Босир.
Калиостро описал ему все, чего тот не знал: проделки на улице Сен-Клод и в Версале. Босир едва не лишился чувств.
– Спасите ее, спасите! – возопил он, бухнувшись на колени прямо в карете. – Я уступлю ее вам, если вы ее по-прежнему любите.
– Друг мой, – возразил Калиостро, – вы заблуждаетесь, я никогда не любил мадемуазель Оливу, я стремился лишь избавить ее от беспутной жизни, которую ей приходилось разделять с вами.
– Но как же… – начал изумленный Босир.
– Вы удивляетесь? Знайте же, что я один из синдиков общества нравственного обновления; наше общество почитает своей целью спасать от порока каждое создание, которое еще можно исправить. Для того чтобы исправить Оливу, нужно было устранить вас – вот я вас и устранил. Спросите ее, слышала ли она из моих уст хоть одно искусительное слово; спросите, оказывал ли я ей небескорыстные услуги.
– Тем более, сударь, спасите, спасите ее!
– Я попробую, но все будет зависеть от вас, Босир.
– Я готов пожертвовать жизнью.
– Этого не потребуется. Возвращайтесь со мною в Париж, и, если вы будете скрупулезно следовать моим наставлениям, мы, может быть, спасем вашу милую. Но я поставлю вам одно условие.
– Какое?
– Об этом я скажу вам в Париже, когда мы приедем ко мне домой.
– Заранее принимаю ваше условие, лишь бы увидеть ее!
– Это входит в мой план. Не пройдет и двух часов, как вы ее увидите.
– И смогу ее обнять!
– Надеюсь; более того, вы скажете ей то, что я вам велю.
И Калиостро вместе с Босиром покатил по направлению к Парижу.
Два часа спустя они нагнали двуколку; уже наступал вечер.
Еще через час Босир за пятьдесят луидоров купил у полицейских право обнять Николь и шепнуть ей то, что велел граф.
Полицейские были восхищены столь страстной любовью: они уже размечтались, что при каждой перемене лошадей им будет доставаться по полсотни луидоров. Но более они Босира не видели: карета Калиостро умчала его прямиком в Париж, где назревало множество событий.
Обо всем этом мы должны были поведать читателю, прежде чем приступим к деловому разговору, состоявшемуся у графа Калиостро с г-ном де Кроном.
Теперь просим пожаловать в кабинет начальника полиции.
33. Кабинет начальника полиции
Г-ну де Крону было известно о Калиостро все, что опытный глава полиции может знать о человеке, живущем во Франции, а это немало. Он знал все имена, какими называл себя граф, имел представление обо всех его алхимических тайнах, магнетических опытах и предсказаниях. Он знал о притязаниях графа на вездесущность и бессмертие; Калиостро представлялся ему великосветским шарлатаном.
Г-н де Крон был весьма неглуп, во всех тонкостях знал свое дело, при дворе был принят хорошо, к милостям был равнодушен: они были несовместимы с его гордостью; словом, он был не из тех, кто готов плясать под чужую дудку.
Калиостро не мог предложить ему новенькие луидоры прямиком из алхимической печи, как кардиналу де Рогану. Калиостро не мог пригрозить ему пистолетом, как в свое время Бальзамо г-ну де Сартину; и если Бальзамо тогда сам явился к начальнику полиции требовать Лоренцу, то теперь Калиостро был обязан явиться и дать отчет в своих действиях.
Поэтому граф не стал ждать, как развернутся события, и решил сам испросить у г-на де Крона аудиенцию.
Г-и де Крон чувствовал, что перевес на его стороне, и собирался этим воспользоваться. Калиостро чувствовал, что положение его не из легких, и собирался его исправить.
Один из двух игроков не догадывался о том, какова ставка в этой шахматной партии, разыгрываемой вслепую, и следует признаться, что игрок этот был не г-н де Крон.
Мы уже сказали, что начальник полиции видел в Калиостро только шарлатана и не догадывался, что перед ним адепт. О камни, которые философия разбросала на пути у монархии, немало народу спотыкалось только потому, что не замечало этих камней.
Г-н де Крон ждал, что Калиостро сообщит ему подробности об ожерелье, о темных делах г-жи де Ламотт; здесь он просчитался. Зато он обладал правом допрашивать и заключать под стражу, и в этом было его преимущество.
Он принял графа с видом человека, сознающего свою значительность, но почитающего себя не вправе отказывать в учтивости кому бы то ни было, даже такому диковинному посетителю, как Калиостро.
Калиостро был настороже. Он решил держаться с великосветской простотой, полагая, что в этом состоит единственная слабость, в которой его, быть может, подозревают.
– Сударь, – обратился к нему глава полиции, – вы просили у меня аудиенции. Я нарочно приехал из Версаля, чтобы принять вас.
– Мне подумалось, господин де Крон, что вы пожелаете расспросить меня о происходящих событиях; зная ваши огромные заслуги и понимая всю важность исправляемой вами должности, я и приехал сюда. Итак, я к вашим услугам.
– Расспросить вас? – с наигранным удивлением отвечал г-н де Крон. – О чем, сударь, и с какой стати?
– Сударь, – напрямик приступил к делу Калиостро, – вы усердно занимаетесь госпожой де Ламотт и розыском ожерелья.
– Вы его нашли? – с неуловимой насмешкой в голосе осведомился г-н де Крон.
– Нет, – с важностью возразил граф. – Я не нашел ожерелья, но я по крайней мере знаю, что госпожа де Ламотт жила на улице Сен-Клод.
– Напротив вашего дома, граф; мне также это известно, – отозвался г-н де Крон.
– Тогда, сударь, вам известно все, что делала госпожа де Ламотт. Не будем к этому возвращаться.
– Отчего же, – равнодушно возразил г-н де Крон, – давайте потолкуем об этом.
– Ах, это имело смысл только в связи с малюткой Оливой, – сказал Калиостро, – но коль скоро вам все известно о госпоже де Ламотт, ничего нового вы от меня не узнаете.
При имени Оливы г-н де Крон вздрогнул.
– Что вы там сказали про Оливу? Кто такая эта Олива?
– А вы не знаете? Ну, сударь, это сущее чудо природы; я удивлен, что вы о ней не слыхали. Вообразите себе премилую девицу, статную, синеглазую, с безупречным овалом лица… Ну, словом, всем обликом она отдаленно напоминает ее величество королеву.
– Вот как! И что же дальше? – проронил г-н де Крон.
– Да что говорить! Эта девушка вела дурную жизнь, мне стало жаль ее: в свое время она жила в услужении у моего старинного друга барона де Таверне…
– Того, который на днях умер?
– Да, да, того, который умер. Кроме того, она была связана с одним ученым человеком – вы его не знали, господин начальник полиции, – и этот человек… Но я что-то совсем заболтался и боюсь, что начинаю вам докучать.
– Нисколько, сударь, соблаговолите продолжать, прошу вас. Итак, эта Олива…
– Вела дурную жизнь, как я имел честь вам сообщить. Ей были не чужды известные слабости, она жила с одним негодяем, тот ее колотил и обирал; обычный жулик из тех, кем занимается ваше ведомство; едва ли вы его знаете.
– Некий Босир, может быть? – вставил г-н де Крон, довольный, что может блеснуть своей осведомленностью.
– Так вы его знаете? Поразительно! – восхитился Калиостро. – Это очень кстати. Сударь, вы даже лучший прорицатель, чем я. Итак, однажды этот пресловутый Босир поколотил и обобрал бедную девицу больше обычного, и она убежала от него прямиком ко мне, прося моего покровительства. Я человек добросердечный: я отвел ей первый попавшийся угол в одном из принадлежащих мне домов.
– Вы поселили ее у себя? Она жила у вас дома? – изумленно воскликнул глава полиции.
– Разумеется, – отвечал Калиостро, в свою очередь притворяясь удивленным. – Почему бы мне и не приютить ее? Я холост.
И он рассмеялся с таким искренним добродушием, что г-н де Крон совершенно не заподозрил подвоха.
– Она жила у вас! – повторил он. – Потому-то мои агенты так долго ее искали, прежде чем нашли.
– Как так? – удивился Калиостро. – Эту малютку искали ваши агенты? Значит, она без моего ведома что-нибудь натворила?
– Нет, нет, сударь, продолжайте, заклинаю вас.
– Ей-богу, мне больше нечего рассказывать. Я поселил ее у себя, вот и все.
– Нет, ваше сиятельство, нет, это не все: помнится, вы только что упомянули имя Оливы в связи с именем графини де Ламотт.
– А, они же были соседками, – произнес Калиостро.
– Тут что-то кроется, граф. Вы неспроста вспомнили о том, что госпожа де Ламотт и Олива были соседками.
– Ах, это связано с обстоятельствами, которые не стоит здесь пересказывать. Право, неловко повторять бредни праздного рантье главе полиции всего королевства.
– Ваш рассказ заинтересовал меня, сударь, и более, чем вы можете предположить; вот вы уверяете, что Олива жила у вас, а я нашел ее в провинции.
– Вы ее нашли?
– Вместе с господином де Босиром.
– Ну вот, так я и думал! – вскричал Калиостро. – Она была с Босиром? Превосходно! Превосходно! Напрасно я грешил на госпожу де Ламотт.
– Почему? Что вы хотите этим сказать? – перебил г-н де Крон.
– Я говорю, сударь, что питал относительно графини де Ламотт некоторые подозрения, но теперь полностью уверился в своей ошибке.
– В чем вы ее подозревали?
– О господи, неужто вы согласны терпеливо выслушивать любые сплетни? Ну что ж! Знайте, что, покуда я питал надежду исправить Оливу, вернуть ее к труду и к честной жизни – людская нравственность, сударь, меня заботит, – в это самое время девицу у меня кто-то похитил.
– Кто похитил? Прямо из вашего дома?
– Из моего дома.
– Как странно!
– Не правда ли? И я готов был поклясться спасением души, что похитительница – графиня де Ламотт. Верь после этого собственным умозаключениям!
Г-н де Крон приблизился к Калиостро.
– Ну-ка, расскажите мне об этом поподробнее, – попросил он.
– Ах, сударь, теперь, когда вы отыскали Оливу в обществе Босира, ничто не убедит меня в вине госпожи де Ламотт, – ни ее настойчивое внимание, ни обмен знаками, ни переписка.
– С Оливой?
– Разумеется.
– Госпожа де Ламотт и Олива были в дружбе?
– И в добром согласии.
– Они виделись?
– Госпожа де Ламотт изыскала способ выезжать вдвоем с Оливой каждую ночь.
– Каждую ночь? Вы уверены?
– Как только можно быть уверенным в том, что видел собственными глазами.
– Ах, сударь, за каждое сказанное вами слово я был бы готов заплатить тысячу ливров! Какое счастье для меня, что вы сами умеете делать золото!
– Я больше этим не занимаюсь: слишком дорого выходит.
– Но ведь вы – друг господина де Рогана?
– Надеюсь, что так.
– Тогда вам должно быть известно, как основательно эта неуемная интриганка графиня де Ламотт замешана в его скандальном деле?
– Нет, я предпочитаю оставаться в неведении.
– Но вы, должно быть, осведомлены о последствиях совместных прогулок Оливы с госпожой де Ламотт?
– Сударь, благоразумный человек избегает сведений известного рода, – нравоучительным тоном возразил Калиостро.
– Я буду иметь честь задать вам еще только один вопрос, – поспешно промолвил г-н де Крон. – Имеются ли у вас доказательства, что госпожа де Ламотт находилась в сношениях с Оливой?
– Сколько угодно.
– Какие?
– Записки госпожи де Ламотт, которые она переправляла Оливе с помощью арбалета: они наверняка найдутся у нее в комнатах. Многие из этих записок, обернутые вокруг кусочков свинца, не долетали до цели. Они падали на улице, где их и подбирали я или мои слуги.
– Вы представите их правосудию, сударь?
– Ах, господин де Крон, они настолько невинны, что я отдам их вам без зазрения совести; полагаю, что меня не упрекнула бы за это сама госпожа де Ламотт.
– А как насчет доказательств преступного сговора, свиданий?
– Более чем достаточно.
– Прошу вас, приведите хоть одно.
– Вот вам убедительное. Госпожа де Ламотт, несомненно, легко проникала ко мне в дом, чтобы видеться с Оливой: я лично видел ее в тот самый день, когда молодая особа исчезла.
– В тот самый день?
– Вместе со мною ее видели все мои слуги.
– А! Но зачем она к вам явилась, коль скоро Олива сбежала?
– Сперва я тоже задумался над этим и не мог найти объяснения. Я видел, как госпожа де Ламотт вышла из кареты, которая осталась ждать на улице Золотого короля. Мои люди видели, что карета простояла там долго, и, признаться, я думал, что госпожа де Ламотт хотела увезти Оливу с собой.
– Вы бы это допустили?
– Почему бы и нет? Эта графиня де Ламотт – дама добросердечная и весьма удачливая. Она принята при дворе. Если ей вздумалось избавить меня от Оливы, с какой стати я стал бы ей в этом препятствовать? Сами видите, что делать это не следовало: ведь в итоге другой человек похитил у меня Оливу, чтобы погубить се окончательно.
– Так! – в глубоком раздумье вымолвил г-н де Крон. – Значит, мадемуазель Олива жила у вас?
– Да, сударь.
– Так! Госпожа де Ламотт объявилась у вас дома в тот самый день, когда была похищена Олива?
– Да, сударь!
– Так! Вы полагали, что графиня хотела взять эту девицу к себе?
– Что еще мне оставалось думать?
– Но что сказала госпожа де Ламотт, когда не обнаружила у вас Оливы?
– По-моему, она встревожилась.
– Вы считаете, что ее похитил Босир?
– Я считаю так только по той причине, что, как вы мне сообщили, он и в самом деле ее похитил, иначе бы это и в голову не пришло. Он не знал, где прячется Олива. Кто мог ему об этом сказать?
– Сама девица.
– Едва ли: она бы не стала просить, чтобы он ее похитил, а сбежала бы к нему сама, и прошу вас мне поверить, что он не проник бы в мой дом, если бы не получил ключа от госпожи де Ламотт.
– У нее был ключ?
– Вне всякого сомнения.
– Скажите-ка, в какой день похитили Оливу? – спросил г-н де Крон, внезапно осененный мыслью, к которой его так искусно подвел Калиостро.
– Ошибка тут невозможна: это было как раз накануне дня Святого Людовика.
– Все сходится! – воскликнул начальник полиции. – Все сходится! Сударь, вы только что оказали государству выдающуюся услугу.
– Весьма рад.
– И вас за это надлежащим образом отблагодарят.
– Лучшая награда – сознавать, что оказался полезен, – промолвил граф.
Г-н де Крон поклонился.
– Могу ли я рассчитывать, что вы представите доказательства, о коих мы говорили? – осведомился он.
– Почту за честь во всем повиноваться правосудию.
– Я не премину воспользоваться вашим обещанием, сударь. Теперь же имею честь пожелать вам всех благ.
И он спровадил Калиостро, который, выходя, сказал про себя:
«А, графиня, ты хотела свалить вину на меня? Ты ужалила стальной клинок, гадюка! Горе твоему жалу!»
Покуда г-н де Крон беседовал с Калиостро, г-н де Бретейль именем короля явился в Бастилию, дабы допросить г-на де Рогана.
Свидание врагов было чревато бурей. Г-н де Бретейль знал, как горд г-н де Роган; месть его кардиналу была так ужасна, что теперь он мог себе позволить держаться в границах учтивости. Он был сама любезность. Но г-н де Роган отказался отвечать. Министр юстиции настаивал, но г-н де Роган объявил, что подчинится в этом пункте только решению парламента и судей.
Г-ну де Бретейлю пришлось отступить перед непоколебимой волей обвиняемого.
Он призвал к себе г-жу де Ламотт, которая занималась писанием прошений; она поспешно явилась на зов.
Г-н де Бретейль без обиняков объяснил ей ее положение, которое она и сама понимала лучше всех. Она ответила, что может подтвердить свою невиновность и представит доказательства, как только понадобится. Г-и де Бретейль возразил, что доказательства уже необходимы, и притом как можно быстрей.
И тут Жанна пустилась рассказывать сочиненные ею басни; посыпались намеки, бросающие тень на всех и вся, и сетования на невесть откуда идущие поклепы.
Кроме того, она заявила, что, коль скоро этим делом должен заняться парламент, от нее не добьются ни слова чистой правды иначе как в присутствии его высокопреосвященства и в ответ на обвинения, которые он на нее обрушит.
Тогда г-н де Бретейль сообщил ей, что кардинал всю вину возлагает на нее.
– Всю? – переспросила Жанна. – И даже похищение?
– И даже похищение.
– Соблаговолите передать его высокопреосвященству мой совет отказаться от подобной системы защиты: она дурна и бесполезна.
Вот и все. Но г-н де Бретейль этим не удовольствовался. Ему требовались интимные подробности. Для последовательного объяснения событий ему требовалось, чтобы были названы вслух причины дерзких выходок кардинала по отношению к королеве и причины негодования королевы на кардинала.
Ему нужно было истолкование докладов, которые собрал граф Прованский, – докладов, вызвавших в обществе такое возмущение.
Министр юстиции был умен и знал, как повлиять на женщину: он обещал г-же де Ламотт все, что угодно, если она ясно и недвусмысленно назовет виновного.
– Берегитесь, – сказал он, – своим молчанием вы обвиняете королеву; если вы и впредь будете упорствовать, вы навлечете на себя обвинение в оскорблении величества, а это пахнет позорной казнью, это пахнет виселицей!
Я не обвиняю королеву, – возразила Жанна, – но почему меня самое обвиняют?
– Назовите виновного, – отвечал неумолимый Бретейль, – у вас нет иного средства спасения.
Тогда графиня замкнулась в благоразумном молчании: таким образом, первая ее встреча с министром юстиции не принесла никаких плодов.
Тем временем прошел слух, что всплыли новые улики, что бриллианты проданы в Англии и там же агентами г-на де Вержена арестован г-н де Вилет.
Первая атака, которую пришлось выдержать Жанне, была ужасна. На очной ставке с Рето, которого она считала вернейшим союзником, графиня в ужасе услышала, как он сознался, что изготовлял фальшивки, что сам написал и расписку в получении бриллиантов, и письмо королевы, подделав подписи и ювелиров, и ее величества.
Когда же его спросили, что толкнуло его на эти преступления, он ответил, что исполнял поручение графини де Ламотт.
В страхе и ярости она от всего отпиралась; она защищалась, как львица; она уверяла, что никогда не знала и не видела г-на Рето де Билета.
Но тут ее настигли два губительных удара: ее опровергли два свидетеля.
Первый был кучер фиакра, разысканный г-ном де Кроном; он заявил, что в такой-то день и час, указанный Рето де Билетом, возил на улицу Монмартр даму, которая была одета так-то и так-то.
Не оставалось ни малейшего сомнения, что эта таинственная дама, которую кучер посадил в карету в квартале Болото, была не кто иная, как г-жа де Ламотт, жившая на улице Сен-Клод.
И как отрицать теснейшие сношения между сообщниками, если нашелся свидетель, который накануне дня Святого Людовика видел в почтовой карете, что отъезжала от дома графини де Ламотт, самого Рето де Билета, бледного и озабоченного.
Свидетель этот был одним из доверенных слуг графа Калиостро.
При звуке этого имени Жанна вскинулась и забыла всякую осторожность. Она принялась обвинять Калиостро во всех грехах: он, дескать, колдовством и чарами помутил разум кардинала де Рогана, коему внушил также преступные замыслы против королевского дома.
От этого первого звена потянулась цепочка обвинений в супружеской неверности.
Г-н де Роган защищался, защищая графа Калиостро. Он отрицал все с таким упорством, что Жанна, выйдя из себя, в первый раз упомянула вслух о безумной любви кардинала к Марии Антуанетте.
Г-н Калиостро немедля потребовал, чтобы его заключили под стражу и дали возможность публично обелить себя; эта его просьба была удовлетворена. Обвинители и судьи распалились, как бывает при первых проблесках истины, а общественное мнение тут же приняло сторону кардинала и Калиостро против королевы.
Тогда несчастная Мария Антуанетта, желая, чтобы стало понятно, почему она так настойчиво домогается судебного разбирательства, позволила опубликовать доклады о ее ночных прогулках, представленные королю, и, призвав г-на де Крона, потребовала, чтобы он во всеуслышание объявил то, что ему известно.
Искусно рассчитанный удар обрушился на Жанну и едва не уничтожил ее.
Председатель в присутствии всех членов следственной комиссии потребовал от г-на де Рогана сообщить все, что он знает о прогулках по садам Версаля.
Кардинал ответил, что не умеет лгать, и сослался на показания г-жи де Ламотт.
Жанна отрицала эти прогулки: она, дескать, и понятия о них никогда не имела.
Она объявила лживыми протоколы и донесения, в которых утверждалось, будто она появлялась в парке, будь то вместе с королевой или с кардиналом.
Эти показания послужили бы Марии Антуанетте оправданием, если бы можно было доверять показаниям женщины, подозреваемой в подлоге и краже. Впрочем, такое оправдание все равно выглядело бы сомнительно, и королева ни за что бы не согласилась быть обязанной им графине де Ламотт.
Но покуда Жанна клялась и божилась, что никогда не бывала ночью в садах Версаля и не вела никаких секретных дел ни с королевой, ни с кардиналом, появилась Олива – живое свидетельство, переменившее всеобщее мнение и разрушившее все сложное здание лжи, возведенное графиней.
Почему Жанна не погибла под его обломками? Как вышло, что она вновь поднялась с земли, пышущая ненавистью и злобой? Это загадочное явление мы объясним не столько ее волей, сколько роковым влиянием, которое она оказывала на королеву.
Каким жестоким ударом было для кардинала появление Оливы! Наконец-то г-н де Роган уразумел, что его самым бесчестным образом провели! Этот утонченный вельможа, снедаемый благородной страстью, обнаружил, что пал жертвой авантюристки и мелкой мошенницы; они ухитрились поселить в нем презрение к королеве Франции, к женщине, которую он любил и которая ни в чем не была виновна!
Впечатление, которое все это произвело на кардинала, оказалось бы, на наш взгляд, самой драматической, самой внушительной сценой во всем разбирательстве, если бы мы не знали из исторических источников, сколько грязи, крови и ужасов еще обнаружилось в дальнейшем.
Когда г-н де Роган увидел Оливу, королеву панели, когда он вспомнил розу, пожатия рук, купальню Аполлона, он побледнел, и, если бы рядом с мошенницей он увидел в этот миг Марию Антуанетту, он испустил бы дух у ее ног.
Какие мольбы о прощении, какие угрызения совести рвались у него из груди, как хотелось ему омыть слезами последнюю ступень трона, который не так давно он обдал презрением и обидой отвергнутого любовника!
Но даже в этом утешении ему было отказано; он не мог опознать Оливу, не подтвердив тем самым, что любит настоящую королеву; признание ошибки само по себе было обвинением, позорным пятном. Он позволил Жанне от всего отпереться. Он промолчал.
И когда г-н де Бретейль вместе с г-ном де Кроном захотели услышать от Оливы более подробные показания, графиня сказала:
– Лучшее средство доказать, что королева не гуляла ночью по парку, – это предъявить женщину, которая похожа на королеву и утверждает, будто в парке была именно она. Нам показали такую женщину, вот и все.
Этот гнусный намек возымел успех. Истина снова оказалась под сомнением.
Но Олива с простодушным усердием перечисляла все подробности, приводила все доказательства, ничего не упуская, и ее слова внушали куда больше доверия, чем слова графини; тогда Жанна прибегла к отчаянному средству: она созналась.
Она созналась, что приводила кардинала в Версаль, что его высокопреосвященство любой ценой желал увидеться с королевой, признаться ей в своих почтительнейших чувствах; она призналась, потому что рассчитывала привлечь этим на свою сторону поддержку тех, кто отвернулся бы от нее, если бы она замкнулась в молчании; она призналась, потому что бросить тень на королеву означало заручиться сочувствием всех недругов Марии Антуанетты, а их было немало.
И вот уже в десятый раз за время этого адского следствия роли переменились: кардинал играл роль обманутой жертвы, Олива – глупой и пошлой уличной девицы, а Жанна – интриганки: лучшей роли она не могла бы выбрать.
Но для осуществления этого гнусного плана необходимо было, чтобы королева тоже сыграла роль, и вот ей отвели самую неприглядную, самую отвратительную и невыносимую для достоинства государыни роль легкомысленной кокетки, любительницы сомнительных шуток. Мария Антуанетта оказалась этакой Дорименой, которая вдвоем с Фрозиной морочит голову кардиналу – господину Журдену[146].
Жанна объявила, что прогулки происходили с ведома королевы, которая, прячась за стволом бука, до упаду смеялась над страстными речами влюбленного г-на де Рогана.
Итак, эта воровка, не знавшая, как ей скрыть кражу, последней защитой себе избрала королевскую мантию, символ чести Марии Терезы и Марии Лещинской[147].
Это последнее обвинение подкосило Марию Антуанетту; она не могла его опровергнуть. Не могла потому, что Жанна, доведенная до отчаяния, пригрозила, что предаст гласности все любовные письма, которые написал королеве г-н де Роган, а этими письмами, дышавшими безумной любовью, она в самом деле владела.
Королева не могла оправдаться, потому что мадемуазель Олива, утверждавшая, что Жанна завлекла ее в версальский парк, сама не знала, подслушивал ли кто-нибудь, прячась за буками, и не в силах была это опровергнуть.
И наконец, Мария Антуанетта не могла оправдаться потому, что слишком много людей хотели верить этой бесчестной лжи.
Как мы видели, Жанна все сделала для того, чтобы правда не вышла наружу.
Два десятка свидетелей, заслуживающих доверия, со всей убедительностью обвиняли ее в хищении бриллиантов; но Жанна не желала прослыть заурядной воровкой. Ей нужно было, чтобы позор пал не только на нее. Она убедила себя, что преступление графини де Ламотт – сущий пустяк по сравнению с версальским скандалом и если ее, Жанну, посадят в тюрьму, то королева пострадает от этого больше всех.
Итак, теперь ее расчеты рухнули. Королева, которая от всей души дала согласие на судебное разбирательство по обоим пунктам, и кардинал, который подвергся тяготам допроса, суда и скандала, похитили у своей противницы ореол невинности, которым она надеялась украсить себя в своем лицемерном смирении.
Но, странное дело, с точки зрения публики, все, кто был замешан в этом деле, оказывались виновны, даже те, кого оправдает правосудие.
После бесчисленных очных ставок, на которых кардинал неизменно хранил спокойствие и оставался учтив даже по отношению к Жанне, а Жанна вела себя необузданно и вредила всем, кому могла, общественное мнение и, в частности, судьи пришли к окончательным выводам.
Никаких неожиданностей больше не предвиделось, все разоблачения были сделаны. Жанна убедилась, что ни в чем не убедила судей.
В тишине одиночной камеры она призвала на помощь все свои силы, все надежды.
Те, кто окружал г-на де Бретейля и служил ему, всячески советовали Жанне щадить королеву и безжалостно валить вину на кардинала.
Те, кто имел отношение к кардиналу, его могущественные родичи, судьи, радеющие о народном деле, влиятельное духовенство, советовали г-же де Ламотт говорить чистую правду, разоблачать интриги двора и как можно сильнее раздувать дело, чтобы коронованные головы закружились от ужаса.
Эта партия старалась запугать Жанну; ей напоминали то, что она прекрасно знала сама, – что большинство судей на стороне кардинала, что она напрасно сломит себе шею в этой борьбе; к тому же она, Жанна, и так уже наполовину погибла, а посему для нее будет лучше, если ее осудят за бриллианты, а не за оскорбление величества, иначе ее засосет кровавая трясина, таящаяся на дне феодального судопроизводства, и оттуда ей уже никогда не вынырнуть на поверхность, разве что для участия в судебном процессе, который принесет ей смерть.
Казалось, эта партия не сомневается в победе. И у нее были на то основания. Заодно с этой партией на стороне кардинала было сочувствие народа. Мужчины восхищались его стойкостью, женщины – деликатностью. Мужчины негодовали, что он был так подло обманут, женщины не желали этому верить. Многие вообще не принимали в расчет Оливу, отмахиваясь и от ее сходства с королевой, и от ее признаний, или считали, будто королева нарочно приплела ее к делу, чтобы оправдаться.
Жанна все это обдумала. От нее отступились даже ее адвокаты; судьи не скрывали, насколько она им противна; Роганы яростно ее обвиняли; общественное мнение обдавало ее презрением. Она решила нанести последний удар, чтобы внушить судьям опасения, друзьям кардинала страх, а в народе раздуть ненависть к Марии Антуанетте.
И вот что она надумала.
Двору она даст понять, что долгое время щадила королеву, но если ее припрут к стене, она пойдет на разоблачения.
А кардиналу она внушит, что до сих пор держала язык за зубами, только подражая его деликатности; но как только он заговорит, она, ободренная его примером, также перестанет запираться, и вдвоем они откроют истину и докажут свою невиновность.
В сущности, такого плана она придерживалась с самого начала. Но ведь любое приевшееся кушанье можно обновить при помощи изысканных приправ. Вот что затеяла графиня, чтобы обновить две свои военные хитрости.
Она написала письмо королеве, и выражения, в которых оно было составлено, недвусмысленно свидетельствует о его смысле и значении.
Ваше величество!
Невзирая на все тяготы и мучения, выпавшие мне на долю, доныне у меня не вырвалось ни единой жалобы. Все уловки, которые пошли в ход, чтобы исторгнуть у меня признание, лишь укрепляют меня в решимости не бросать тень на мою государыню.
Однако, хоть я и пребываю в уверенности, что мое постоянство и скромность помогут мне спастись от угрозы, которая надо мной нависла, признаюсь Вам, что усилия родственников раба (так королева называла кардинала в те дни, когда между ними царило согласие) внушают мне большой страх.
Долгое заточение, бесчисленные очные ставки, стыд и отчаяние при мысли о том, что меня обвиняют в преступлении, коего я не совершала, поколебали мое мужество: боюсь, что мое упорство дрогнет под тяжестью стольких ударов одновременно.
Ваше величество, Вы единым словом можете положить конец моим мучениям; для этого довольно будет вмешательства господина де Бретейля: он может представить это дело министру (то есть королю) в том свете, в каком сам сочтет нужным, и так, чтобы на Вас, Ваше величество, не легло ни малейшей тени. На это письмо я решилась лишь под влиянием страха, что мне придется все рассказать, и я убеждена, Ваше величество, что Вы поймете мои мотивы и примете меры, чтобы облегчить мне тяготы моего положения.
Засим с глубоким почтением остаюсь смиреннейшей и покорнейшей слугой Вашего величества
Как мы видим, Жанна все рассчитала.
Или это письмо попадет к королеве и ужаснет ее тем, что после стольких испытаний Жанна обращается к ней с такой дерзкой настойчивостью; тогда утомленная борьбой Мария Антуанетта решится освободить Жанну, которую не усмирили ни тюрьма, ни следствие.
Или, что гораздо правдоподобнее, судя по концу письма, Жанна не возлагала на письмо никаких надежд, и это легко доказать: роль королевы в деле была такова, что она никак не могла вмешаться в следствие, не погубив этим себя. Поэтому мы можем быть уверены: Жанна нисколько не надеялась, что ее письмо передадут королеве.
Она знала, что вся ее охрана предана коменданту Бастилии, а значит, и г-ну де Бретейлю. Она знала, что вся Франция норовит использовать дело об ожерелье для политических целей, – такого не бывало со времен парламента г-на де Мопу[148]. Ясно было, что человек, которому она доверит письмо, либо отдаст его коменданту, либо оставит его себе, либо вручит судьям, принадлежащим к той же партии, что и он. Словом, Жанна сделала все, от нее зависящее, чтобы это письмо, в чьих бы руках оно ни оказалось, послужило дрожжами, на которых взойдут ненависть, недоверие и презрение к королеве.
Одновременно графиня сочинила еще одно письмо, обращенное к кардиналу.
Для меня остается загадкой, Ваше высокопреосвященство, почему Вы упорствуете и не даете внятных показаний. Мне кажется, что лучше всего для Вас было бы безраздельно ввериться нашим судьям; это пошло бы на благо нашей судьбе. Сама я решилась молчать, коль скоро Вы не желаете говорить со мною вместе. Но Вы-то почему молчите? Объясните все обстоятельства этого таинственного дела, и я клянусь подтвердить все, что Вы сообщите; подумайте хорошенько, Ваше высокопреосвященство: если я первая начну давать показания, а Вы откажетесь подтвердить то, что я могу сказать, то я погибну, я не ускользну от мести особы, которая жаждет погубить нас обоих.
Но с моей стороны Вам бояться нечего, моя преданность Вам известна. Если окажется, что эта особа неумолима, Вас все равно постигнет общая судьба со мной; я пожертвую всем на свете, чтобы отвести от Вас ее ненависть, или пускай мы с Вами оба окажется в опале.
P.S. Я написала этой особе письмо, которое, надеюсь, убедит ее сказать правду или по крайней мере не обрушивать на нас столь тяжких обвинений: ведь вся наша вина состоит в ошибке или в молчании.
Это коварное письмо она передала кардиналу на последней очной ставке в большой приемной Бастилии; кардинал покраснел, побледнел и содрогнулся от такой отчаянной храбрости. Не в силах сразу взять себя в руки, он вышел.
А письмо к королеве графиня тут же отдала аббату Декелю, капеллану Бастилии, преданному интересам Роганов; аббат сопровождал кардинала в приемную.
– Сударь, – сказала ему Жанна, – передав это послание, вы можете изменить судьбу его высокопреосвященства и мою. Ознакомьтесь с его содержанием: знание чужих тайн входит в ваш долг. Вы убедитесь, что я обратилась к единственной силе, которую мы с его высокопреосвященством можем умолять о помощи.
Священник отказал ей.
– Вы не видитесь ни с какими духовными лицами, кроме меня, – так объяснил он свой отказ. – Ее величество решит, что вы написали ей по моему совету и что вы во всем мне признались; я не могу согласиться на поступок, который меня погубит.
– Ну что ж, – отвечала Жанна, отчаявшись в успехе своей хитрости, но надеясь запугать кардинала, – скажите господину де Рогану, что у меня остается последнее средство доказать свою невиновность: предъявить письма, которые он писал королеве. Мне претило это средство; но в наших общих интересах я на него решусь.
Видя, что священник потрясен этой угрозой, она последний раз попыталась вложить ему в руку свое ужасное письмо к королеве.
«Если он возьмет письмо, – сказала она себе, – я спасена: потом я при всем народе спрошу у него о судьбе этого письма, и если он доставит его королеве, она будет вынуждена мне ответить, а не доставит – тогда королева погибла: колебания Роганов подтвердят ее вину и мою невиновность».
Но как только аббат Декель дотронулся до письма, он тут же вернул его Жанне, словно оно жгло ему руку.
– Подумайте, – побледнев от ярости, сказала Жанна, – ведь вы ничем не рискуете: письмо я запечатала в конверт, на котором стоит имя госпожи де Мизери.
– Тем более! – вскричал аббат. – Значит, тайна будет известна двоим. Значит, королева будет гневаться на меня вдвойне. Нет, нет, я отказываюсь.
И он отстранил руку графини.
– Заметьте, – проговорила она, – вы сами толкаете меня на обнародование писем господина де Рогана.
– Пусть так, – отвечал аббат. – Обнародуйте их, сударыня.
– Однако, – дрожа от злобы, настаивала Жанна, – если будет доказано, что господин де Роган состоял в тайной переписке с ее величеством, это будет стоить ему головы; вы говорите мне «пусть так», но я вас обо всем предупредила.
В этот миг отворилась дверь, и на пороге показался разгневанный и величественный кардинал.
– Пускай по вашей вине будет обезглавлен отпрыск рода Роганов, – воскликнул он. – Бастилия уже видела подобные зрелища. Но знайте, я без сожалений вступлю на эшафот, лишь бы только увидеть, как прижгут клеймом мошенницу и воровку! Идемте, аббат, идемте.
Вымолвив эти уничтожающие слова, он повернулся к Жанне спиной и вышел вместе со священником, а злополучная женщина осталась в ярости и отчаянии, сознавая, что с каждым движением она все глубже увязает в смертельной трясине, которая вскоре поглотит ее с головой.
Все расчеты г-жи де Ламотт обратились в прах. Все расчеты Калиостро оправдались. Едва он очутился в Бастилии, как понял, что теперь у него есть предлог открыто готовить крах монархии, под которую он столько лет вел глухие подкопы с помощью иллюминизма и оккультных наук.
Уверенный, что его ни в чем не уличат и что жертва сама приближает развязку, наиболее благоприятную для его планов, он свято исполнил обещание, данное всему свету.
Он собрал обильный материал для того лондонского письма, которое было опубликовано месяцем позже описываемых событий и стало первым ударом тарана по стенам древней Бастилии, первым враждебным выпадом революции, первым ощутимым толчком, предшествовавшим потрясению 14 июля 1789 года.
В этом письме, где Калиостро ниспровергал короля, королеву, кардинала, спекулянтов, а также г-на де Бретейля, олицетворявшего тиранию министров, наш разоблачитель изъяснялся следующим образом:
Да, я и на свободе повторю то же, что говорил в заточении: нет злодейства, коего не искупали бы полгода Бастилии. Меня спрашивают, вернусь ли я когда-нибудь во Францию. Непременно, отвечаю я, но при условии, что там, где теперь Бастилия, будет место для гуляний. Да будет на то воля Божия! Французы, у вас есть все, что надобно для счастья: плодородная почва, мягкий климат, добрые сердца, чарующее веселье, таланты и склонности ко всему на свете; в искусстве нравиться у вас нет соперников, в других искусствах вам не у кого учиться, но вам недостает, друзья мои, сущей малости: уверенности, что если вы ни в чем не виноваты, то будете спать в своей постели.
По отношению к Оливе Калиостро тоже сдержал слово. Она же со своей стороны свято блюла верность графу. У нее не вырвалось ни единого слова, которое могло бы скомпрометировать ее покровителя. Ее показания оказались пагубны только для г-жи де Ламотт: она ясно и неопровержимо описала свое невольное участие в обмане, мишенью которого, по ее словам, был какой-то незнакомый дворянин; ей сказали только, что его зовут Луи.
Олива, как прочие пленники, проводила дни под замком, подвергаясь допросам, и все это время она не видела своего дорогого Босира, но нельзя сказать, что он ничем ей о себе не напоминал: мы убедимся, что возлюбленный оставил ей на память тот самый залог, о котором мечтала Дидона, говоря: «О, если бы мне было дано увидать, как на моих коленях играет малютка Асканий!»[149]
В мае месяце 1786 года на улице Сен-Поль на ступенях портала церкви св. Павла в толпе бедняков стоял человек. Он был в большом волнении, прерывисто дышал и все смотрел в сторону Бастилии, не в силах отвести от нее взгляда.
К нему подошел человек с длинной бородой; то был один из немцев, состоявших на службе у Калиостро; во время таинственных приемов в старом доме на улице Сен-Клод Бальзамо отводил ему роль дворецкого.
Этот слуга остановился рядом со снедаемым нетерпением Босиром и тихо ему сказал:
– Подождите, подождите, сейчас они приедут.
– А, это вы! – вскричал Босир.
Но поскольку слова «сейчас они приедут» явно его не успокоили и он вопреки благоразумию продолжал размахивать руками, не скрывая своего волнения, немец сказал ему на ухо:
– Господин Босир, вы так шумите, что вас заметит полиция. Мой хозяин обещал передать вам весточку, вот я ее и принес.
– Говорите же! Говорите, друг мой!
– Тише. Мать и дитя находятся в полном здравии.
– О-о! – возопил Босир в порыве неописуемого восторга. – Она родила! Она спасена!
– Да, сударь, но отойдемте в сторону, прошу вас.
– Девочка?
– Нет, сударь, мальчик.
– Это еще лучше! Ах, друг мой, какое счастье, какое счастье! Поблагодарите от меня вашего хозяина, передайте ему, что моя жизнь и все, что у меня есть, в его распоряжении.
– Да, господин Босир, передам, когда увижу.
– Друг мой, почему вы только что сказали… Но прошу вас, примите эти два луидора.
– Сударь, я ничего ни от кого не принимаю, кроме как от хозяина.
– Ах, простите, я не хотел вас оскорбить.
– Разумеется, сударь. Но вы спрашивали…
– Ах, да, я хотел спросить, почему вы только что сказали, что они скоро приедут? Кто приедет, скажите?
– Я имел в виду тюремного хирурга и повитуху, тетушку Шопен, принимавших у мадемуазель Оливы роды.
– Они приедут сюда? Зачем?
– Окрестить дитя.
– Я увижу свое дитя! – вскричал Босир, не в силах устоять на месте. – Вы говорите, я увижу сына Оливы? Здесь, сейчас?
– Здесь и сейчас, но сдержитесь, умоляю вас, иначе несколько агентов де Крона, которые, как я догадываюсь, скрываются под лохмотьями попрошаек, заметят вас и поймут, что вы поддерживаете сношения с узником Бастилии. Вы и себя погубите, и скомпрометируете моего хозяина.
– Ох! – воскликнул Босир, охваченный священным трепетом почтения и признательности. – Лучше умереть, чем хоть единым звуком навредить моему благодетелю. Если понадобится, я задохнусь, но не скажу больше ни слова. Однако что же они не едут!
– Терпение.
Босир подошел к нему поближе.
– А она-то сама хоть немножко рада? – спросил он, умоляюще сложив руки.
– Она очень рада, – отвечал тот. – А вот и фиакр подъехал.
– Да, да!
– Остановился…
– Что-то белое, в кружевах…
– Это обшитое кружевом покрывальце, в каком приносят ребенка к купели.
– Боже!
И Босиру пришлось привалиться к колонне, чтобы не упасть: он увидел, как из фиакра вышли повитуха, тюремный хирург и один из надзирателей, который должен был исполнить обязанности свидетеля.
На пути у этих троих топтались нищие, гнусавыми голосами клянча подаяние.
И странное дело: крестные отец и мать прошли вперед, расталкивая попрошаек локтями, а посторонний человек роздал им всю мелочь и все экю, плача от радости.
Маленькая процессия вошла в церковь; чуть погодя Босир вошел вслед за ними и вместе со священниками и любопытствующими прихожанами протиснулся в ризницу, где должно было происходить таинство крещения.
Священник узнал повитуху и хирурга, которые уже много раз при подобных обстоятельствах исполняли здесь поручения своего ведомства; он дружески кивнул им и улыбнулся.
Босир с улыбкой тоже поклонился им.
Затем дверь ризницы затворилась, и священник, взяв в руку перо, начал вписывать в церковную книгу узаконенные обычаем слова, свидетельствующие о совершении обряда крещения.
Когда он дошел до имени и фамилии ребенка, хирург сказал:
– Это мальчик, вот и все, что мне известно.
Все четверо участников церемонии сопроводили это заявление смешками, которые Босиру обидно было слышать.
– Но нужно же ему имя, ну, хоть имя какого-нибудь святого, – добавил священник.
– Мать пожелала дать ему имя Туссен.
– Туссен значит «все святые», – посмеявшись, заметил священник, и по ризнице порхнул новый смешок.
Босир уже начинал терять терпение, но под влиянием благоразумного немца еще держал себя в руках. Он промолчал.
– Да, – продолжал священник, – с таким именем да со столькими небесными заступниками можно обойтись и без отца. Так и запишем: «Сегодня нам был принесен младенец мужеского пола, рожденный вчера в Бастилии от Николь Оливы Леге и… неизвестного отца».
Босир в ярости подскочил к священнику и, схватив его за запястье, вскричал что было сил:
– У Туссена есть не только мать, но и отец! Отец любит его и не отречется от своей крови и плоти. Прошу вас, запишите, что Туссен, рожденный вчера от барышни Николь Оливы Леге, – сын присутствующего здесь Жана Батиста Туссена де Босира.
Вообразите себе изумление священника, крестного отца и крестной матери! Священник выронил перо, повитуха чуть не уронила младенца.
Босир взял у нее сына и, страстно целуя его, запечатлел на лбу у несчастного малютки первое благословение, самое священное в нашем мире после господнего: он окропил дитя отцовскими слезами.
Свидетели этой сцены были растроганы, несмотря на привычку к драматическим зрелищам и свойственный людям той эпохи вольтерьянский скептицизм. Только священник сохранил хладнокровие и усомнился в отцовстве Босира; быть может, ему было досадно, что придется переделывать запись.
Но Босир догадался, как уладить дело: он выложил на купель три луидора, которые лучше слез удостоверили его отцовские права и блестяще подтвердили его набожность.
Священник поклонился, подобрал семьдесят два ливра и перечеркнул две строчки, которые ранее с шутками и прибаутками вписал в свою книгу.
– Но только, сударь, – сказал он, – поскольку тюремный хирург и госпожа Шопен по всем правилам заявили все, что им известно о ребенке, надобно и вам расписаться собственноручно и подтвердить, что вы признаете себя его отцом.
– Да я рад расписаться собственной кровью! – вскричал Босир, не помня себя от счастья.
И в восторге схватил перо.
– Берегитесь, – тихо сказал ему на ухо тюремщик Гийон, которому не изменила его обычная добросовестность. – Боюсь, сударь мой, что ваше имя кое у кого вызывает неприязнь; опасно вписывать его в церковную книгу, куда всякий может заглянуть, да еще и дата в ней обозначена, а из этого следует, что вы нынче здесь присутствовали и что вы поддерживаете сношения с обвиняемой.
– Спасибо вам за совет, друг мой, – гордо отвечал Босир, – он достоин честного человека и стоит тех двух луидоров, которые я прошу вас принять, но отрекаться от сына моей жены…
– Она ваша жена? – вскричал хирург.
– Законная жена? – воскликнул священник.
– Дай ей Бог поскорее выйти на свободу, – дрожа от радости, отвечал Босир, – и на другой день Николь Леге будет носить имя Босир, имя своего мужа и сына!
– Но теперь вы подвергаете себя опасности, – настаивал Гийон. – Полагаю, что вас ищут.
– Я вас не выдам, – сказал хирург.
– И я, – заверила повитуха.
– И я, – вздохнул священник.
– А если на меня донесут, – подхватил Босир в порыве мученического вдохновения, – я готов погибнуть на колесе, и утешением мне послужит, что я признал свое дитя.
– Если его и колесуют, – шепнул повитухе г-н Гийон, обиженный, что его советом пренебрегли, – то уж не зато, что он признал себя отцом малютки Туссена.
И после этой шутки, вызвавшей улыбку на устах тетушки Шопен, в книге по всей форме была произведена запись о крещении юного Босира.
Босир-старший начертал признание своего отцовства в самых изысканных, но несколько многословных выражениях, как пишутся вообще все отчеты о деяниях, которыми гордится автор.
Затем он перечитал, расставил знаки препинания, подписался и дал подписать всем четверым присутствующим.
Еще раз перечитав и проверив, он поцеловал сына, должным образом окрещенного, сунул ему под одеяльце десяток луидоров, прицепил на шею кольцо – подарок роженице – и, гордый, как Ксенофонт во время знаменитого отступления[150], отворил дверь ризницы, не собираясь прибегать ни к каким военным хитростям против шпиков, коль скоро среди них найдутся изверги, способные сцапать его в такой день.
Возле церкви по-прежнему толпились нищие. Если бы Босир вгляделся в них повнимательнее, он заметил бы среди них нашего старого знакомого Умника, виновника его нынешних несчастий, но Босиру было не до того. Он снова роздал милостыню, выслушал бесчисленные восклицания «Да хранит вас Господь!», и вот уже счастливый отец поспешил прочь от церкви св. Павла со всем достоинством почтенного дворянина, которого благословляют, чтут, нежат и лелеют бедняки его прихода.
Свидетели крещения также вышли из церкви и сели в поджидавший их фиакр, очень довольные приключением.
Стоя на углу улицы Кюльтюр-Сент-Катрин, Босир видел, как они садятся в карету, послал сыну несколько трепетных воздушных поцелуев, когда же излились все чувства, переполнявшие его грудь, а фиакр скрылся из виду, он подумал, что не следует искушать ни Господа, ни полицию, и вернулся в свое убежище, известное только ему, графу Калиостро да г-ну де Крону.
Дело в том, что г-н де Крон тоже сдержал слово, которое дал графу, и не беспокоил Босира.
Когда ребенка привезли в Бастилию и тетушка Шопен пересказала Оливе все поразительные приключения, которые с ними произошли, Олива надела на большой палец кольцо Босира, залилась слезами и сказала, целуя дитя, которому уже искали кормилицу:
– Не надо! Когда-то господин Жильбер, ученик господина Руссо, говорил мне, что хорошая мать должна сама кормить свое дитя; я буду кормить сына сама. Буду по крайней мере хорошей матерью – и теперь, и всегда.
Наконец после долгого следствия генеральный прокурор представил свое заключение, исходя из которого было назначено судебное разбирательство.
Всех обвиняемых, кроме г-на де Рогана, перевезли в тюрьму Консьержери, поближе к суду, который отворял свои двери ежедневно в семь утра.
Представ перед судьями, коих возглавлял президент Алигр, обвиняемые продолжали вести себя так же, как на следствии.
Олива отвечала искренне, держалась робко; Калиостро был спокоен, в его манере сквозило чувство собственного превосходства, а подчас некое таинственное величие, которое он охотно подчеркивал.
Билет конфузился, унижался и хныкал.
Жанна вела себя дерзко, кидала яростные взгляды, речи ее были проникнуты угрозой и ядом.
Кардинал был искренен, задумчив и безучастен.
Жанна быстро освоилась в Консьержери и с помощью медовых речей да маленьких секретов завоевала благосклонность привратницы суда, ее мужа и сына.
Это смягчало ей тяготы заключения и облегчало сношения с миром. Мартышке всегда нужно больше простора, чем псу, интриган всегда суетится больше достойного человека.
Судебные прения не поведали Франции ничего нового. По-прежнему было очевидно, что ожерелье украдено одним из двух обвиняемых, причем обвиняемые эти сваливали вину один на другого.
Суду предстояло решить, кто из них вор – только и всего.
Но по вине беса, вечно толкающего под руку французов и особенно обуревавшего их в те времена, к этому настоящему судебному разбирательству было искусственно привито другое.
Оно должно было установить, имелись ли у королевы основания брать кардинала под стражу обвинять его в дерзких оскорблениях.
Для тех, кто интересовался политикой, суть дела заключалась именно в этом дополнительном разбирательстве. Считал ли г-н де Роган себя вправе говорить королеве то, что он ей сказал, и совершать от ее имени те поступки, которые он совершил? Был ли он тайным доверенным лицом Марии Антуанетты, обманувшим ее доверие, коль скоро дело стало достоянием молвы?
Короче говоря, был ли обвиняемый г-н де Роган верным наперсником королевы, добросовестно исполнявшим ее волю?
Если он исполнял ее волю, значит, королева виновна в тех дружеских сношениях, пускай невинных, которые сама она отрицала, хотя г-жа де Ламотт намекала на то, что сношения эти имели место. Да и потом, в конце концов, признает ли безжалостное общественное мнение невинной такую дружбу, которую приходится скрывать и от мужа, и от министров, и от подданных?
Вот что представляло собой судебное разбирательство, которое в назидание всем и каждому предстояло довести до конца генеральному прокурору.
Итак, заговорил генеральный прокурор.
Он был орудием в руках двора, он защищал от пренебрежения оскорбленное королевское достоинство, он отстаивал великий принцип монаршей неприкосновенности.
Для генерального прокурора существовало только то разбирательство, которое касалось реальных обвиняемых; что же до разбирательства второго, побочного, – он отметал его, атакуя кардинала. Прокурор не мог допустить, чтобы в деле об ожерелье на королеву легла хоть малейшая ответственность. Даже если Мария Антуанетта в чем-то замешана, ее вина все равно должна пасть на голову прелата.
Поэтому он бескомпромиссно потребовал:
Билета приговорить к галерам;
Жанну де Ламотт – к клеймению, кнуту и пожизненному заключению в приют;
Калиостро оправдать;
Оливу просто-напросто выслать;
Кардинала заставить признаться в оскорбительной дерзости по отношению к ее величеству; после такого признания он должен будет удалиться от двора и лишиться всех должностей и отличий.
Эта обвинительная речь поразила парламент нерешительностью, а обвиняемых повергла в ужас. В ней с такой силой проявилась королевская воля, что четвертью века ранее, когда парламент еще только начал сотрясать надетое на него ярмо и отстаивать свои прерогативы, судьи, преисполненные почтения к принципу непогрешимости трона, в усердии своем превзошли бы выводы королевского прокурора.
Но теперь мнение его поддержали только четырнадцать советников: голоса разделились.
Приступили к последнему допросу; это была формальность, едва ли не бесполезная в отношении таких обвиняемых, поскольку в ходе допроса судьи надеялись добиться признаний, пока приговор не вынесен; но ожесточившиеся противники, которые боролись уже так давно, не расположены были ни к миру, ни к перемирию. Оба жаждали не столько собственного оправдания, сколько обвинения противника.
По обычаю обвиняемому полагалось восседать перед судьями на небольшой деревянной скамье – убогой, низенькой, постыдной; на нее словно падала тень позора от тех подсудимых, которые прямо с этой скамьи отправились на эшафот.
На ней-то и поместился мошенник Билет, который, обливаясь слезами, молил о милосердии.
Он признал все – что он виновен в подлоге, виновен в сообщничестве с Жанной де Ламотт. Терзавшие его муки совести были способны смягчить даже судей.
Но Билет никого не интересовал: все понимали, что он обыкновенный пройдоха. Из зала суда его скоро спровадили, и он, горько плача, вернулся в свою камеру в Консьержери.
После него в дверях залы появилась г-жа де Ламотт, которую ввел пристав по имени Фремен.
Она была в накидке поверх сорочки из тонкого батиста, в газовом чепце без лент; лицо ее прикрывала белая газовая вуаль; волосы не были напудрены. Ее вид произвел на собравшихся большое впечатление.
Только что она подверглась первому из унижений, через которые ей предстояло пройти: ее провели наверх по малой лестнице, как обычную преступницу.
Сперва ее смутили жара в зале, гул голосов, море голов, повернувшихся к ней; глаза у нее забегали, словно они приноравливались к тому, чтобы охватить взглядом всю залу.
Тогда письмоводитель, державший ее за руку, проворно подвел ее к скамье подсудимых, расположенной в середине полукруга; формой она напоминала ту зловещую колоду, которая возвышается не в зале суда, а на эшафоте и называется плахой.
Завидев это позорное сиденье, предназначенное ей, которая гордилась, что носит имя Валуа и держит в руках судьбу французской королевы, Жанна де Ламотт побледнела и бросила вокруг гневный взгляд, словно надеясь запугать судей, позволивших себе такое оскорбление; но, читая во всех глазах непреклонность и любопытство, а вовсе не жалость, она обуздала свое яростное негодование и, не желая показать, что у нее подгибаются ноги, опустилась на скамью.
Во время допроса было заметно, что отвечает она как можно неопределеннее, давая врагам королевы возможность вовсю пользоваться этой неопределенностью в своих интересах. Только о собственной невиновности Жанна высказалась недвусмысленно и ясно; она вынудила председательствующего спросить ее о письмах, которые, по ее утверждениям, кардинал писал королеве, и об ответах королевы кардиналу.
Ответ на этот вопрос весь был напитан змеиным ядом.
Сначала Жанна объявила, что не намерена бросать тень на имя королевы; она добавила, что лучше всех на этот вопрос ответит кардинал.
– Предложите ему представить вам эти письма или их копии, – сказала она, – знакомство с ними удовлетворит ваше любопытство. Я же не могу вам точно сказать, в самом ли деле письма эти писали друг другу кардинал и королева: на мой взгляд, государыня не может писать подданному с такой свободой и откровенностью, а подданный не посмеет писать государыне так дерзко.
Этот выпад был встречен глубоким молчанием, доказавшим Жанне, что она только внушила отвращение своим недругам, страх сторонникам и недоверие беспристрастным судьям. Со скамьи подсудимых она поднялась в сладостной надежде, что кардинала усадят туда же. Она, так сказать, удовольствовалась этой местью. Что же с нею стало, когда, в последний раз обернувшись на это позорное сиденье, на котором ее стараниями должны были поместить Рогана, она больше не увидела скамьи: по приказу двора приставы заменили скамью креслом.
Из ее груди вырвался хриплый вой; она кинулась прочь из залы, кусая себе руки от ярости.
Начались ее терзания. В залу в свой черед медленно вступил кардинал. Он только что вышел из кареты; перед ним распахнули парадную дверь.
При его появлении по рядам судей пробежал благожелательный, сочувственный ропот. Ему вторили дружные крики с улицы. То народ приветствовал подсудимого и заступался за него перед судом.
Принц Луи был бледен и сильно взволнован. Одетый в длинное парадное облачение, он взирал на судей с почтением и благосклонностью, вверяя себя их беспристрастию и взывая к справедливости.
Кардиналу указали на кресло; он словно боялся оглядеть залу, и председательствующий с поклоном сказал ему несколько ободрительных слов, а все судьи с симпатией, которая лишь усугубила бледность и волнение обвиняемого, стали упрашивать его сесть.
Когда он заговорил, его дрожащий голос, прерываемый вздохами, его печальный взгляд, смиренная осанка возбудили в присутствующих глубокое сочувствие. Он медленно подбирал слова, не столько приводил доказательства, сколько оправдывался, не столько рассуждал, сколько молил, а когда он, красноречивейший оратор, внезапно осекся и замолчал, этот упадок душевных сил, казалось, произвел на судей более благоприятное впечатление, чем любая защитительная речь и любые доводы.
Затем появилась Олива; для бедняжки снова внесли скамью подсудимых. Многие содрогнулись при виде этого живого подобия королевы, занимающего постыдное сиденье, на котором еще недавно видели Жанну де Ламотт. Этот призрак Марии Антуанетты, королевы Франции, на скамье для воров и мошенников потряс самых рьяных ниспровергателей монархии. Однако многих из них это зрелище лишь раздразнило, как тигра, которому дали лизнуть кровь.
Но все передавали из уст в уста, что в комнате писцов бедная Олива оставила младенца, которого кормит грудью, и, когда дверь отворялась, слышался крик маленького Босира, жалобно моливший о снисхождении к матери.
Вслед за Оливой явился Калиостро, наименее виновный из всех. Ему не приказали есть, хотя по соседству со скамьей все еще стояло кресло.
Суд опасался речи, которую мог произнести в свою защиту Калиостро, и все удовольствовались коротким допросом, коему положило конец восклицание президента д'Алигра: «Достаточно!»
Засим суд объявил, что прения закончены и начинается совещание. Толпа медленно выплеснулась на улицы и набережные; все собирались вернуться вечером и выслушать приговор, который, как объявили, будет произнесен в скором времени.
38. Об одной решетке и некоем аббате
Когда позади остались прения, и допросы, и треволнения вокруг скамьи подсудимых, всех обвиняемых разместили на ночь в тюрьме Консьержери.
К вечеру, как мы уже сказали, на Дворцовой площади собралась толпа; разбившись на безмолвные, но оживленные группы, люди ждали и надеялись узнать о приговоре сразу же, как только он будет произнесен.
Удивительное дело! В Париже толпа узнает великие секреты прежде, чем они успеют выйти на свет божий.
Итак, толпа ждала, лакомясь лакричной водой, приправленной анисом, запасы которой разносчики пополняли под ближайшей аркой моста Менял.
Было тепло. Июньские тучи наплывали одна на другую, подобные клубам густого дыма. На краю неба то и дело вспыхивали бледные зарницы.
Покуда кардинал, которому в виде милости было дозволено прогуливаться по террасам, соединявшим дозорные башни, беседовал с Калиостро о возможном успехе их взаимной защиты; покуда Олива у себя в камере осыпала младенца ласками и баюкала его на руках, а Рето в своей одиночке кусал ногти и, глядя перед собой сухими глазами, пересчитывал в мыслях золотые, обещанные ему г-ном де Кроном, и соизмерял их с месяцами тюремного заключения, которые ему сулил парламент, – в это самое время Жанна, укрывшись в комнате привратницы, г-жи Юбер, пыталась развлечь свой пылающий мозг хоть каким-нибудь звуком и движением.
Эта комната с высоким потолком была просторна, как зала, и выстлана каменными плитами, как галерея; большое стрельчатое окно выходило на набережную. Сквозь маленькие ромбовидные стекла едва пробивался свет; казалось, даже здесь, где обитают свободные люди, любое напоминание о свободе – под запретом: недаром окно снаружи было забрано массивной железной решеткой, а между прутьями натянута свинцовая сетка, еще больше затенявшая комнату.
Просеянный через это двойное сито свет не ослеплял узников. В нем ничего не оставалось от того дерзкого сияния, что исходит от вольного солнца, он ничем не оскорблял тех, кто не мог выйти наружу. По прошествии времени, которое все уравнивает и примиряет человека с Богом, во всем, даже в том зле, которое чинит человек, появляется своя гармония, смягчающая и облегчающая переход от скорби к улыбке.
С тех пор как г-жа де Ламотт была заточена в Консьержери, она весь день проводила в этой комнате в обществе привратницы, ее сына и мужа. Мы уже говорили, что она была наделена гибким умом и очаровательными манерами. Она заставила этих людей полюбить ее; она ухитрилась внушить им, что королева – великая грешница. Не за горами уже был тот день, когда другая привратница в этой самой зале будет сокрушаться о несчастьях, обрушившихся на другую узницу, будет верить, что эта узница ни в чем не виновата, и умиляться ее терпению и доброте, и узницей этой будет королева!
Итак, в обществе привратницы и ее близких г-жа де Ламотт – по ее собственным словам – забывала свои безрадостные мысли и расцветала в ответ на расположение семейства привратницы. В тот день, когда завершилось судебное разбирательство, Жанна, вернувшись к этим добрым людям, нашла их в тревоге и смущении.
От хитрой графини не ускользал ни один оттенок: она хваталась за малейшую надежду, настораживалась при малейшей опасности. Напрасно старалась она вытянуть из г-жи Юбер правду: привратница и ее родные отделывались ничего не значащими словами.
Итак, в тот день Жанна заметила в углу у камина аббата, который нередко делил трапезы с семейством привратницы. В прошлом он был секретарем у наставника графа Прованского; простой в обращении, в меру язвительный, знакомый со двором, он давно уже отдалился от семьи Юберов, но с тех пор, как в Консьержери водворилась г-жа де Ламотт, снова зачастил к старым знакомым.
Здесь же было несколько старших писцов Дворца правосудия; они во все глаза глядели на г-жу де Ламотт, но помалкивали.
Графиня весело нарушила молчание.
– Я уверена, – заявила она, – что там, наверху, беседа идет живее, чем здесь.
Единственным ответом на ее попытку были невнятные слова согласия, которые пробормотали привратник с женой.
– Наверху? – переспросил аббат, делая вид, будто ничего не знает. – Где это, ваше сиятельство?
– В зале, где совещаются мои судьи, – отвечала Жанна.
– Ах, да-да! – согласился аббат. И вновь воцарилось молчание.
– Полагаю, – продолжала графиня, – то, как я сегодня держалась, произвело благоприятное впечатление. Вы, должно быть, уже что-нибудь об этом знаете, не правда ли?
– Ваша правда, сударыня, – робко отвечал привратник.
И он встал, словно не желал поддерживать разговор.
– А ваше мнение, господин аббат? – подхватила Жанна. – Разве мое дело не проясняется? Вспомните: против меня не привели не одной улики.
– Вы правы, сударыня, – произнес аббат. – Вам и впрямь есть на что надеяться.
– Не правда ли? – воскликнула Жанна.
– Однако, – добавил аббат, – предположите, что король…
– Ну, что же сделает король? – горячо перебила Жанна.
– Эх, сударыня, король, возможно, не пожелает признать свою неправоту.
– Тогда ему придется осудить г-на де Рогана, а это невозможно.
– В самом деле, это нелегко, – подхватили все присутствующие.
– Итак, – поспешно вмешалась Жанна, – в этом деле мои интересы совпадают с интересами господина де Рогана.
– Ну нет, ни в коей мере, – возразил аббат, – вы обольщаетесь, сударыня. Кто-то из обвиняемых будет оправдан… Я полагаю, что вы, я даже надеюсь, что это будете вы. Но оправдан будет только один человек. Королю нужен преступник, иначе как будет выглядеть королева?
– Это правда, – глухо подтвердила Жанна, оскорбленная тем, что ей возражают, пускай даже разделяя ее надежду, которую она высказывала только для вида. – Королю нужен преступник. Что ж! На эту роль господин де Роган годится не хуже меня.
После этих слов воцарилась угрожающая тишина. Первым ее нарушил аббат.
– Сударыня, – сказал он, – король не злопамятен; когда первый его гнев будет утолен, он не станет ворошить прошлое.
– Но что вы подразумеваете под утолением гнева? – иронически осведомилась Жанна. – Нерон гневался по-своему, а Тит по-своему.
– Обвинительный приговор… кому бы то ни было, – поспешил ответить аббат, – приносит удовлетворение.
– Кому бы то ни было! Сударь, – воскликнула Жанна, – как ужасно то, что вы сказали! Это слишком неопределенно. Кому бы то ни было – значит, кому угодно!
– О, я говорю только о заточении в монастырь, – холодно заметил аббат. – Король, если верить слухам, охотнее всего распорядится вашей судьбой именно таким образом.
Жанна посмотрела на посетителя с ужасом, который мгновенно уступил место неистовой злобе.
– Заточение в монастырь! – проговорила она. – Это медленная, полная мелких унижений, мучительная смерть, которая со стороны будет выглядеть как милосердие! Заточение в in расе[151], не так ли? Голод, холод, наказания! Нет, довольно невинной жертве терпеть позор, муки, унижения, в то время как истинная виновница наслаждается могуществом, свободой и почетом! Умереть, умереть скорее, но по доброй воле, по своему выбору – и смертью покарать себя за то, что явилась на этот гнусный свет!
И она, не слушая ни увещеваний, ни просьб, не позволяя до себя дотронуться, оттолкнула привратника, отбросила в сторону аббата, отстранила г-жу Юбер и подбежала к поставцу, где лежали ножи.
Все трое заступили ей дорогу; она бросилась от них прочь, подобно пантере, которую охотники потревожили, но не испугали, и с яростным воплем, исполненным преувеличенного отчаяния, устремилась в кабинет, примыкавший к зале; там она схватила в руки огромную фаянсовую вазу, в которой рос чахлый розовый куст, и нанесла себе ею несколько ударов по голове.
Ваза разбилась, в руке у разъяренной фурии остался черепок, из царапин на лбу потекла кровь. Привратница, рыдая, бросилась ее обнимать. Жанну усадили в кресло, щедро оросили духами и уксусом. Она забилась в ужасных судорогах, а затем лишилась чувств.
Когда она очнулась, аббат предположил, что ей не хватает воздуха.
– Послушайте, – сказал он, – эта решетка не пропускает ни света, ни воздуха. Нельзя ли приоткрыть окно, чтобы бедной женщине было легче дышать?
Г-жа Юбер забыла все на свете, бросилась к шкафу, стоявшему рядом с камином, достала оттуда ключ от оконной решетки, и вскоре в комнату хлынул живительный воздух.
– А! – заметил аббат. – Я и не знал, что эта решетка отмыкается ключом. Боже, к чему эти предосторожности?
– Таков порядок, – пояснила привратница.
– Да, понимаю, – продолжал аббат с явным умыслом, – от этого окна до земли не больше семи футов, а выходит оно на набережную. Если какой-нибудь узник Консьержери ускользнет из своей камеры и проникнет к вам в комнату, он выберется на волю, не встретив на пути ни тюремщиков, ни стражи.
– Так и есть, – подтвердила г-жа Юбер.
Краем глаза следя за графиней, аббат заметил, что она все слышала и поняла; уловив слова привратницы, она вздрогнула и сразу же метнула взгляд на шкаф, в котором г-жа Юбер хранила ключ от решетки; этот шкаф закрывался простым поворотом ручки.
Аббату этого было довольно. Его присутствие не могло более принести никакой пользы. Он откланялся.
Не успел он выйти, как тут же вернулся, словно актер, который, покидая сцену, должен бросить финальную реплику.
– Сколько народу на площади! – произнес он. – Все так возбуждены! Они толпятся у входа во дворец, а на набережной нет ни души.
Привратник высунулся из окна.
– И в самом деле! – подтвердил он.
– Наверное, люди думают, – продолжал аббат, притворяясь, будто не предполагает, что г-жа де Ламотт его слышит, между тем как она слышала каждое слово, – наверное, люди думают, что приговор вынесут нынче ночью? Как вы считаете?
– По-моему, – отвечала привратница, – приговор навряд ли вынесут до утра.
– Ну что ж, – закончил аббат, – дайте бедной госпоже де Ламотт немного отдохнуть. Ей нужно оправиться от всех этих потрясений.
– Давай уйдем в спальню, – сказал жене добряк привратник, – а графиню оставим в кресле, если только она не захочет лечь в постель.
Жанна подняла голову и встретилась глазами с аббатом, ждавшим, не ответит ли она на эти слова. Но она прикинулась спящей.
Тогда аббат удалился, а привратник с женой потихоньку затворили решетку, убрали ключ на место и тоже ушли.
Как только Жанна осталась одна, она открыла глаза.
«Аббат советует мне бежать, – подумала она. – Возможно ли яснее указать мне и на необходимость бегства, и на способ, как это сделать! Нет, это не грубиян, которому нравится меня оскорблять, это друг, который хочет, чтобы я вырвалась на волю, потому он и угрожает мне осуждением до вынесения приговора.
Чтобы бежать, мне стоит сделать только шаг: открою шкаф, отопру решетку – и окажусь на безлюдной набережной.
Да, там безлюдно… Ни души! Даже луна не взошла.
Бежать! О, свобода! Вновь обрести свое богатство. Сквитаться с недругами за все зло, что они мне причинили!»
Она бросилась к шкафу и схватила ключ. Потом приблизилась к решетке.
Вдруг ей почудилось, что на фоне черного парапета моста, заслоняя его ровную линию, маячит какая-то темная фигура.
«Там в темноте кто-то есть! – мелькнуло у нее в голове. – Может быть, это аббат; он наблюдает за моим бегством; он ждет, чтобы помочь. Да, но если это ловушка?.. Что, если меня схватят при попытке к бегству, как только я спрыгну на набережную? Бежать – значит признаться в преступлении или, во всяком случае, признаться, что мне страшно! Кто спасается бегством, у того совесть нечиста… Откуда взялся этот человек? Сдается мне, что он из окружения графа Прованского. Почем я знаю, может быть, его подослала королева или Роганы? Они дорого бы дали за любой мой ложный шаг. Да, кто-то следит за мной!
Они толкают меня к бегству за несколько часов до оглашения приговора! Если мне в самом деле хотели помочь, почему не устроили мне побег раньше? О, господи, почём знать, не стало ли уже моим недругам известно, что судьи, посовещавшись, полностью меня оправдали? Может быть, они хотят смягчить для королевы этот жестокий удар уликами или признанием моей вины? А бегство – это и улика, и признание. Я остаюсь!»
И Жанна свято уверовала, что избежала расставленной ловушки. С улыбкой, исполненной коварства и отваги, она выпрямилась и недрогнувшей рукой положила ключ от решетки в шкафчик рядом с камином.
Потом опустилась в кресло между окном и горящей свечой и, притворяясь спящей, стала издали наблюдать за силуэтом соглядатая, который, в конце концов, по-видимому, наскучил ожиданием и исчез вместе с первыми лучами зари, в половине третьего пополуночи, когда уже можно было различить течение воды в реке.
Поутру, в тот час, когда оживает городской шум, когда Париж просыпается, чтобы добавить новое звено к цепи дней нашей жизни, графиня отдалась надежде, что с минуты на минуту в ее темницу прилетит весть об оправдании, а с нею вместе ликование и радость друзей.
Друзей? Увы! Разумеется, успех и влияние всегда бывают окружены свитой, а Жанна добилась и богатства, и могущества; она получала и раздавала множество благ, но не приобрела ни единого друга, которому, коль скоро на нее обрушится опала, пришлось бы отвернуться от всего, чему он еще недавно льстил.
Зато если она восторжествует – а Жанна надеялась, что так и будет, – у нее появятся сторонники, и обожатели, и завистники.
Но напрасно она ждала, что в комнату привратника Юбера хлынет радостная толпа.
Таков уж был характер графини, что от неподвижности, вызванной ожиданием и уверенностью в успехе, она мало-помалу перешла к чрезмерному возбуждению.
А поскольку вечное притворство невыносимо, она не потрудилась скрыть от своих стражей охватившее ее беспокойство.
Ей нельзя было выйти и разузнать, что происходит, но она выглянула в форточку и стала вслушиваться в крики, долетавшие с площади; эти крики, пройдя сквозь толстые стены древнего дворца Людовика Святого, сливались в неясный гул.
Вдруг Жанна услышала уже не шум, а настоящий взрыв ликующих возгласов, рев, топот множества ног: этот шум наполнил ее ужасом, ибо она сознавала, что едва ли ее персона способна вызвать такое воодушевление.
Этот взрыв рукоплесканий повторился дважды, а затем сменился шумом совсем иного рода.
В этом шуме ей тоже послышалось одобрение, но как будто более вялое и не пылкое, а холодное.
На набережной появлялось все больше прохожих; как видно, толпа на площади начала разбредаться в разные стороны.
– У кардинала нынче великий день! – произнес, приплясывая на мостовой у парапета, какой-то человек, судя по виду – один их прокурорских писцов.
И он запустил в реку камешек с ловкостью молодого парижанина, посвятившего много дней упражнению в этом искусстве, унаследованном из античной палестры[152].
– У кардинала? – повторила Жанна. – Значит, уже объявлено, что кардинал оправдан?
На лбу ее выступил едкий холодный пот. Она бросилась в залу привратницы.
– Сударыня, сударыня, – спросила она у тетушки Юбер. – Что это я услышала, будто у кардинала нынче великий праздник? Скажите, почему праздник?
– Не знаю, – отвечала привратница. Жанна взглянула ей прямо в лицо.
– Прошу вас, спросите у вашего мужа, – попросила она.
Привратница, сжалившись, исполнила ее просьбу, и Юбер из-за двери ответил:
– Не знаю.
Снедаемая тревогой и нетерпением, Жанна замерла посреди комнаты.
– Мало ли что болтали эти прохожие? – произнесла она. – Разве можно верить таким прорицаниям? Они, конечно, рассуждали о ходе разбирательства.
– Может быть, – заметил сердобольный Юбер, – они имели в виду, что оправдание будет для господина де Рогана большим праздником, вот и все.
– Вы полагаете, его оправдают? – воскликнула Жанна, у которой пальцы непроизвольно сжались в кулаки.
– Вполне возможно.
– А меня?
– Вас, сударыня? И вас тоже оправдают… Почему бы и нет?
– Странное предположение! – пробормотала Жанна. Затем она вернулась к окну.
– По мне, так напрасно вы, сударыня, смотрите, как ведут себя люди там, на улице, все равно ничего не поймете, – сказал привратник. – Уж поверьте мне, наберитесь-ка лучше терпения и дождитесь, когда придут ваш адвокат либо господин Фремен и прочтут вам…
– Приговор?.. Нет, нет!
И она напрягла слух.
Мимо шла какая-то женщина в окружении подружек. Праздничные чепцы, огромные букеты цветов. Впивая запахи воли, Жанна почувствовала аромат роз, разлившийся в воздухе, подобно драгоценному благовонию.
– Он получит мой букет, – крикнула женщина, – он сотни букетов получит, красавчик наш! Эх, и расцеловала бы я его, если бы могла!
– И я, – сказала одна из подружек.
– А я бы хотела, чтобы он меня поцеловал, – добавила другая.
«О ком это они?» – подумала Жанна.
– Конечно, ты бы не прочь: ведь он так хорош собой! – заметила третья подружка.
И все четыре прошли мимо.
– Опять кардинал! Только и разговоров, что о кардинале! – пробормотала Жанна. – Он оправдан, он оправдан!
И в голосе ее звучало отчаяние и вместе с тем такая уверенность, что муж и жена Юберы, решительно желая избежать повторения вчерашней бурной сцены, в один голос возразили:
– Эх, сударыня, ну почему вам жалко, чтобы бедного узника отпустили на волю?
Жанна уловила в их словах упрек, а главное, почувствовала в Юберах перемену; ей не хотелось терять их симпатию.
– Ах, вы меня не так поняли, – сказала она. – Неужто вы считаете меня такой злобной и завистливой, чтобы желать зла сотоварищам по несчастью? Дай-то Бог, чтобы его высокопреосвященство был оправдан, дай-то Бог! Но мне так хочется узнать поскорее… Друзья мои, поверьте, от нетерпения я совсем потеряла голову!
Юбер и его жена переглянулись, словно желая оценить последствия поступка, на который они уже почти готовы были решиться.
Но хищный огонь, блеснувший в глазах Жанны вопреки ее желанию, остановил их.
– Вы ничего мне не скажете? – воскликнула она, чувствуя, что совершила промах.
– Мы ничего не знаем, – последовал негромкий ответ. В этот момент Юбера позвали, и он вышел. Оставшись с Жанной наедине, привратница попыталась ее развлечь, но тщетно: всеми чувствами, всеми мыслями своими узница устремлялась прочь из комнаты, и слух ее, удесятеренный лихорадочной тревогой, жадно ловил каждый звук, каждое дуновение.
Привратница смирилась, не в силах помешать ей смотреть и слушать.
Внезапно с площади донеслись громкий шум и великое оживление. Толпа прихлынула на мост, заполнив его до самой набережной; то и дело раздавались дружные крики, от которых Жанна содрогалась на своем наблюдательном пункте.
Крики не прекращались; они были обращены к закрытой карете, запряженной лошадьми, коих сдерживали не столько руки кучера, сколько натиск толпы, так что карета еле-еле продвигалась вперед.
Люди теснились, напирали, и вот уже толпа подхватила на плечи, на руки лошадей, и карету, и двоих мужчин, что в ней сидели.
В ярких лучах солнца графиня узнала этих двоих; на них изливался дождь цветов, над ними колыхалась сень зеленых ветвей, которыми махали им тысячи рук, их приветствовала упоенная толпа.
Один, бледный от счастья, напуганный проявлениями народной любви, был задумчив, оглушен, робок. Женщины вспрыгивали на ободья колес и, хватая его за руки, жадно осыпали их поцелуями; они дрались между собой за обрывки кружева с его манжет и осыпали его самыми свежими, самыми изысканными цветами.
Наиболее счастливым удавалось вскочить на запятки кареты, к лакеям; потихоньку оттесняя препятствия, отделявшие их от их кумира, они запечатлевали на лбу обожаемого существа почтительный и пылкий поцелуй, а затем уступали место другим счастливицам. Этот обожаемый всеми человек был кардинал де Роган.
Его спутника, оживленного, радостного, сияющего, встречали не столь пылко, но, в сущности, ему тоже был оказан очень лестный прием. Недостаток цветов и поцелуев искупался приветственными криками; женщины вились вокруг кардинала, а мужчины кричали: «Да здравствует Калиостро!»
Всеобщее упоение было таково, что карета следовала по мосту Менял полчаса, и Жанна от начала до конца видела этот триумф. От нее не укрылась ни единая подробность.
Народное ликование, обращенное к жертвам королевы – ведь их называли именно так, – на миг преисполнило Жанну радостью.
Но тут же она подумала:
«Как! Эти двое уже на воле, их уже отпустили, исполнив все формальности, а я даже ничего не знаю! Почему же мне ничего не сообщают?»
Ее охватила дрожь.
Рядом была г-жа Юбер: она внимательно и молча следила за происходящим; казалось, ей все было понятно, но она ничего не объясняла Жанне.
Жанна уже хотела потребовать у нее необходимых объяснений, но тут ее внимание привлек новый взрыв шума, доносившийся со стороны моста Менял.
Теперь на мост въезжал окруженный людьми фиакр.
В фиакре Жанна узнала Оливу, которая улыбалась и показывала народу дитя; Олива также уезжала, свободная и веселая, а люди осыпали ее весьма вольными шутками и посылали свеженькой и соблазнительной молодой женщине поцелуи. Весь этот фимиам был, возможно, грубоват, но м-ль Оливе было более чем достаточно даже крох от того великолепного пиршества, которое толпа предназначала кардиналу.
Посреди моста ждала почтовая карета. Там за спиной приятеля прятался г-н Босир, не дерзавший открыто присоединиться ко всеобщему ликованию. Он подал Оливе знак, и та вышла из фиакра под крики толпы, которые готовы были превратиться в улюлюканье. Но что такое улюлюканье для артиста, которому грозили град тухлых яиц и изгнание из театра!
Олива села в карету и очутилась в объятиях Босира; он так стиснул ее, что едва не задушил, и больше не размыкал рук; орошая ее слезами и осыпая поцелуями, он перевел дух только в Сен-Дени, где они переменили лошадей, не встретив никаких помех со стороны полиции.
Тем временем Жанна, видя, что все эти люди отпущены на свободу, веселы и счастливы, удивлялась, почему ей никто ничего не сообщает.
– А как же я? – вскричала она. – Почему ко мне применяют такую изощренную жестокость, почему не сообщают приговор?
– Успокойтесь, сударыня, – промолвил Юбер, входя, – успокойтесь.
– Не может быть, чтобы вы ничего не знали, – отвечала Жанна, – вы знаете! Вы знаете! Так скажите мне!
– Сударыня…
– Если вы не варвар, скажите мне: вы же видите, как я страдаю.
– Нам, сударыня, простым тюремным надзирателям, запрещается разглашать приговоры: их читают секретари суда.
– Если вы просто боитесь, то вы чудовищно жестоки! – воскликнула Жанна в приступе ярости, испугавшем привратника, который опасался повторения вчерашней сцены.
– Нет, – сказал он. – Успокойтесь, успокойтесь же.
– Тогда говорите.
– А вы наберетесь терпения и ничем меня не выдадите?
– Обещаю, клянусь, только говорите!
– Ну что ж! Его высокопреосвященство оправдан.
– Знаю.
– В отношении графа Калиостро дело прекращено.
– Знаю! Знаю!
– С мадемуазель Оливы снято обвинение.
– Дальше! Дальше!
– Господин Рето де Билет приговорен…
Жанна содрогнулась.
– …к галерам.
– А я? А я? – в исступлении топая ногами, возопила она.
– Терпение, сударыня, терпение. Вы же обещали, не правда ли?
– Ну вот, я успокоилась, только говорите. Я приговорена?
– К изгнанию, – нетвердым голосом произнес привратник, отводя глаза.
В глазах у графини вспыхнул огонь радости, вспыхнул и тут же погас.
Потом она испустила пронзительный вопль и в притворном обмороке упала на руки Юбера и его жены.
– А что было бы, – шепнул привратник на ухо г-же Юбер, – если бы я сказал ей правду?
«Изгнание… – размышляла Жанна, простертая в притворном припадке, – это означает свободу, и богатство, и отмщение, об этом я и мечтала… Победа!»
Жанна все еще ожидала секретаря суда, который, как обещал привратник, должен был явиться к ней и огласить приговор.
Теперь, когда ее уже не терзала тревога, она страдала только от сравнения своей участи с участью других подсудимых, иными словами, от гордыни. Но она говорила себе:
«Какое дело мне, неразумной женщине, до того, что суд счел господина де Рогана невиновным, а меня виноватой? Разве меня карают за совершенную мною ошибку? Нет. Если бы в глазах света я была истинной и законной Валуа, если бы за меня, как за его высокопреосвященство, хлопотали принцы да герцоги, выстраивались на пути у судей, умоляя их всем своим видом, и траурным крепом на шпагах, и белыми траурными нашивками на платье, – не думаю, что бедной графине де Ламотт было бы отказано, и уж конечно, в предвидении столь высокого заступничества представительницу рода Валуа избавили бы от позора скамьи подсудимых.
Но к чему ворошить прошлое? Оно мертво. Завершилось наконец главное дело моей жизни. Занимая двусмысленное положение и в свете, и при дворе, готовая рухнуть от любого дуновения свыше, я прозябала и, быть может, была обречена кануть в ту самую нищету, которая была мне в жизни первой и неласковой наставницей. А нынче совсем другое дело! Изгнание! Осуждена на изгнание! Это значит, что я вправе увезти с собой в сундуке свое сокровище, проводить зиму под сенью апельсиновых деревьев в Севилье или в Джирженти[153], а лето – в Германии или Англии; я молода, хороша собой, знаменита, я сумею истолковать этот суд в свою пользу; что мне помешает жить в свое удовольствие вместе с мужем, если его, подобно мне, отправили в изгнание (а я знаю, что он на свободе), или с друзьями, которые всегда вдохнут в меня счастье и молодость?
А тогда, – углубившись в эти горячечные мысли, продолжала Жанна, – пускай кто-нибудь скажет мне, отверженной горемычной изгнаннице, что я беднее королевы, окружена меньшим почетом, вызываю больше осуждения: ведь мое осуждение было ей безразлично. Что значит земляной червь в сравнении с львом! Ей было важно, чтобы парламент осудил кардинала де Рогана, а судьи объявили, что кардинал ни к чему не причастен!
Но каким же образом они собираются теперь сообщить мне приговор и выслать из королевства? Неужели они станут мстить женщине и применят к ней все строгости, предусмотренные законом? Отрядят солдат, которые препроводят меня до самой границы? Торжественно возвестят мне: «Недостойная! Король изгоняет вас из страны!» Нет, вершители моей судьбы снисходительны, – с улыбкой возразила она сама себе, – они больше не держат на меня зла. Они гневаются только на славное парижское простонародье, которое вопит под их балконами: «Да здравствует кардинал! Да здравствует Калиостро! Да здравствует парламент!» Вот их истинный враг: простой народ. О да, это их отъявленный враг; вот я понадеялась на моральную поддержку народного мнения и не прогадала!»
Тут Жанна принялась мысленно готовиться к будущему и улаживать свои дела. Она уже размышляла о том, куда поместит бриллианты, как устроится в Лондоне (дело было летом), когда внезапно ее ум – но не сердце – пронзило воспоминание о Рето де Билете.
– Бедняга! – с недоброй улыбкой произнесла она. – Ему пришлось за все расплатиться. Искупление грехов всегда достается на долю подлых душ – подлых в философском смысле слова; такие козлы отпущения всегда вырастают как из-под земли в тот самый миг, когда в них является нужда, и над ними с самого начала занесена рука, которая их покарает.
Бедный Рето! Хилый, убогий, сегодня он поплатился за свои памфлеты против королевы, за свои литературные интриги, и Господь, воздающий каждому по заслугам в этом мире, предначертал ему жизнь, полную палочных ударов, изредка – золотых монет, ловушек, тайн, а в заключение – галеры. Вот что значит обладать хитростью, а не умом, язвительностью, а не злобой и быть задиристым, не будучи сильным и предусмотрительным. Сколько в природе вредных тварей, от ядовитого клеща до скорпиона, самого мелкого существа из тех, что внушают людям страх! Все эти немощные создания рады бы вредить человеку, но их не удостаивают борьбы – их просто давят.
Ловко отделавшись от сообщника с помощью этого надгробного слова, Жанна в мыслях предала его земле и твердо решила узнать, на какую каторгу попадет несчастный, дабы случайно не заехать в те же края и не заставить горемыку страдать от унижения при виде благоденствия его старой знакомой. У Жанны было доброе сердце.
Она весело села за стол с четой Юберов; привратник же и его жена сидели как в воду опущенные; они даже не старались скрыть уныние. Жанна приписала этот холодок тому обстоятельству, что ей вынесен обвинительный приговор. Она сказала им об этом. Юберы отвечали, что вид осужденного всегда причиняет им безмерное горе.
В глубине души Жанна была так счастлива, и ей с таким трудом удавалось скрыть свою радость, что она жаждала скорее остаться наедине со своими мыслями. Она решила после обеда попросить разрешения вернуться в свою камеру.
Она была весьма удивлена, когда за десертом привратница Юбер обратилась к ней с вымученной торжественностью, совсем не так, как у них было заведено.
– Сударыня, – сказала она, – нам запрещается содержать в квартире привратника особ, относительно коих парламент уже вынес приговор.
«Прекрасно, – сказала себе Жанна. – Они предвосхитили мое желание». Она поднялась.
– Мне бы не хотелось, чтобы ради меня вы нарушали приказ; это значило бы отплатить злом на все добро, что я от вас видела. Я немедля вернусь в свою камеру.
Она глянула, какое впечатление произвели ее слова. Юбер вертел в руках ключ. Привратница отвернулась, словно желая скрыть внезапное волнение.
– Но где и когда мне будет прочитан приговор? – спросила графиня.
– Быть может, они ждут, чтобы вы, сударыня, вернулись в свою камеру, – робко предположил Юбер.
«Решительно, он меня выпроваживает», – подумала Жанна.
И она вздрогнула от смутного чувства тревоги, которое тут же рассеялось.
Жанна поднялась на три ступеньки, которые вели из привратницкой в коридор канцелярии.
Видя, что она уходит, г-жа Юбер стремительно подбежала к ней и взяла ее за руки, но не почтительно, не с дружеской лаской, не с той чувствительностью, которая делает честь и тому, кто ее проявляет, и тому, к кому она обращена, а с глубоким состраданием, в порыве жалости, и это не ускользнуло от внимания проницательной графини, которая замечала все.
На сей раз впечатление Жанны было настолько отчетливо, что она не сумела скрыть от себя самой, как страшно ей стало, но этот страх, как и все прежние тревоги, не задержался в ее душе, до краев наполненной радостью и надеждой.
И все же графине хотелось расспросить г-жу Юбер о причинах ее жалости; она уже открыла рот и спустилась на две ступеньки, намереваясь задать прямой вопрос, на который нельзя было бы ответить простой отговоркой, но не успела. Юбер проворно и не слишком-то любезно взял ее за руку и отворил дверь.
Графиня очутилась в коридоре. Там ждали восемь стрелков из тех, что несли службу в суде. Чего они ждали? Об этом задумалась Жанна, когда их увидела. Но дверь привратницкой уже затворилась. Перед стрелками стоял один из простых надзирателей, который по вечерам всегда отводил графиню в камеру.
Этот человек пошел впереди Жанны, словно показывая ей дорогу.
– Я возвращаюсь к себе? – спросила графиня, и, как ни старалась она, чтобы голос ее звучал уверенно, в нем послышалось сомнение.
– Да, сударыня, – отозвался надзиратель.
Жанна ухватилась за железные перила и вслед за тюремщиком стала подниматься по лестнице. Она слышала, как стрелки шушукаются у нее за спиной, однако они не тронулись с места.
Приободрившись, она позволила запереть себя в камеру и даже приветливо поблагодарила надзирателя. Тот удалился.
Едва Жанна оказалась одна и без присмотра в своей темнице, как предалась необузданной радости, которую слишком долго скрывала под маской лицемерного уныния, пока оставалась в привратницкой. Камера в тюрьме Консьержери была ее клеткой, а сама она была словно дикий зверь, которого люди ненадолго посадили на цепь, но по прихоти всевышнего скоро перед хищником вновь распахнется вольный мир.
Когда приходит ночь, когда ни единый звук не напоминает пленному зверю о его стражах, когда его изощренное обоняние не чует поблизости ничьих запахов, это неукротимое существо начинает метаться по своему логову, по своей клетке. Оно расправляет гибкие члены, готовясь к грядущей свободе; оно испускает рычание и прыжками выражает порывы необузданного восторга, недоступного человеческому оку.
Так было и с Жанной. Внезапно она услышала шаги в коридоре, услышала, как бряцает связка ключей в руках у тюремщика, как поворачивается массивный замок.
«Что им от меня нужно?» – подумала она и выпрямилась, внимательная и безмолвная.
Вошел надзиратель.
– В чем дело, Жан? – спросила графиня мелодичным и равнодушным голосом.
– Благоволите следовать за мной, сударыня, – произнес он.
– Куда это?
– Вниз, сударыня.
– Вниз? Куда?
– В тюремную канцелярию.
– С какой стати?
– Сударыня…
Жанна подошла к тюремщику, который нерешительно смотрел на нее, и заметила в конце коридора давешних стрелков, которых уже повстречала внизу.
– Да скажите вы мне наконец, – в волнении воскликнула она, – зачем я должна идти в канцелярию?
– Сударыня, с вами хочет побеседовать ваш защитник, господин Дойо.
– В канцелярии? Почему не здесь? Его много раз сюда пускали.
– Дело в том, сударыня, что господин Дойо получил из Версаля бумаги, с которыми желает вас ознакомить.
Жанна не заметила, как нелогичен такой ответ. Ее поразило упоминание о бумагах из Версаля: значит, нет сомнений, что адвокат лично привез ей письма из дворца.
«Неужели после вынесения приговора королева ходатайствовала за меня перед королем? Неужели…»
Но к чему гадать? Предположения имели бы смысл, если бы у нее впереди было время, но теперь еще минута-другая, и она узнает разгадку.
Между тем тюремщик торопил ее, он потряхивал ключами, намекая, что он, мол, все равно ничего не знает, а просто следует злополучной инструкции.
– Подождите минуту, – сказала Жанна, – видите, я уже разделась и хотела немного отдохнуть: последние дни были так утомительны!
– Я-то подожду, но прошу вас, помните, что господин Дойо спешит.
Жанна затворила дверь, надела платье посвежее, набросила на плечи накидку и проворно причесалась. На сборы у нее ушло не более пяти минут. Сердце подсказывало ей, что г-н Дойо доставил ей приказ немедленно покинуть тюрьму и все готово для того, чтобы она могла незаметным и необременительным образом уехать из Франции. Да, королева, должно быть, позаботилась, чтобы ее противницу устранили как можно скорее. Теперь, когда уже вынесен приговор, Мария Антуанетта постарается не раздражать Жанну; если даже пленная пантера внушает страх, то насколько же опаснее она, когда ее выпустят на волю? Убаюкивая себя этими блаженными мыслями, Жанна не пошла, а полетела следом за тюремщиком, который провел ее по узенькой лестнице, по которой она уже спускалась в залу суда. Но тюремщик, не доходя до залы суда и не беря налево, где находилась канцелярия, повернул направо, к низкой двери.
– Куда же вы? – спросила Жанна. – Канцелярия не здесь.
– Идемте, идемте, сударыня, – медовым голосом отвечал надзиратель, – господин Дойо ждет вас здесь.
Он вошел первый и увлек за собой пленницу; она услышала, как за спиной у нее с наружной стороны массивной двери с лязганьем закрылся засов.
Жанна удивилась, но, никого не видя в темноте, больше уже не посмела обратиться к тюремщику с вопросом.
Она шагнула вперед и остановилась. В помещение проникал голубоватый свет: она словно очутилась внутри склепа.
Свет сочился сверху сквозь старинную решетку, затянутую паутиной и покрытую вековым слоем пыли; поэтому в камеру пробивалось лишь несколько бледных лучей, отбрасывавших на стены только слабые блики.
Жанну обдало холодом; от стен темницы на нес повеяло сыростью; в сверкающих глазах тюремщика ей почудилась страшная угроза.
Меж тем она не видела никого, кроме этого человека; только он да сама Жанна находились в этих четырех стенах, позеленевших от влаги, сочившейся из оконца, и покрытых плесенью, на которую никогда не падал солнечный луч.
– Сударь, – сказала наконец Жанна, преодолевая дрожь ужаса, – почему мы находимся здесь вдвоем с вами? Где господин Дойо? Вы обещали, что я его увижу.
Надзиратель не ответил. Он отвернулся, словно хотел проверить, надежно ли заперта дверь, в которую они вошли.
Жанна подметила это его движение и не на шутку испугалась. Она подумала, что стала жертвой одного из тех тюремщиков, описанных в страшных романах тогдашней эпохи, которые загораются страстью к своим узницам и в день, когда темница уже должна открыться перед ними, объявляют прекрасным пленницам, что те у них в руках, и предлагают им свою любовь в обмен на свободу.
Жанна была сильна, не боялась неожиданностей, в душе у нее не было места целомудрию. Ее воображение легко справлялось с причудливыми софизмами Кребийона-сына и Луве[154]. Она подошла вплотную к надзирателю, состроила ему глазки и сказала:
– Чего вы от меня хотите, друг мой? Вы собираетесь мне что-то сказать? Для пленницы, которую ожидает близкая свобода, драгоценна каждая минута. По-моему, вы избрали весьма зловещее место, чтобы потолковать со мною наедине.
Человек с ключами не ответил, потому что ничего не понял. Он присел в углу у низкого очага и стал ждать.
– Я еще раз спрашиваю, – произнесла Жанна, – что мы здесь делаем?
Ей стало страшно: вдруг она имеет дело с умалишенным.
– Мы ждем мэтра Дойо, – отвечал надзиратель. Жанна покачала головой.
– Согласитесь, – возразила она, – что если мэтр Дойо и впрямь привез мне бумаги из Версаля, он выбрал неудачное место для встречи со мной. Не может быть, чтобы он заставил меня ждать в этой камере. Дело в чем-то другом.
Едва она вымолвила эти слова, как прямо перед ней отворилась дверь, которую она прежде не замечала.
Это была округленная, похожая на крышку люка дверца, один их тех шедевров, сотворенных из дерева и железа, которые, отворяясь, словно разрывают магический круг, и в таящейся за ними глубине возникают, покорствуя волшебству, живые люди или уголки живой природы.
Так вот, за этой дверцей виднелись ступени, которые вели в какой-то коридор, едва освещенный, но полный свежего воздуха и прохлады; в конце этого коридора Жанна, поднявшись на цыпочки, на одно мимолетное мгновение успела заметить обширное пространство размером с площадь; там толпились мужчины и женщины, у всех блестели глаза.
Но повторяем, видение открылось Жанне не более чем на миг, и она даже не успела осознать увиденное. Гораздо ближе к ней, чем эта площадь, оказались три человека, всходившие на верхнюю ступень лестницы.
За их спинами на нижних ступеньках белели четыре стальных штыка, похожие на зловещие свечи, которым предстояло озарить происходящее.
Но тут круглая дверь захлопнулась. В камеру к Жанне вошли только эти трое.
Удивление графини сменилось тревогой и смятением.
Она отпрянула, стараясь держаться поближе к тюремщику, которого еще недавно боялась, а теперь готова была искать у него защиты от незнакомцев.
Тюремщик вжался в стену, всем своим видом давая понять, что он не хочет и не должен участвовать в происходящем и останется безмолвным свидетелем того, что сейчас начнется.
Прежде чем Жанне пришло в голову что-нибудь спросить, к ней обратились.
Первым заговорил самый молодой из вошедших. Он был одет в черное. Не снимая шляпы, он теребил в руках бумагу, свернутую наподобие древнего пергамента.
Двое других по примеру тюремщика отступили в темноту.
– Сударыня, вы Жанна де Сен-Реми де Валуа, супруга графа Мари Антуана Никола де Ламотта?
– Да, сударь, – отвечала Жанна.
– Родились на свет в Фонтете двадцать второго июня тысяча семьсот пятьдесят шестого года?
– Да, сударь.
– Проживаете в Париже на улице Нев-Сен-Жиль?
– Да, сударь. Но почему вы задаете мне все эти вопросы!
– Сударыня, мне жаль, что вы меня не узнали: я имею честь состоять секретарем суда.
– Я узнала вас.
– В таком случае, сударыня, коль скоро вы меня узнали, разрешите мне исполнить возложенные на меня обязанности.
– Погодите, сударь. Какие обязанности на вас возложены?
– Огласить приговор, который был вынесен вам, сударыня, на судебном заседании тридцать первого мая тысяча семьсот восемьдесят шестого года.
Жанна содрогнулась. Она бросила вокруг тоскливый, недоверчивый взгляд. Мы не случайно пишем – недоверчивый, а не просто тоскливый; Жанна содрогнулась от безотчетной тоски и насторожилась: ее глаза, как два ужасных огня, зажглись во мраке камеры.
– Вы – секретарь Бретон, – произнесла она, – но кто эти двое, ваши помощники?
Секретарь хотел было ответить, но тюремщик, опережая его намерение, многозначительным тоном, в котором угадывались опаска и сострадание, шепнул ему на ухо:
– Не говорите ей!
Жанна услышала; она взглянула на обоих мужчин внимательнее, чем прежде. Ее удивило, что один из них одет в серый, стального цвета, кафтан с железными пуговицами, а другой в куртку на голое тело и колпак; внимание Жанны привлек странный фартук, которым был повязан этот второй человек: во многих местах он был прожжен и покрыт пятнами масла и крови. Она попятилась. Казалось, она собралась в комок перед мощным прыжком..
Секретарь, приблизившись, обратился к ней:
– Прошу вас, сударыня, станьте на колени.
– На колени? – возопила Жанна. – Мне? Мне, Валуа, стать на колени?
– Таков приказ, сударыня, – с поклоном отвечал секретарь.
– Позвольте, – возразила Жанна с недоброй улыбкой, – вы, сударь, не знаете закона, и мне придется, как видно, вас просветить. На колени становятся только в случае публичного покаяния.
– Что же дальше, сударыня?
– Что дальше? Публичное покаяние приносят только приговоренные к позорному наказанию. А изгнание, насколько мне известно, по французским законам не считается позорным наказанием.
– Я не говорил, сударыня, что вы приговорены к изгнанию, – печально и сурово возразил секретарь.
– Так к чему же? – негодуя, воскликнула Жанна. – К чему я приговорена?
– Узнаете, когда выслушаете приговор, сударыня, а для этого вам прежде всего следует стать на колени.
– Никогда! Никогда!
– Сударыня, таков первый пункт полученных мною инструкций.
– Никогда! Слышите, никогда!
– Сударыня, в приказе предусмотрено, что в случае, если осужденная откажется стать на колени…
Ну?
– Ее следует принудить силой.
– Силой? Женщину?
– Женщина так же, как мужчина, обязана уважать короля и правосудие.
– И королеву, не правда ли? – яростно выкрикнула Жанна. – Я узнаю здесь враждебную руку женщины!
– Напрасно вы вините королеву, сударыня; ее величество не имеет никакого отношения к приговорам, которые выносит суд. Итак, сударыня, заклинаю вас, избавьте нас от необходимости применить насилие. На колени!
– Никогда! Никогда! Никогда!
Секретарь свернул свои бумаги и извлек из кармана еще один, весьма объемистый документ, который был у него заготовлен на случай неповиновения.
Он огласил по всей форме составленный приказ генерального прокурора о том, что представителям власти надлежит силою поставить на колени приговоренную в случае ее отказа исполнить это добровольно; таково требование правосудия.
Жанна забилась в угол камеры, в страхе ища глазами представителей власти, она вообразила, что сейчас войдут солдаты со штыками, которые остались за дверью.
Но секретарь не стал отворять дверь; он подал знак двум своим спутникам, о которых мы уже упоминали; эти двое невозмутимо приблизились, приземистые, непоколебимые, подобные таранам, пробивающим крепостные стены во время осады.
Они схватили Жанну под руки и выволокли ее на середину камеры, не слушая стонов и воплей.
Секретарь сел и стал ждать; лицо его было бесстрастно.
Жанна не заметила, что, покуда ее волокли, тело ее приняло почти коленопреклоненное положение. Она спохватилась только после того, как секретарь сказал:
– Так будет в самый раз.
Но пружина тут же распрямилась, и Жанна вскочила с пола прямо в объятия державших ее людей.
– Напрасно вы так кричите, – заметил секретарь, – снаружи вас все равно не слышно, а кроме того, вы не услышите, как я буду читать приговор.
– Позвольте мне слушать стоя, и я замолчу, – задыхаясь, отвечала Жанна.
– Наказание кнутом считается позорным, – возразил секретарь, – а посему осужденный должен стать на колени.
– Кнутом? – взвыла Жанна. – Кнутом? Вы сказали – кнутом, негодяй?
И она разразилась такими воплями и бранью, что тюремщик, секретарь и двое его помощников были оглушены; все эти мужчины, растерянные, обезумевшие, хотели теперь только одного – усмирить силу силой.
Они набросились на Жанну и повалили ее, но она отчаянно отбивалась. Они заставляли ее согнуть ноги в коленях, а она напрягалась; мускулы ее стали словно каменные.
Она билась в руках своих мучителей, сучила ногами в воздухе и размахивала руками, нанося стражам закона весьма ощутимые удары.
Тогда они разделили обязанности: один держал ее ноги, зажав их как в тисках; а другие стиснули запястья; потом они крикнули секретарю:
– Читайте, читайте приговор, господин секретарь, иначе мы никогда не покончим с этой бесноватой!
Я ни за что не позволю читать приговор, осуждающий меня на позор! – прокричала Жанна, сопротивляясь с нечеловеческой силой. И, подтверждая угрозу делом, она заглушила голос секретаря такими пронзительными воплями и стонами, что не расслышала ни единого слова из того, что он читал.
Окончив чтение, он сложил бумаги и спрятал их обратно в карман.
Полагая, что все уже позади, Жанна постаралась собраться с силами, чтобы и дальше ни в чем не уступать этим людям. Она прекратила вопли и разразилась неудержимым хохотом.
– И приговор будет приведен в исполнение, – безмятежно продолжил секретарь, завершая чтение обычными словами, – на площади, предназначенной для публичных наказаний.
– Публично! – простонала несчастная.
– Заплечный мастер, передаю вам эту женщину, – заключил секретарь, обращаясь к человеку в кожаном фартуке.
– Кто это? – вскричала Жанна в последнем порыве страха и ярости.
– Палач, – с поклоном ответствовал секретарь, расправляя свои манжеты.
Не успел секретарь договорить, как оба мучителя схватили Жанну и поволокли ее в сторону той галереи, которую она приметила раньше. Сил человеческих недостает описать сопротивление, какое она при этом оказала. Эта женщина, в прежней жизни падавшая в обморок от царапины, вот уже час противостояла насилию и рукоприкладству палача и его подручного; пока ее тащили к двери, она ни на мгновение не переставала испускать вопли, от которых кровь стыла в жилах.
У выхода из узкого коридора собрались солдаты, удерживавшие толпу; коридор упирался прямо в небольшую площадь, называвшуюся Двором правосудия, где собралось две-три тысячи зрителей, привлеченных сюда любопытством за то время, пока возводили эшафот и делали необходимые приготовления.
На помосте высотой приблизительно в восемь футов возвышался столб с укрепленными на нем железными кольцами; на верху столба виднелась надпись, но надпись эту стараниями секретаря суда, которому, несомненно, были даны соответствующие распоряжения, было почти невозможно разобрать.
Помост не был ничем огорожен; на него вела лесенка без перил. Только штыки солдат служили ему подобием балюстрады. Они, словно решетка из блестящих заостренных прутьев, преграждали доступ на эшафот.
Видя, как отворилась дверь тюрьмы, как вышли комиссары с жезлом, как с бумагами в руке появился секретарь суда, толпа заволновалась, словно море под порывом ветра.
Повсюду слышалось: «Вот она! Вот она!» – с прибавлением не слишком-то лестных для приговоренной эпитетов; тут и там раздавались и уничижительные выкрики, метившие в судей.
Да, Жанна оказалась права: после вынесения приговора у нее появились сочувствующие. Те, кто презирал графиню два месяца назад, готовы были ее оправдать с тех пор, как она противопоставила себя королеве.
Но г-н де Крон все предусмотрел. Первые ряды этого зрительного зала были заняты клакой, преданной тем, кто оплатил спектакль. Бок о бок с широкоплечими агентами теснились самые неистовые обожательницы кардинала де Рогана. Ненависть к королеве удалось обратить на пользу королеве. Те самые люди, которые так пылко рукоплескали г-ну де Рогану из неприязни к Марии Антуанетте, теперь свистели и улюлюкали при виде г-жи де Ламотт, имевшей неосторожность отречься от кардинала на суде.
Поэтому, когда она появилась на площади, крики «Долой Ламотт! Поделом мошеннице!» слышались чаще и вырывались из более могучих глоток.
Кое-кто пытался выразить свою жалость к Жанне и возмущение приговором, но рыночные торговки приняли этих людей за врагов кардинала, агенты – за врагов королевы, и им изрядно досталось от зрителей обоего пола, жаждавших как можно сильнее принизить осужденную. У Жанны иссякли силы, но ярость ее была неиссякаема; она перестала вопить, потому что гул толпы заглушал ее вопли. Но она произнесла отчетливым, звенящим, пронзительным голосом несколько слов, которые как по волшебству перекрыли шум.
– Знаете, кто я? – сказала она. – Знаете, что во мне течет кровь ваших королей? Знаете, что в моем лице карают не преступницу, а соперницу и не только соперницу, но и сообщницу?
Здесь ее перебил весьма своевременный ропот самых смышленых агентов г-на де Крона.
Однако ее слова возбудили если не интерес, то любопытство, а любопытство народа – это жажда, которая требует утоления. Люди молчали, и это подтверждало, что они хотят слушать Жанну.
– Да, сообщницу! – повторила она. – Меня карают за то, что я знала тайны…
– Берегитесь! – сказал ей на ухо секретарь.
Она обернулась. У палача уже был в руках кнут.
Видя это, Жанна позабыла и свою речь, и свою ненависть, и желание привлечь как можно больше народу; осталось только предчувствие позора, только ужас перед болью.
– Пощадите! Пощадите! – душераздирающим голосом прокричала она.
Ее мольбу перекрыл многоголосый рев толпы. У Жанны закружилась голова; она цеплялась за колени палача; ей удалось схватить его за руку.
Но он занес другую руку и слегка стегнул графиню кнутом по плечам.
Поразительное дело! Эта женщина, которую, казалось, легко было запугать и сломить физической болью, распрямилась, едва поняла, что ее щадят; бросившись на подручного палача, она попыталась сбить его с ног и столкнуть с эшафота. Вдруг она отпрянула.
У подручного в руках был нагретый докрасна кусок железа, который он только что снял с раскаленной жаровни. И вот он поднял этот кусок железа, и жар, исходивший от него, заставил Жанну попятиться с нечеловеческим воплем.
– Клеймо! – закричала она – Клеймо!
Народ отозвался ужасным воплем на ее крик.
– Так ей и надо! – взревели три тысячи глоток.
– Спасите! Спасите! – вне себя взмолилась Жанна, силясь избавиться от веревок, которыми ей связали руки.
Палач тем временем разорвал на ней платье, которое ему не удалось расстегнуть; дрожащей рукой отрывая лоскуты материи, он пытался другою перехватить у подручного раскаленное железо.
Но Жанна ринулась на подручного и заставила его отступить, потому что он не смел ее коснуться; между тем палач, отчаявшись взять у него зловещее орудие, ждал уже, что зрители начнут вот-вот осыпать его бранью. Его самолюбие было задето.
Толпа трепетала; яростное сопротивление жертвы пробудило в ней восхищение; люди дрожали от тайного нетерпения; секретарь суда спустился с помоста; солдаты глазели на потеху: на помосте творился беспорядок, неразбериха, и дело принимало угрожающий оборот.
Чей-то повелительный голос из первого ряда крикнул:
– Довершайте дело!
Палач явно узнал этот повелительный голос: яростным усилием повалив Жанну на помост, он согнул ее пополам и левой рукой отвернул ей голову набок.
Она вскочила на ноги, распалясь сильней, чем железо, которым ей угрожали, и голосом, перекрывшим гомон на площади и проклятия оплошавших палачей, воскликнула:
– Подлые французы! Вы не защищаете меня! Вы позволяете меня истязать!
– Замолчите! – крикнул секретарь суда.
– Замолчите! – крикнул комиссар.
– Замолчать? Конечно, – подхватила Жанна. – Пускай палачи делают свое дело. Да, я претерплю позор, и я сама в этом виновата.
Толпа взревела, неправильно истолковав это признание.
– Замолчите! – снова и снова взывал секретарь.
– Да, я сама виновата, – продолжала Жанна, по-прежнему извиваясь всем телом. – Заговори я на суде…
– Молчите же! – возопили в один голос секретарь, комиссар и палачи.
– Если бы я решилась рассказать все, что мне известно о королеве, – меня бы повесили. И честь моя была бы спасена.
Она не могла продолжать: на помост взбежал комиссар, за ним полицейские, которые заткнули несчастной преступнице рот и передали ее, дрожащую, истерзанную, с опухшим, серым, кровоточащим лицом, в руки обоих истязателей; палач снова согнул жертву и сразу же схватил поданный подручным кусок железа.
Но Жанна ужом выскользнула из руки, сдавившей ей затылок; она в последний раз вскочила на ноги и, с каким-то лихорадочным весельем обернувшись к палачу, подставила ему грудь, вызывающе глядя на него; адское орудие ударило ее в правую грудь, запечатлело дымящийся и глубокий след в живой плоти, и у жертвы, несмотря на кляп, вырвался такой вопль, какой невозможно ни воспроизвести человеческим голосом, ни описать.
Боль и стыд сломили Жанну. Она была побеждена. Из губ ее не вырвалось больше ни единого звука, руки и ноги не шевельнулись; на сей раз она в самом деле лишилась чувств.
Палач перебросил ее через плечо и вместе со своей ношей нетвердым шагом спустился с эшафота по позорной лесенке.
Народ также безмолвствовал, не то одобряя свершившееся, не то содрогаясь от ужаса; он устремился в четыре выхода с площади прежде, чем за Жанной захлопнулись ворота тюрьмы, а эшафот медленно, доска за доской, начали разбирать, и все убедились, что у страшного зрелища, разыгравшегося по воле парламента, не будет эпилога.
Агенты ловили малейшие оттенки чувств на лицах присутствующих. Но они с самого начала настолько открыто распоряжались в толпе, что было бы чистым безумием вступать с ними в спор, тем более что они располагали такими аргументами, как дубинки и наручники.
Если кто-нибудь и протестовал, то вяло, про себя. Постепенно на площади воцарилось спокойствие; лишь на краю моста, когда рассеялись тучи зевак, двое молодых и решительных с виду людей затеяли между собой следующий разговор:
– Как, по-вашему, Максимилиан, женщина, которую заклеймил палач, в самом деле госпожа де Ламотт?
– Говорят, что так, но я не думаю… – отвечал тот, что был повыше ростом.
– Значит, вы полагаете, что это не она, не правда ли? – переспросил первый собеседник, низкорослый, с неприятным лицом, с круглыми, горящими глазами, похожими на совиные, с короткими сальными волосами, – не правда ли, та, которой выжгли клеймо, вовсе не госпожа де Ламотт? Пособники тиранов пощадили их сообщницу. Ведь они нашли, чтобы снять обвинение с Марии Антуанетты, девицу по имени Олива, которая созналась в том, что она продажная женщина, значит, могли отыскать, и поддельную госпожу де Ламотт, которая созналась бы в мошенничестве. Вы скажете: ее заклеймили. Полноте! Все это комедия, за которую заплачено и палачу, и жертве! Это обошлось чуть дороже, вот и все.
Первый собеседник слушал, качая головой. Он улыбнулся, но ничего не ответил.
– Что вы мне на это скажете? – осведомился урод. – Вы сомневаетесь в моей правоте?
– Согласиться на клеймение – это уже чересчур, – возразил высокий. – Ваши предположения не кажутся мне убедительными. Вы лучше меня разбираетесь в медицине и должны были почувствовать запах горелого мяса. Неприятное воспоминание, признаться.
– Повторяю, все это просто вопрос денег: заплатили какой-то преступнице, которую все равно заклеймили бы за другую вину; ей заплатили, чтобы она произнесла несколько напыщенных фраз, а потом, когда она захотела пойти на попятный, заткнули ей рот.
– Полно, полно, – флегматично заметил тот, которого называли Максимилианом. – В этом я с вами не соглашусь; дело чересчур скользкое.
Гм! отозвался другой. – Значит, вы последуете примеру других ротозеев и в конце концов тоже приметесь рассказывать, будто видели, как выжигали клеймо на груди у госпожи де Ламотт; вечно у вас какие-то прихоти. Только что вы мне говорили совсем другое, я сам слышал ваши слова: «Не думаю, что заклеймили госпожу де Ламотт».
Я и теперь так не думаю, – улыбаясь, отвечал молодой человек, – но и не верю вашей догадке, что это какая-нибудь подставная мошенница.
– Так кто же она, скажите, кто эта женщина, которую сейчас заклеймили позорным клеймом на площади вместо госпожи де Ламотт?
– Это королева! – пронзительным голосом отвечал молодой человек своему зловещему спутнику, сопроводив слова невыразимой улыбкой.
Тот отступил назад и разразился хохотом, явно оценив шутку, потом оглянулся по сторонам и сказал:
– Прощай, Робеспьер.
– Прощай, Марат, – отозвался его собеседник. И они разошлись в разные стороны.
В тот же день, когда свершилась казнь, в Версале король вышел в полдень из кабинета и отослал прочь графа Прованского, сурово обратившись к нему:
– Сударь, сегодня я присутствую на церемонии бракосочетания. Прошу вас, не толкуйте со мной о домашних и семейных делах, это было бы дурным предзнаменованием для новобрачных, а я люблю их и намерен оказывать им покровительство.
Граф Прованский нахмурился, растянул губы в улыбке, отвесил брату низкий поклон и вернулся в свои покои.
Король проследовал далее, окруженный придворными, до отказа заполнившими галерею; одним он улыбался, других обдавал холодом, смотря по тому, чью сторону они держали в деле, которое разбирал парламент.
Его величество явился в квадратную гостиную – там, окруженная статс-дамами и чинами своей свиты, ждала королева в полном парадном туалете.
Бледная, несмотря на румяна, Мария Антуанетта благосклонно внимала г-же де Ламбаль и г-ну де Калонну, которые заботливо осведомлялись о ее здоровье.
Но украдкой она то и дело взглядывала на дверь; казалось, она ищет глазами кого-то, кого очень хочет и в то же время смертельно боится увидеть.
– Король! – возвестил один из придверников, и в гостиную, утопая в море кружев, вышивки и света, вошел Людовик XVI, с порога устремляя взгляд прямо на супругу.
Мария Антуанетта поднялась и прошла три шага навстречу королю; тот любезно поцеловал ей руку.
– Ваше величество, нынче вы прекрасны, как никогда! – произнес он.
Она невесело улыбнулась и снова обвела нерешительным взглядом толпу, в которой, как мы уже сказали, кого-то искала.
– Где же наши жених и невеста? – спросил король. – По-моему, вот-вот пробьет полдень.
– Государь, – отвечала королева, делая над собой такое мучительное усилие, что с ее лица хлопьями посыпались румяна, – прибыл только господин де Шарни; он ждет в галерее, когда ваше величество прикажет ему войти.
– Шарни! – произнес король, не обращая внимания на многозначительное молчание, воцарившееся после слов королевы. – Шарни здесь? Пусть войдет! Пусть войдет!
Несколько придворных отделились от толпы и пошли навстречу графу де Шарни.
Королева в смятении прижала руку к груди и села спиной к двери.
– В самом деле, уже полдень, – заметил король, – невесте следовало бы уже быть здесь.
В это время у входа в гостиную показался граф де Шарни; он слышал последние слова короля и тут же ответил:
– Ваше величество, соблаговолите простить мадемуазель де Таверне ее невольное опоздание: с тех пор как скончался ее отец, она не вставала с постели. Сегодня она впервые поднялась и теперь уже была бы в распоряжении вашего величества, если бы ее не постиг внезапный обморок.
– Милое дитя так любило отца! – во всеуслышание объявил король. – Но мы надеемся, что теперь, обретя прекрасного мужа, она утешится.
Королева слушала этот разговор, вернее, безучастно слышала его. Пока Шарни говорил, от лица у нее отхлынула кровь, а сердце мучительно заколотилось.
Вдруг король заметил, что в гостиную стекается все больше дворян и духовенства, поднял голову и спросил:
– Господин де Бретейль, вы уже отправили графу Калиостро приказ об изгнании?
– Да, государь, – смиренно ответил министр.
В гостиной стало так тихо, что слышно было бы, как дышит во сне птица.
– А эту Ламотт, именующую себя Валуа, – звучным голосом продолжал король, – именно сегодня подвергают клеймению?
– В этот час, государь, – отозвался министр юстиции, – она уже, надо думать, заклеймена.
У королевы сверкнули глаза. По гостиной пробежал ропот, который можно было истолковать как одобрение.
– Его высокопреосвященству будет неприятно узнать, что его сообщница заклеймена, – продолжал король с той непреклонной суровостью, которая никогда прежде не была ему свойственна.
На словах «его сообщница», которые прозвучали обвинением человеку, оправданному судом парламента, на этих словах, унижавших кумира парижан и признававших одного из князей церкви, одного из знатнейших принцев Франции вором и мошенником, король, словно посылая торжественный вызов духовенству, знати, парламенту, народу, чтобы защитить честь своей жены, оглядел все собрание взглядом, исполненным такого жгучего гнева и такого величия, каких не видано было во Франции с тех самых пор, как вечный сон смежил глаза Людовика XIV.
Никто ни шепотом, ни единым словом не одобрил месть, которую обрушил король на тех, кто замышлял обесчестить монархию. Тогда Людовик приблизился к Марии Антуанетте, и она в порыве глубокой благодарности протянула ему обе руки.
В это время в конце галереи показались мадемуазель де Таверне, одетая в белое, как подобает невесте, а белизной лица напоминавшая привидение, и ее брат, Филипп де Таверне, который вел сестру под руку.
Андреа шла торопливыми шагами, потупясь, неровно дыша; она не видела и не слышала ничего вокруг; рука брата придавала ей сил, храбрости и вела ее в нужном направлении.
При виде невесты придворные заулыбались. Все дамы стеснились позади королевы, все мужчины выстроились позади короля.
Байи де Сюфрен, держа под руку Оливье де Шарни, пошел навстречу Андреа и ее брату, поздоровался с ними и смешался с толпой близких друзей и родственников.
Филипп проследовал дальше, не взглянув на Оливье и не единым пожатием пальцев не намекнув Андреа, что ей следует поднять глаза.
Остановившись перед королем, он сжал руку сестры; та, подобно гальванизированному трупу, широко распахнула глаза и увидела Людовика XVI, который ласково ей улыбался.
Она присела в реверансе под перешептывание присутствующих, восхищенных ее красотой.
– Мадемуазель, – произнес король, беря ее за руку, – чтобы вступить в брак с господином де Шарни, вам пришлось дожидаться окончания траура; быть может, если бы я не попросил вас ускорить свадьбу, ваш будущий супруг, несмотря на свое нетерпение, дал бы вам еще месяц отсрочки, потому что, как говорят, вы очень страдаете, и я опечален этим; но я почитаю своим долгом заботиться о счастье добрых дворян, которые служат мне так усердно, как господин де Шарни; если бы вы не вступили в брак сегодня, я не смог бы присутствовать на вашей свадьбе, поскольку завтра мы с королевой отбываем в путешествие по Франции. А ныне я буду иметь удовольствие скрепить ваш брачный контракт своей подписью и видеть, как вы венчаетесь в моей капелле. Приветствуйте королеву, мадемуазель, и поблагодарите ее, потому что ее величество явила вам огромную милость.
И он подвел Андреа к Марии Антуанетте.
Королева выпрямилась; колени у нее дрожали, руки похолодели, как лед. Она не смогла поднять глаза и только смутно видела нечто белое: оно приблизилось и склонилось в реверансе.
То была Андреа в свадебном платье.
Король тут же передал руку невесты Филиппу, сам предложил руку Марии Антуанетте и громким голосом возвестил:
– В капеллу, господа.
Вся толпа следом за их величеством направилась в капеллу.
Венчание началось. Королева слушала торжественную мессу, преклонив колени на молитвенной скамеечке и закрыв лицо руками. Она молилась от всей души, изо всех сил, и молитва ее была так горяча, что дыхание ее губ осушало слезы, бежавшие по щекам.
Г-н де Шарни, бледный, прекрасный, чувствовал, что на него устремлены все взоры; он был спокоен и отважен, как на борту своего корабля, среди языков пламени, под дождем английской картечи; но теперь он страдал куда сильнее.
Филипп не сводил взгляда с сестры; он чувствовал, что она дрожит и еле держится на ногах, и, казалось, был готов в любую минуту поддержать и утешить ее ласковым словом или движением.
Но Андреа сохраняла самообладание, она высоко держала голову и то и дело подносила к лицу склянку с нюхательными солями, слабая и дрожащая, словно пламя свечи, но прямая и одушевленная непреклонной решимостью. Она не возносила к небу молитв, она не загадывала желаний на будущее, ей не на что было надеяться, нечего бояться; она не принадлежала ни людям, ни Богу.
Пока говорил священник, пока гудел церковный колокол, пока вокруг нее вершилось святое таинство, Андреа спрашивала себя: «В самом ли деле я христианка? В самом ли деле я такой же человек, как другие, такое же создание, как мне подобные? Ты, кого мы называем Господом Вседержителем, судией рода человеческого, вложил ли ты хоть каплю веры в мою душу? Тебя называют праведным, Боже, но ты всегда карал меня, хоть я ни в чем перед Тобой не грешила! Ты, говорят, несешь нам мир и любовь, а я по Твоей воле обречена на тревогу, гнев, беспощадное мщение! Неужели Тебе было угодно, чтобы тот единственный, кого я любила, стал моим самым заклятым врагом? Нет, – продолжала она, – дела этого мира и заветы Всевышнего не властны надо мной! Я, конечно, проклята еще до рождения и с самого начала поставлена вне закона человеческого».
Тут на память ей пришли ее минувшие горести, и она прошептала:
– Как странно! Как странно! Вот рядом со мной человек; я умирала от счастья при звуке его имени. Если бы человек этот явился просить моей руки ради меня самой, мне пришлось бы пасть ему в ноги и просить прощения за мою былую вину – и это по Твоей вине, Господи! И быть может, этот человек, которого я обожала, оттолкнул бы меня. Но вот сегодня он берет меня в жены, а между тем сам будет на коленях просить у меня прощения! Странно! Ах, право, до чего все странно!
В этот миг до ее слуха долетел голос священника. Он произнес:
– Жак Оливье де Шарни, согласны ли вы взять в жены Марию Андреа де Таверне?
– Да, – послышался твердый голос Оливье.
– А вы, Мария Андреа де Таверне, согласны ли вы взять в мужья Жака Оливье де Шарни?
– Да! – отвечала Андреа, и в тоне ее прозвучало нечто столь страшное, что королева содрогнулась, а многие женщины в церкви затрепетали.
Шарни надел золотое кольцо на палец жене, и Андреа не почувствовала прикосновения руки, надевшей ей это кольцо.
Вскоре король поднялся. Месса кончилась. В галерее все придворные окружили новобрачных и принесли им поздравления.
Г-н де Сюфрен на обратном пути взял племянницу под руку, от имени Оливье он пообещал ей счастья, которого она достойна.
Андреа поблагодарила байи, но нисколько не повеселела и только попросила дядю поскорее отвести ее к королю – мол, ей надо его поблагодарить, а она чувствует сильную слабость.
Лицо ее и впрямь покрылось пугающей бледностью.
Шарни видел ее издали, но не смел приблизиться.
Байи пересек большую гостиную, подвел Андреа к королю, тот поцеловал ее в лоб и сказал:
– Подойдите к ее величеству, графиня: королева желает поздравить вас со вступлением в брак.
Вымолвив эти слова, которые ему самому представлялись весьма милостивыми, король удалился, а за ним и все придворные; растерянная, безутешная Андреа осталась стоять под руку с Филиппом.
– Ох, не могу больше, – прошептала она, – не могу, Филипп! Неужто и без того я мало перенесла!
– Мужайся, – тихонько сказал Филипп, – последнее испытание, сестра!
– Нет, нет, – возразила Андреа, – я не выдержу. Силы у женщины ограниченны; пожалуй, я выполню то, что мне велено, но поймите, Филипп, если она со мной заговорит, если она меня поздравит, я умру!
– Умрете, если понадобится, дорогая сестра, – отвечал молодой человек, – и будете в таком случае счастливее, чем я: как бы я хотел умереть!
Он вымолвил эти слова так угрюмо и с такой болью, что Андреа словно ужаленная устремилась вперед и вошла к королеве.
Оливье видел, как она прошла; он прижался к стенной драпировке, чтобы ее пропустить.
Затем он остался в гостиной наедине с Филиппом; оба, потупившись, стали ждать, чем кончится беседа королевы с Андреа.
Андреа нашла Марию Антуанетту в ее большом кабинете.
Несмотря на летнюю погоду – стоял июнь, – королева велела развести огонь в камине; она сидела в кресле, откинув голову, прикрыв глаза, сложив руки, словно мертвая.
Ее знобило.
Г-жа де Мизери впустила Андреа, затем задернула портьеры, затворила двери и удалилась.
Андреа стояла, дрожа от волнения и гнева, а также от слабости, и, потупив взор, ждала, когда в сердце ей вопьются слова королевы. Она ждала голоса Марии Антуанетты, как осужденный на казнь ждет топора, который снесет ему голову.
И если бы в этот миг Мария Антуанетта разжала губы, то измученная Андреа наверняка бы упала и лишилась чувств, не в силах ни понять ее слов, ни ответить на них.
Миновала минута, тягостная, словно столетие пытки, прежде чем королева шевельнулась.
Наконец она встала, обеими руками опираясь на подлокотники кресла, и взяла со стола лист бумаги, который несколько раз выскальзывал из ее дрожащих пальцев.
Потом, двигаясь бесшумно, как призрак, так что слышно было только шуршание ее платья по ковру, она с простертой вперед рукой приблизилась к Андреа и отдала ей бумагу, не проронив ни слова.
Слова были излишни: королеве не нужно было взывать к понятливости Андреа, Андреа ни на мгновение не могла усомниться в великодушии королевы.
Любая другая на ее месте предположила бы, что Мария Антуанетта дарит ей состояние, или земельное владение, или патент на какую-нибудь придворную должность.
Андреа угадала, что бумага означает нечто другое. Она приняла ее и, не сходя с места, начала читать.
Рука Марии Антуанетты бессильно упала. Королева медленно подняла взгляд на Андреа.
Андреа, – было написано на листе бумаги, – Вы меня спасли. Я обязана Вам честью, жизнь моя принадлежит Вам. Честью моей, стоившей Вам так дорого, клянусь, что Вы можете звать меня Вашей сестрой. Попробуйте, и убедитесь, что я не покраснею.
Отдаю это письмо в Ваши руки: оно – залог моей благодарности; вот приданое, которое я Вам даю.
Ваше сердце благороднее всех сердец на свете; оно сумеет оценить мой дар.
Теперь и Андреа взглянула на королеву. Она увидела, что та, с глазами, полными слез, опустив голову, ждет ответа.
Андреа медленно пересекла комнату, бросила письмо королевы в догоравший огонь и с глубоким поклоном вышла из кабинета, так и не проронив ни звука.
Мария Антуанетта хотела догнать ее, остановить, но непреклонная графиня, оставив дверь отворенной, подошла к брату, ожидавшему в смежной гостиной.
Филипп подозвал Шарни, взял его за руку, вложил ее в руку Андреа; королева, отстранив портьеру, взирала на эту горестную сцену с порога кабинета.
Шарни удалился, похожий на жениха самой смерти, увлекаемого своей призрачной невестой; оглянувшись, он увидел бледное лицо Марии Антуанетты, которая провожала его глазами, глядя, как он, шаг за шагом, уходит от нее навсегда.
По крайней мере так она думала.
У дверей замка ожидали две кареты. В одну из них села Андреа. Шарни хотел последовать за ней, но тут новоиспеченная графиня сказала:
– Сударь, вы, по-моему, едете в Пикардию.
– Да, сударыня, – отвечал Шарни.
– А я, граф, удаляюсь в те края, где умерла моя мать. Прощайте.
Шарни молча поклонился. Лошади умчали Андреа.
– Вы остались со мной, чтобы объявить мне, что вы мой враг? – спросил Оливье у Филиппа.
– Нет, граф, – возразил тот, – вы мне не враг, вы мой зять.
Оливье протянул ему руку, сел во вторую карету и уехал.
Оставшись один, Филипп в тоске и отчаянии заломил руки и задыхающимся голосом произнес:
– Господи, прибережешь ли ты хоть немного радости на небе для тех, кто исполнял свой долг на земле? Радости… – продолжал он, нахмурившись и в последний раз оглянувшись на дворец, – я говорю о радости! Но зачем? Только тем позволительно уповать на мир иной, кто вновь обретет там сердца, которым он был дорог. А меня здесь никто не любил; даже мысль о смерти меня не утешит.
Потом он устремил в небеса взгляд, в котором не было горечи, а лишь кроткий укор христианина, пошатнувшегося в вере, и исчез так же, как Андреа, как Шарни, в последнем водовороте той бури, что прошумела, поколебав трон и развеяв честь и любовь многих и многих людей.
1
Дворецкий принца Конде. Готовя обед в честь Людовика XIV, он увидел, что рыба не доставлена вовремя, и в отчаянии закололся шпагой.
2
Членов Французской Академии называют «бессмертными», потому что на место одного умершего из 40 ее членов немедленно избирают другого.
3
Делоне, Бернар Рене (1740–1789) – комендант Бастилии, убит во время ее взятия. Дюбарри, Жанна (1743–1793) – фаворитка Людовика XV, обезглавлена в период террора. Лаперуз, Жан Франсуа (1742–1788?) – французский мореплаватель, в 1785-1788-м руководил кругосветной экспедицией, пропавшей без вести после выхода из Сиднея; ее останки впоследствии найдены на одном из островов Санта-Крус (ныне Соломоновы). Фаврас, Тома Май де (1744–1790) – политический сторонник графа Прованского, повешен на Гревской площади. Кондорсе, Жан Антуан Никола (1743–1794) – философ-просветитель, математик, социолог, политический деятель, отравился в период террора, чтобы избежать гильотины.
4
Монтекукколи Раймунд (1609–1680) – граф, имперский князь и герцог, австрийский фельдмаршал, в 1664 г. одержал победу над турецкими войсками у монастыря Санкт-Готхард.
5
Словения – в XVIII в. владение Австрии
6
Филипп VI из династии Валуа (1293–1350) – с 1328 г. король Франции, во время Столетней войны неоднократно сражавшийся с английскими войсками Эдуарда III.
7
Акций – мыс в Ионическом море, где в 31 г. до н. э. флот Октавиана разбил флот Антония и Клеопатры.
8
Крупнейшее в древности собрание рукописных книг. Основана в начале 36 г. до н. э., сгорела в 47 г. до н. э.
9
Ошибка: Саул не убивал своего сына Ионафана, он был убит в битве с филистимлянами (I Царств. 31, 2).
10
По древнегреческой легенде, волшебница Медея снабдила Ясона мазью, которая делала его неуязвимым.
11
В римской мифологии бог огня и кузнечного ремесла, отличавшийся физическим безобразием.
12
Опимий – римский консул в 121 г. до н. э. Год его консульства прославился урожаем прекрасного вина.
13
Согласно древнегреческому мифу, прекрасный охотник Кефал случайно убил на охоте жену, когда она тайно следила за ним, подозревая в неверности.
14
Филипп, герцог Орлеанский (1674–1723) – племянник Людовика XIV, регент Франции в 1715–1723 гг. во время малолетства Людовика XV, правнука Людовика XIV.
15
Ошибка: корабль Лаперуза назывался «Буссоль», а «Астролябией» командовал Поль Антуан Флерио де Лангль.
16
Ныне Гавайские.
17
Офицером, доставившим последние вести о Лаперузе, был г-н де Лессепс, единственный участник экспедиции, вернувшийся во Францию (прим, автора).
18
Густав III (1746–1792) – король Швеции, был ранен выстрелом из пистолета на бале-маскараде и через две недели умер.
19
Кабанис, Жорж (1757–1808) – французский врач.
20
19 февраля 1790 г. маркиз де Фаврас (1744–1790) был повешен за участие в роялистском заговоре.
21
Мерсье, Луи Себастьян (1740–1814) – французский писатель, автор многотомных «Картин Парижа».
22
Боже мой! (нем.)
23
Четверо сыновей короля Генриха II и Екатерины Медичи: Франциск I (1544–1560), король Франции в 1558–1560 гг., умерший от воспаления мозга; Карл IX (1550–1574), король Франции в 1560–1574, умерший полубезумным; Генрих III (1551–1589), король Польши в 1574 г., король Франции в 1574–1589, заколот Жаком Клеманом; Франсуа (1557–1584), герцог Алансонский, потом Анжуйский, избран правителем восставшей против испанцев Фламагщии, но вскоре изгнан своими новыми подданными.
24
Парижская богадельня.
25
Мифический царь Египта, сын Посейдона и Ливии.
26
В основе современного литературного немецкого языка (так наз. Biihnendeutsch) лежит саксонский диалект.
27
В греческой мифологии возничий Ахилла; здесь: возница, кучер вообще.
28
Артуа, граф д`– Карл Бурбон (1757–1836), младший брат Людовика XVI, будущий Карл X, король Франции в 1824–1830 гг.
29
Клодион (Клод Мишель, 1738–1814) – французский скульптор.
30
Мария Терезия (1717–1780) – императрица римско-германская в 1740–1780 гг.
31
Куапель, Антуан (1661–1722) – французский художник, главный живописец Людовика XV.
32
Гейнсборо, Томас (1727–1788) – английский портретист и пейзажист.
33
Калло, Жак (1592–1635) – французский график, автор причудливых, фантастических офортов.
34
Сюфрен, Пьер Андре (прозванный «байи» – здесь: кавалер большого креста Мальтийского ордена) (1726–1788) – французский адмирал, неоднократный победитель англичан.
35
Вельможи из окружения Марии Антуанетты: Франсуа де Франкетот, маркиз де Куаньи (1737–1821); герцог де Лозен (Арман Луи де Гонто, герцог де Бирон) (1743–1793); Жозеф Франсуа де Поль, граф де Водрейль (1740–1817).
36
Кассандр – персонаж итальянской комедии масок, глупый и болтливый старикашка; Валер, Адонис, Аполлон – здесь: молодой красавец.
37
Библейский персонаж Иосиф, будучи продан в Египет в дом одного из вельмож фараона, отверг ухаживания его жены.
38
Тюренн, Анри де Латур д'Овернь (1611–1675) – виконт, маршал Франции, одержавший множество побед. Катина, Никола де (1637–1712) – маршал Франции, известный военачальник. Барт, Жан (1651–1702) – французский моряк, корсар, оказавший Франции значительные услуга в борьбе с Голландией.
39
Город на о. Цейлон.
40
Форт под городом Мадрас в Индии.
41
Хайдар Али (1722–1782) – правитель индийского княжества Майсур, организатор сопротивления английским завоевателям в Южной Индии.
42
Дюге-Труэн, Рене (1673–1736) – прославленный французский моряк и корсар, пользовавшийся любовью офицеров и матросов.
43
Де Гемене – ветвь рода Роганов.
44
Христианского мученика св. Лаврентия (III в.) казнили, привязав к железной решетке, под которой находились раскаленные угли.
45
Сюлли, Максимильен де Бетюн, барон Рони (1560–1641) – с 1606 г. герцог де Сюлли, приближенный Генриха IV, министр финансов.
46
Берне, Клод Жозеф (1714–1789) – французский живописец-маринист.
47
Месмер, Фридрих Антон (1733–1815) – немецкий ученый, автор теории животного магнетизма. Сен-Мартен (по прозвищу Неведомый философ, 1743–1803) – французский писатель и философ мистического направления.
48
Имеется в виду правление династии Бурбонов (с 1589 г.), ни разу не собиравших Генеральные штаты (сословный парламент) до 1789 г.
49
Галль, Франц Йозеф (1758–1826) – австрийский врач и ученый, занимавшийся физиологией человеческого мозга, создатель френологии.
50
Грандье, Юрбен (1590–1634) – священник из Лудена, который был заживо сожжен по обвинению в том, что подвергал местных монахинь дьявольскому влиянию.
51
Болезнь, род слепоты.
52
Бретейль, Луи-Опост (1730–1807) – барон, дипломат, министр при Людовике XVI.
53
Теологическое учение испанского иезуита Луиса Молина (1535–1600).
54
Глюк, Кристоф Виллибальд (1714–1787) – композитор, работавший в Милане, Вене и Париже, реформатор оперы в духе классицизма. Пиччини, Никколо (1728–1800) – итальянский композитор, представитель неаполитанской оперной школы. С именами Глюка и Пиччини связана борьба сторонников старых (Глюк) и новых оперных традиций.
55
«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» – 35-томный труд, созданный в 1751–1780 гг. французскими просветителями во главе с Д. Дидро.
56
Корнуол, Чарльз (1738–1805) – английский генерал, разбитый американцами при Йорктауне (1781 г.)
57
Лафайет, Мари Жозеф (1757–1834) – маркиз, французский политический деятель, участник Войны за независимость в Северной Америке.
58
Неккер, Жак (1732–1804) – французский министр финансов в 1771–1781 и 1788–1790 гг.
59
Дюгазон, Роза Лефевр (1755–1821) – жена известного комического актера Жана Батиста Анри Дюгазона, актриса Комической оперы, прославившаяся великолепным исполнением ролей влюбленных.
60
Сюда, Вебер! (нем.)
61
Объединение видных представителей французской культуры, науки и политики, основана в 1635 г.
62
Кребийон, Клод Проспер (1707–1777) – французский писатель, автор скабрезных романов, один из которых называется «Софа».
63
Французская торговая фактория в Индии, близ Калькутты.
64
Венская резиденция австрийских императоров.
65
Гимар, Мари Мадлен (1743–1816) – знаменитая танцовщица Парижской Оперы.
66
Субиз, Шарль де Роган принц де (1715–1787) – маршал Франции, ловкий царедворец, но посредственный военачальник.
67
Гризайль – живопись серой краской в разных тонах, имитирующая лепку.
68
Буше, Франсуа (1703–1770), Ватто, Антуан (1684–1721) – французские художники, представители рококо.
69
Верне, Клод Жозеф (1714–1789) – французский художник. Мари-Грёз, Жак Батист (1725–1805) – французский живописец сентиментального направления.
70
Шарден, Жак Батист Симеон (1699–1779) – французский живописец, писавший натюрморты, портреты, жанровые сцены.
71
Клодион, настоящее имя Клод Мишель (1738–1814) – французский скульптор.
72
Эндимион (миф.) – прекрасный пастух, возлюбленный Селены, иначе Фебы, богини луны, которая упросила Зевса погрузить его в вечный сон, чтобы сохранить его красоту.
73
Бушардон, Эдмон (1698–1762) – французский скульптор, автор многих скульптур, установленных в Версале.
74
Бретейль, Луи Огюст, барон де (1730–1807) – французский дипломат, в 1783 г. Людовик XVI назначил его министром двора. В сферу его деятельности входило управление Парижем.
75
Аргус (миф.) – многоглазый великан, во время сна часть его глаз оставалась открытой и бодрствовала. В переносном смысле – бдительный страж.
76
Имеются в виду испанские суда, перевозившие в XVI–XVIII вв. золото из Америки в Испанию и становившиеся добычей бурь и пиратов.
77
В древней Спарте низшее сословие, лишенное всяких прав.
78
Брольи, Франсуа Виктор, герцог де (1718–1804) – французский военачальник, маршал Франции.
79
Ларив, Жак (1742–1827) – знаменитый французский актер-трагик, игре которого была присуща чрезмерная высокопарность, декламационность, склонность к форсированию голоса.
80
Эстли, Филипп (1742–1814) – английский берейтор, владелец конного цирка.
81
Геспериды (миф.) – дочери божества вечерней зари Геспера, жившие в саду на крайнем западе земного круга, где росла яблоня, приносившая золотые плоды, которую охранял свирепый дракон Ладон.
82
Никогда дважды за одно и то же, т. е. за одно преступление дважды не наказывают (лат.).
83
Нестор – участник осады Трои, царь Пилоса, старейший из предводителей греков.
84
«Взгляни на ноги, взгляни на руки» (лат.). По евангельскому преданию (Иоанн 20, 24–28) апостол Фома не поверил в воскресение Христа, пока Христос не сказал ему взглянуть на раны от гвоздей и копья и вложить в них персты.
85
Орден Цинцинната учрежден в США в 1783 г., им награждались офицеры армии Дж. Вашингтона. Цинциннат (V в. до н. э.) – римский патриций, отличавшийся простотой нравов.
86
Имеется в виду Понтий Пилат, бывший при императоре Тиберии прокуратором Иудеи, который после того как Синедрион потребовал от него казнить Христа, сказал: «Я умываю руки».
87
Ленотр, Андре (1613–1700) – французский садовник, им был спланирован Версальский парк. Ардуэн-Мансар, Жюль (1646–1708) – первый архитектор Людовика XIV, автор и строитель Версальского дворца и других зданий в Версале.
88
Ла Фейад, Луи де (1673–1725) – маршал Франции, известен низкопоклонством и угодливостью перед королем.
89
Мессалина – жена римского императора Клавдия, известная своим распутством.
90
Севинье, Мари, маркиза де (1626–1696) – одна из самых выдающихся женщин XVII в. Ее письма к дочери графине де Гриньян считались образцом эпистолярного жанра.
91
Гораций. «Сатиры», 1,4.
92
Приемная в Версальском дворце, названная так по форме окна (Эй-де-Беф – бычий глаз — полукруглое окно).
93
Момус (миф.) – древнеримское божество шутки и смеха.
94
Лавальер, Луиза де (1644–1710) – фаворитка Людовика XIV. После того как он расстался с ней, постриглась в монахини.
95
Титул брата французского короля.
96
В античном театре персонаж, неожиданно появлявшийся в решающий момент действия и благополучно разрешающий безвыходную коллизию.
97
Пантьевр, Луи де Бурбон герцог де (1725–1793) – сын графа Тулузского, побочного сына Людовика XIV, свекор принцессы де Ламбаль.
98
Селадон – герой пасторального романа «Астрея», французского писателя Оноре д'Юрфе (1568–1625). Его имя стало нарицательным для обозначения верного, томного и робкого влюбленного.
99
Имеется в виду Анадиомена, греческое слово, означающее «выходящая из воды».
100
Маркиз де Бьевр(1747–1789) – французский литератор, прославившийся своими каламбурами.
101
В сторону (итал).
102
Джейн Грей (1537–1554) – правнучка английского короля Генриха VII Тюдора, которую герцог Нортумберлендский в обход прав Марии Тюдор в 1553 г. возвел на английский престол. Собрав армию, Мария Тюдор свергла Джейн Грей и казнила ее вместе с герцогом Нортумберлендским. В 1834 г. французский живописец Жан Деларош выставил картину «Казнь Джейн Грей», которую, очевидно, и имеет в виду А. Дюма.
103
Аристофан (ок. 445 – ок. 385 до н. э.) – древнегреческий поэт-комедиограф.
104
Армида – волшебница, героиня поэмы итальянского поэта Т. Тассо (1544–1595) «Освобожденный Иерусалим». Цирцея – волшебница, которая превратила спутников Одиссея в свиней, а самого его год удерживала на своем острове. Иносказательно оба этих имени означают «обольстительница».
105
Тюрго, Анн Робер Жак (1727–1781) – французский государственный деятель, экономист, в 1774 г. был назначен Людовиком XVI министром финансов. С целью упорядочения расстроенной французской экономики провел ряд реформ, задевавших привилегии дворянства и духовенства. В 1776 г. был уволен в отставку и реформы его были отменены.
106
Жанна Вобернье, графиня Дюбарри (1743–1793) – фаворитка Людовика XV, для которой он заказал это ожерелье.
107
После выхода в 1762 г. «Эмиль, или О воспитании», осужденного парижским парламентом, Ж. Ж. Руссо, спасаясь от ареста, уехал из Парижа в княжество Невшатель, где ходил в армянском наряде.
108
Башомон, Франсуа (1624–1702) – литератор и поэт, советник Парижского парламента, участник Фронды.
109
Делорм, Филибер (?—1577) – французский архитектор, построивший, в частности, по заказу королевы Екатерины Медичи дворец Тюильри.
110
Пенгре, Александр Ги (1711–1796) – французский астроном, занимался также исследованиями корабельных хронометров.
111
Отсюда гнев (лат.).
112
Альгвасил – полицейский стражник в средневековой Испании. Здесь: полицейские.
113
Нис – один из героев поэмы Вергилия «Энеида», спутник Энея. Вместе со своим другом Эвриалом был отправлен в разведку во вражеский лагерь, и, когда Эвриал быт схвачен, Нис, желая спасти его, кинулся на врагов, крича: «Меня! Меня! Это я сделал!». Оба друга погибли.
114
Меркурий в древности считался покровителем торговцев и воров.
115
В древнегреческой мифологии бог молчания.
116
Так проходит земная слава (лат.).
117
Данжевиль, Мари Анн (1714–1796) – французская драматическая актриса.
118
Мазарини, Джулио (1602–1661) – первый министр Франции, был морганатическим супругом Анны Австрийской, матери Людовика XIV и регентши Франции во время малолетства последнего.
119
Славившаяся коневодством область в древнем Пелопоннесе, месте олимпийских игр у греков.
120
Сновидения больного (лат.).
121
Персонаж комедии Ж. Расина (1639–1699) «Сутяги», впервые поставленной в 1688 г.
122
В этом вся трудность (букв, здесь: узел; лат.).
123
Шведский король Карл XII после поражения под Полтавой (1709) нашел приют у турок и до 1714 г. жил в крепости Бендеры, принадлежавшей тогда Оттоманской империи.
124
Стратоника – жена царя Сирии Селевка I Никатора (ок. 356–281 дон. э.). Сын Селевка Антиох Сотер так страстно влюбился в мачеху, что заболел. Знаменитый врач Эрасистрат из Кеоса, открывший причину его болезни, объявил, что единственный способ спасти Антиоха – соединить его со Стратоникой. Ради спасения жизни сына Селевк отдал ему Стратонику.
125
Демустье, Шарль Альбер (1760—801) – французский литератор, уроженец Виллер-Котре, где, кстати, родился и Александр Дюма.
126
Трапписты, картезианцы – католические монашеские ордена.
127
Калонн, Шарль Александр де(1734–1802) – в 1785 1787 гг. генеральный контролер (министр) финансов Франции. В 1787 г. попал в опалу и бежал в Англию.
128
Неккер, Жак (1732–1804) – финансист, в 1776 г. быт назначен генеральным контролером финансов, проводил реформы, пытаясь ограничить государственные расходы и стабилизировать финансовое положение в стране. В 1781 г. опубликовал «Отчет», из которого Франция впервые узнала о доходах и расходах государства. В этом же году вследствие интриг двора вынужден быт подать в отставку.
129
Марка – старинная мера веса, равная 8 унциям. Унция равна 30 граммам.
130
Покорный, преданный жене (лат.).
131
Дора, Клод Жозеф (1734–1780) – французский салонный поэт.
132
Селимена – персонаж комедии Мольера «Мизантроп»: тип молодой, красивой, кокетливой, злоязычной и остроумной женщины.
133
Леонар – Леонар Антье (1819) – парикмахер королевы Марии Антуанетты.
134
Рэли, Уолтер (1552–1618) – фаворит Елизаветы I, королевы Англии, поэт, дипломат, государственный деятель, мореплаватель; казнен при Иакове I.
135
Дорина, Валер – персонажи комедии Мольера «Тартюф».
136
Имя юной пастушки в «Буколиках» Вергилия; позже многие поэты давали его юным поселянкам.
137
В греческой мифологии – сын царя Тесея и амазонки, красавец и умелый наездник.
138
Английская религиозная секта, проповедовавшая особую строгость нравов и крайнюю простоту в жизни.
139
Делиль, Жак, аббат (1798–1813) – французский поэт.
140
Имеется в виду цитата из комедии древнеримского комедиографа Теренция (ок. 195–159 до н. э.) «Самоистязатель», 1: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».
141
Девиз рода Роганов.
142
Легко возбудимый род ораторов (лат.). Перефразированное выражение Горация «Genus irritabile vatum», что значит «Легко возбудимый род поэтов». «Послания», 2, 102.
143
Жеронт – под этим именем выведены у Мольера в разных пьесах старики отцы, наделенные в преувеличенном виде всеми стариковскими чертами; Шалый – герой комедии Мольера «Шалый, или Все невпопад».
144
Фронтен – ставшее нарицательным имя ловкого слуги во многих комедиях, например в «Тюркаре» Ж. Лесажа.
145
Вермон, Матье Жак, аббат де (1735 – конец XVIII в.) – чтец и негласный советник Марии Антуанетты.
146
Персонажи комедии Мольера «Мещанин во дворянстве»
147
Мария Тереза (1638–1683) – жена Людовика XIV. Мария Лещинская (1703–1768) – жена Людовика XV.
148
Мопу, Рене Никола Шарль Опостен де (1714–1792) – канцлер и хранитель печати при Людовике XV. В ночь на 20 января 1771 г. арестовал, лишил должностей и изгнал всех членов парламентской оппозиции, а из остатков парламента устроил так называемый «парламент Мопу», ставший предметом презрения и насмешек всей Франции.
149
Вольный пересказ цитаты из «Энеиды» Вергилия (I, 328–330). Асканий (Ил, Юл) – сын Энея от его первой жены Креусы.
150
Ксенофонт (434–355 гг. до н. э.) – древнегреческий историк и военачальник, один из руководителей отступления из Вавилона в Трапезунд 10000 греческих наемников после гибели их нанимателя и претендента на персидский престол Кира-младшего.
151
Монастырская темница (лат.).
152
Палестра – в Древней Греции гимнастическая школа для мальчиков.
153
Город в Сицилии.
154
Луве де Кувре Жан Батист (1760–1797) – автор фривольного авантюрного романа «Любовные похождения кавалера де Фобласа». Упоминание о Луве – анахронизм. Жанна не могла читать Луве, так как описываемые события относятся к началу 1786 г., а «Фоблас» увидел свет в 1787–1790 гг.