Книга: «Борьба за души» и другие рассказы


I
Приходский священник Михалейц был святой жизни человек с тремя тысячами крон годового дохода, не считая прочих подношений от жителей восьми деревень, входящих в его приход Свободные Дворы. Селения те были разбросаны по всей округе в горных лесах, и жили в них большей частью дровосеки, спускавшиеся вниз, в Свободные Дворы, один раз в три месяца. Но зато уж тогда, придя в костел, они обильно молились впрок на следующую четверть года, исповедывались, в несказанно блаженном страхе причащались тела Христова и со смиренными лицами каялись. Покаявшись, дровосеки направляли свои стопы в Полуденную корчму, где у них мало-помалу развязывались языки. Очищенные от грехов и настроенные на высокий лад таинством претворения хлеба в тело Христово, они становились более буйными, чем были в состоянии вынести обитатели Свободных Дворов.
И случались в Полуденной корчме драки между мужиками из долины и мужиками из восьми горных деревень, сбросившими с себя грехи за целую четверть года. Отягощенные новыми грехами, — ибо виновны суть в ущербе, нанесенном Полуденной корчме и головам жителей Свободных Дворов, — дровосеки с посиневшими спинами ретировались после этого обратно в горные леса, и на следующую четверть года воцарялся мир.
Спустя три месяца их длинные, угловатые фигуры с кающимся видом спускались в долину, и грешники, отягощенные за четверть года бременем новых прегрешений, потрясали костел зычными голосами, слышными даже на сельской площади. А когда раздавалось «Отче наш», то издали казалось, будто жители лесов перекликаются со склона на склон: «Как поживаи-ишь, Ва-ацлав?» Громовыми раскатами отдавались вопли кающихся, когда с деревянной кафедры гремели слова одной из восьми проповедей священника Михалейца, которыми преподобный отец преследовал верующих всех девяти селений.
Но все было тщетно. Правда, кой у кого нет-нет да и скатится по загорелой щеке слеза умиления и подлинной веры, но, принеся покаяние, увалень с гор все равно шел биться в Полуденную корчму.
На время потасовки отец Михалейц уединялся в своей комнате с видом на Полуденную корчму, из-за занавески подглядывал за паствой и сообразно тому, кого из дровосеков видел дерущимися, как хороший делец заносил в свою книжечку: «Бочан — 40 раз „Отче наш“, Кришпин — 20 раз. Ишь ты, и Длоуги Антонин, — на старосту бросаться! — пятьдесят раз прочтешь „Отче наш“, и не спущу тебе даже последнее „аминь“. А-а, Черноух! — будет тебе наука, не дерись, да не будешь бит, хватит с тебя и шестнадцати „Богородиц“». Так, стало быть, это и шло. Ксендз добросовестно записывал имена дровосеков, и когда горцы приходили исповедываться в следующий раз, каждый из них получал листок с цифрой и названием молитвы, выписанными из записной книжки.
И дело спорилось, любо поглядеть! Грешники один за другим опускались на колени перед старой, источенной червями исповедальней и начинали умиленным голосом: «Исповедуюсь богу всемогущему и вам, честной отец, что после святого причастия дрался в Полуденной корчме». Это был грех самый главный, а за ним следовал целый ряд других, извечных в своей неизменности прегрешений. Что призывали имя божье всуе, что сквернословили и богохульствовали без разбору, а также… «подчас дровишки из господского леса и… опять же силок-другой с недобрым умыслом».
Целых пятнадцать лет, четыре раза в год все повторялось точка в точку, и только один-единственный раз за все это время Бочан пропустил в исповеди: «опять-же силок-другой с недобрым умыслом». С тонким упреком отец Михалейц обратился к кающемуся:
— А что силки, силки, Бочан?
— Зазря беспокоитесь, ваше преподобие, — ответствовал Бочан, — касаемо силков на сей раз ничего не вышло. Какой-то сукин сын украл у меня проволоку, а сходить в город за новой все было недосуг. Оно ведь у нас вор на воре, ваше преподобие!
Это был единственный случай, когда в перечне грехов одного недоставало. Но уже на следующей исповеди Бочан ни на йоту не отступил от всегдашнего покаяния, и к какому-то глубокому внутреннему удовлетворению приходского священника в исповедальне вновь прозвучало умиленным голосом: «опять же, силок-другой с недобрым умыслом».
Я потому говорю «к удовлетворению приходского священника», что он искренне любил этих увальней с гор и по опыту знал, что уж коли силки, и те не фигурируют в репертуаре грешника, то он дряхлеет душой и телом, и ему уже недолго жить на этом свете. Вот что значит пятнадцатилетний опыт духовного пастыря! Кончались «силки», потом исчезало упоминание о дровишках, грешник, отдав дань своему благочестию, даже не заглядывал в Полуденную корчму и с трудом тащился по лесистому склону к своему жилищу. А уж когда, бывало, его жена прибежит к священнику на дом, плача и причитая, что вчера за весь день муж ни разу не помянул ни черта, ни лешего, тут честной отец, не мешкая, отправлялся с причетником в горы, дабы со святыми дарами застать беднягу еще в живых.
Пятнадцать лет набираясь опыта, отец Михалейц пришел к выводу, что обитатели восьми входящих в его приход горных деревушек не станут лучше ни от самых прочувствованных проповедей, ни от пламенных увещеваний. Даже плача слезами отчаяния, они все равно будут считать, что все это суета сует и всяческая суета.
Поначалу священник пытался своим прихожанам растолковать, что такое благое и искреннее намерение. Но когда он им все весьма обстоятельно изложил, Валоушек из Чернкова сказал:
— Ваше преподобие, эти самые… благие да искренние намерения мы уж лучше оставим молодым. А то ведь и без них, если так пойдет дальше, зверя убудет и в силки, дай бог, чтобы в кои веки чего-нибудь попалось.
А десять лет назад Худомель, протягивая ксендзу руку, со всей откровенностью, на какую был способен, сказал:
— Ваше преподобие, мы уж, видать, не исправимся, видать все же чертям придется нас вилами в огне ворошить. Не иначе, такова божья воля.
Так со временем священник привык ко всему. В горах за Чернковом, в Волчьей долине, у него был участок леса. И вот в один прекрасный день Павличек поведал в исповедальне своему пастырю:
— … а также, ваше преподобие, подчас дровишки из господского леса, а еще в том лесу, стало быть, как в вашем, честной отец, тоже полешко-другое… Больно лютая зима была. Так что я четыре елочки в лесу вашего преподобия свалил и всякий раз при этом за вас помолился, «Отче наш» прочел. И вдруг будто какая тяжесть с меня спала, на сердце полегчало, и я, благословись, еще три свалил.
За господский лес на Павличка была наложена епитимья: десять раз прочесть «Отче наш». А за церковный — тридцать! За то, что покаялся. К тому же отцом Михалейцом сделано грешнику внушение, что духовное лицо есть представитель бога на земле, и коли кто ворует у своего священника, то это все равно, что валить елочки, принадлежащие самому господу богу.
Умудренный этим опытом, отец Михалейц попытался было убедить приходский совет не отказать в любезности и взамен леса в горах дать ему лесной участок близ Свободных Дворов, но после тщетных попыток оставил эту мысль и смирился с тем, что крестьяне грабят его с полным сознанием, что это то же самое, как валить деревья, принадлежащие самому господу богу.
Пребывая в окружении одних грешников, приходский священник с каждым годом все более отчаивался в своих намерениях наставить этих людей на путь истинный. Ибо кого бы из них ни встретил, в ответ на свои увещевания он всегда слышал слова, сопровождаемые безнадежным вздохом:
— Так-то оно так, ваше преподобие… Только я думаю, нам ничего не в помощь. Такие уж мы, видно, непутевые.
И было в том столько сентиментальности, что после пятнадцати лет борьбы с «moral insanity»[1] своих прихожан из горных селений отец Михалейц отложил в сторону записную книжку, перестал записывать, сколько раз в качестве епитимьи должен прочесть «Отче наш» тот или иной грешник, и совершенно механически один раз в три месяца выступал со стереотипным толкованием греха и последствий его. Его проповеди теряли красочность былых времен. Теперь он распалялся лишь в таком случае, как, скажем, с Повондрой, когда тот вздумал торговаться из-за лишней покаянной молитвы. Неуступчивый, как еврейский лавочник, Повондра соглашался ровно на половину.
— Ваше преподобие, только пятнадцать раз! Шестнадцатый «Отче наш», тот бы уже с таким жаром не вышел, а тридцатый?.. тем бы я только новый смертный грех на душу взял. Знаете, ваше преподобие, я уже пробовал, но с пятнадцатого до самого до тридцатого только глотал слова и все их отбарабанил, будто спешил на пожар.
И к этому привык ксендз Михалейц и даже не пытался переубедить Бочана, утверждавшего, что-де отец небесный милостив и отпустит грехи уже после третьего «Отче наш» — поелику бог троицу любит, а остальное… все равно, что бросить на ветер.
Преподобный отец чувствовал, что устал от этой борьбы за благо душ своих прихожан с гор, и когда однажды Мареш из Корженкова на вопрос: «Грешен?» молвил жалобным голосом: «Как в прошлый раз, честной отец», не стал расспрашивать о подробностях и стоически дал ему отпущение грехов безо всякого нравоучения. Духовный отец, пожалуй, и забыл бы наложить епитимью, кабы Мареш сам не напомнил: «А сколько раз „Отче наш“, ваше преподобие? Как всегда?»
Иногда к отцу Михалейцу возвращалась былая энергия, с которой много лет назад он появился в Свободных Дворах. Тогда перед очередным приходом кающихся с гор их духовный пастырь раскрывал старые номера «Проповедника», чтобы подобрать подходящие изречения, которые преобразили бы грешные души. Но затем, окинув взглядом горные вершины, столь же непоколебимые, как принципы его прихожан, он захлопывал «Проповедник» и преспокойно отправлялся в Полуденную корчму играть в карты, в «тароки»…
В конце концов преподобный отец начал сдавать позиции по всему фронту. Узрев его покорность судьбе, грешники, исповедуясь, стали помаленьку замалчивать свои грехи. Постепенно они перестали упоминать дровишки и «опять же силки с недобрым умыслом», а там и сквернословие, и богохульство, и потасовку в Полуденной корчме. Наконец в один прекрасный день Замечник из Верхнего Боурова, пробубнив формулу «Исповедуюсь богу всемогущему и вам, честной отец…», добавил возвышенно: «чист есмь, аки непорочная лилия…»
Еще в тот же день убитый горем священник подал в консисторию прошение, чтобы ему в помощь послали энергичного капеллана.
II
Фамилия энергичного капеллана была Мюллер. Он был тощ, как те аскеты, что к вящей славе божией могли целую неделю простоять без пищи на столпе. По его бледному лицу было невозможно определить возраст, и только одно, судя по этим сухим, строгим чертам, было вне всяких сомнений: свои зрелые годы капеллан проводил, не вкушая радостей. Его взор не источал, однако, и никаких неземных страстей. Даже в состоянии наивысшего возбуждения глаза энергичного капеллана смахивали на постную водянистую бурсацкую похлебку. Что же касается до манеры выражаться, то отдельные слоги он выдавливал из себя так, будто изъяснялся на церковно-тарабарском языке.
Энергичный капеллан заикался. Получив от уважаемой консистории этакий презент, приходский священник Михалейц обомлел, а его экономка ходила весь первый день, словно душа покинула ее бренное тело. Тотчас по прибытии, в речи, продолжавшейся в связи с подражанием тарабарщине более двух часов, энергичный капеллан им объяснил, что два года был миссионером в Порт-Саиде и за это время обратил там в христианскую веру «о-о-о-од-но-го м-му-лл-лу». Затем возвратился обратно в Моравию и был восемь лет капелланом в Тишнове, где э-э-э-нер-гич-ч-ч-но вырвал с корнем а-а-а-зартные картежные игры, а теперь вот прибыл сюда.
За ужином отец Михалейц, непрестанно вздыхая, делился с ним опытом пятнадцатилетней пастырской деятельности в этом краю. Энергичный капеллан, насыщаясь ломтем хлеба, отодвинул от себя тарелку с копченым мясом и сказал:
— Я-я мя-мя-мясо не-не ем, я-я э-э-то т-тут ис-сс-ко-рреню. Я-я по-по-по-говорю с ни-и-ми п-по-по ду-шам, и о-о-о-се-нит и-их с-с-вя-той д-ду-дух.
При этом он поднял свои глаза цвета водянистой похлебки к потолку и, уставившись на крючок для висячей лампы, воскликнул пророчески:
— Я-я я и-и-их о-о-обращу!
Преподобный отец отправился играть в тароки, а энергичный капеллан погрузился в своей светелке в молитвенник.
Черт его знает, как это, собственно, произошло, но только уже на другой день, когда энергичный капеллан с какой-то богословской книгой под мышкой вышел прогуляться по лесу, в кустах он услышал детский голосок: «Обратил му-му-ллу». Затем какая-то детская фигурка промелькнула в лесу и с криком «Ого-го-гооо» помчалась к кладбищу.
— И-и-и-ис-по-пор-ченные н-н-нравы, — изрек энергичный капеллан и, усевшись на меже у леса, принялся записывать для себя: «Исповедывался ли я в последний раз подготовленным и настроенным должным образом? Не затаил ли какого греха? Совершил покаяние? Не забыл указаний и поучений, ко мне обращенных? Не согрешил боле?»
Вглядываясь в горы, энергичный капеллан потряс в ту сторону кулаком и воскликнул:
— Я-я-я им по-по-покажу!
Через неделю в горах уже знали, что «молодой батюшка обратил муллу». Бочан, который на участке, именуемом «За Бабой», пилил с Фанфуликом сосну, обращаясь к своему напарнику, сказал:
— Язык у него подвешен — будь здоров! В прошлом году, в сочельник, еще когда был в Моравии, затянул «Рождество твое, Христе, боже наш», а допоет «господи, слава тебе», видать, уже нам на будущее рождество…
— Говорят, собирается нас наставить на путь истинный, — Фанфулик презрительно сплюнул.
— Пусть его расстарается, — спокойно молвил Бочан. — Только с нами это — попусту время тратить.
А Худомель, когда толковал с Валоушком из Чернкова, не преминул заметить:
— Какое там! Коли старый батюшка не отнял у нас грехов наших, так уж этот «обратил муллу» и подавно не отымет.
В горах незыблемо утвердилось мнение, что неожиданное появление молодого капеллана в Свободных Дворах есть ущемление их исконных прав. Потому в лесах множились случаи браконьерства.
Узнав об этом, энергичный капеллан убежденно воскликнул: «О-о-обращу их!» — и снова углубился в штудирование теологических сочинений.
Но кающиеся с гор не собирались так легко сдаваться. Сначала они умиленно выслушали его пылкое, продолжавшееся час с лишним, убедительное, но чересчур уж общее нравоучение, что-де «ты-ты-тыся-чи лю-людей бы-бы-бы-ли преданы анафеме и что и-и-их э-это ждет то-тоже». И печально кивали головой, что, дескать, так оно и будет. Но затем с невинным лицом подходили к исповедальне и возвещали, что безгрешны, аки Замечник из Верхнего Боурова.
Капеллан, заикаясь, отказывал в отпущении, грозил вечной карою.
Из исповедальни доносилось:
— А что д-д-дровишки? Си-сил-ки? Па-па-памя-туйте о в-вечности!
И сразу же после этого невинный, но неумолимый в своей категоричности ответ:
— Никаких силков, никаких дровишек, честной отец!
Не у одного из них лежали в кармане повестки в уездный суд, дабы через пару дней после очищения духовного предстать пред судьей светским. Но тут с полным сознанием, что против вечного проклятия не попрешь, они с физиономиями небесно-ясными и даже мученическими отпирались и от силков, и от дровишек.
— Все это пустое, — говорили между собой кающиеся с гор. — Приди хоть сам архиепископ, а не такой вот «обратил муллу»!..
III
Целых два года — к немалому удовлетворению приходского священника отца Михалейца — энергичный капеллан вел борьбу за души прихожан с гор. Тщетно мужественный капеллан стремился привить им хоть самую малую толику морали. Что об этом думают горные прихожане, настоятель прихода узнал однажды от Бочана, с которым повстречался в горах:
— Видите ли, ваше преподобие, трудно это очень. Мы свои грехи никому не уступим. Честность, она для богатых, а у нас еще ни одного порядочного человека не народилось.
— Но почему вы не каетесь, Бочан?
— Каемся, ваше преподобие, каемся, но ведь он-то нас обращать хочет, а ваше преподобие знают, какие мы шелапуты. И хоть бы молодой батюшка все время не грозились вечным проклятием. То ли дело ваше преподобие! Вы же тоже, бывало, этак по-хорошему растолкуете, что все одно черти из нас жареное сделают. Но ведь о проклятии и разговора не было! Проклятие, оно для богатых, а с нас, бедных, и котлов с серой предостаточно. И хоть бы они, молодой батюшка, не говорили, что и вперед драться нельзя и что воровать нельзя, и опять же сквернословить. Ведь хотите верьте, хотите нет, а не успел толком осмотреться, как сразу все запрещать стал.
Бочан перевел дух и с подкупающей искренностью, одаряя отца Михалейца блаженной улыбкой, продолжал:
— То ли дело вы, ваше преподобие. Ваша доброта, она из другого теста. Вы нам за целых пятнадцать лет ни разу не наказывали: «Больше этого не смей!» Вы с нами только о том старом речь вели, а о том, что наделаем после исповеди, ваше преподобие нас не упреждали!
От такого признания преподобный отец вынужден был присесть на поваленное дерево. Это было как гром с ясного неба и было печальной истиной. Ксендз вспомнил, что и впрямь за этих пятнадцать лет ни разу не предостерег свою паству от будущих грехов. Духовный пастырь жалобно устремил взор к небу, а Бочан тем временем доверительно говорил дальше:
— Тут уж ничего не поделаешь, мы к тому с малолетства приучены. Это вроде как урок у барина: выполнишь, а потом идешь сдавать. Мы, понимаете, пощипали маленько господский лес, дрались, сквернословили. А вы нам, ваше преподобие, отвечаете, что, стало быть, нужно нам благое намерение в том раскаяться, и мы раскаивались, и на коленки падали, и говорили: «Господи боже, отпусти нам, грешным». Но о том, что еще только будет, об этом вы нам не говорили ничего. А «Отче наш»? Отчего же, его каждый из нас с радостью читал, потому это было за старое, а не за новое или за старое и новое, как хотят молодой батюшка. Потому как говорит, за старое — двадцать, а за то новое, что еще только будет, тоже двадцать. Так, ваше преподобие, дело но пойдет. Барин нам тоже платят за тот лес, что уже срубили, а не за тот, что срубим послезавтра. Он ведь, молодой батюшка, когда нам так говорит, вроде нас наперед без грехов оставляет. Какое же это покаяние?! А коли кару примем загодя, то тогда, сами понимаете, на исповеди мы уже как ни на есть чистые. Но они не верят! А ведь сами наперед отпущение дали. Вот, стало быть, и приходится твердить: «Никаких силков, никаких дровишек». Потому мы уже впрок кару понесли.
Бочан, как истый христианин, смиренно попрощался со своим пастырем и с топором на плече давно ушел в гору, а его преподобие все еще сидел, жалобно уставившись на небо. А засим, чрезвычайно расстроенный, направился к капеллану Мюллеру, чтобы поведать о взглядах Бочана.
Энергичный капеллан, скорбно покачивая головой, выслушал его рассказ и сказал:
— Я-я я уже то-то-тоже в-в-вижу, что все они сброд и шантрапа.
И еще в тот же вечер написал в консисторию почтительное прошение, чтобы ему было дозволено отказаться от места в Свободных Дворах и вновь отправиться миссионерствовать в Малую Азию.
«О-обращать му-муллу…»
IV
Через два месяца в Свободных Дворах появился новый капеллан. Молодой, веселый человек, сущий клад для отца Михалейца, потому что умел играть в тароки.
Спустя четверть года по горам уже шла молва, что он ангел во плоти, а в один прекрасный день в доме ксендза появился Замечник из Верхнего Боурова, почтительно поцеловал отцу Михалейцу руку и с благодарностью в голосе сказал:
— Слава господу Иисусу Христу, ваше преподобие… С этим новым молодым батюшкой вы уж нам так потрафили, так потрафили. Уж он не спрашивает ни про старое, ни про новое, он знает, что все это без толку. Прямо ангел небесный! А как нас при исповеди обкладывает… ревем, что старые бабы.
После этих слов Замечник втащил в горницу мешок, который сначала оставил за дверью, и по-приятельски попросил ксендза:
— Оченно вас прошу, честной отец, отдайте эту косулю молодому батюшке. Ночью в силок попалась, весьма хороша… И скажите ему, что-де в благодарность это — уж больно лихо честит нас ворами да жуликами.
Не успел преподобный отец опомниться, как Замечник вытряхнул косулю из мешка и испарился, словно дух.
А на ковре перед священником лежала косуля. Как безмолвное свидетельство семнадцатилетней борьбы за Души кающихся с гор…
V
Через три дня староста перед обедом проходил мимо дома священника. Под распахнутыми окнами кухни он остановился и, втягивая носом запахи, вырывающиеся на улицу, воскликнул:
— Ах ты, чтоб тебя! Никак косулей пахнет… И сопровождаемый приятными видениями пошел прочь от дома, где в это время собирали на стол.
Гиды в швабском городе Нейбурге
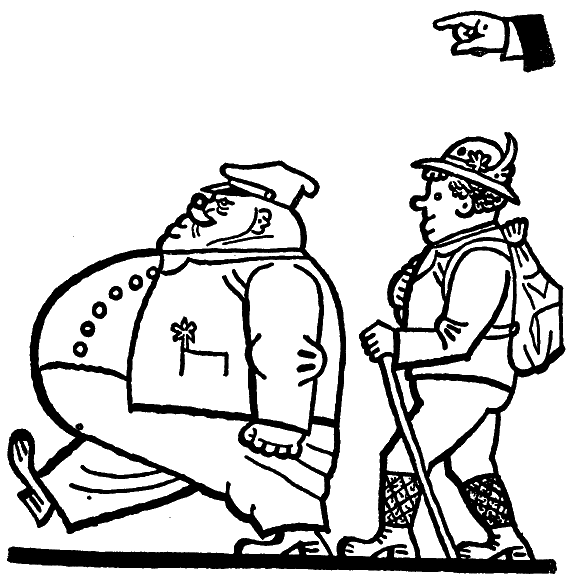
— Четыре марки да что съем и выпью, — во столько оценивал показ городских достопримечательностей и пояснения к оным господин Иогелли Клоптер, гид, обслуживающий иностранцев в швабском городе Нейбурге-на-Дунае.
Последнее из поставленных им условий вызвало во мне неприятное чувство. Дело в том, что у господина Иогелли Клоптера живот был явно ненормальных размеров. Даже по баварским представлениям о человеческой полноте!.. А надо сказать, что обычное баварское представление — это никак не меньше девяноста килограммов живого веса.
Туристу всегда резон поторговаться с гидом. Потому я стал торговаться самым бессовестным образом:
— Если не ошибаюсь, вы любитель покушать, — сказал я. — Вот если б вы были похудей…
Господин Иогелли сделался скучный:
— Еще худее?.. — вздохнул он. — Боже милостивый, видели б вы моего покойного папашу, не говоря уже о покойнике дедушке! Тот, знаете ли, только на закуску съедал целый окорок, миску клецок и горшок капусты!
— Ладно, накину три марки, — сказал я, — получите по семь марок в день.
— Черт побери, — ответил господин Иогелли с чисто немецкой изысканностью, — в таком случае вы просто жила и ходите себе по городу один. Но не попадайтесь мне под руку! Думаете, сударь, Иогелли Клоптер обчищает иностранцев? Да Иогелли Клоптеру достаточно пары-другой пива и самой зряшной закуски.
Когда я второй раз услышал из его уст слово «закуска», у меня по коже пробежал мороз. Но, к счастью, я тут же вспомнил, что в пути туристу следует наживать себе как можно меньше врагов, особенно столь тучной комплекции. Поэтому мы ударили по рукам, господин Иогелли получил четыре марки задатка и внизу, в трактире, поднес мне кружку пива.
Таков уж обычай всех гидов в баварских городах. Мелкие подношения поддерживают дружбу, но потом он выудит у вас этот маленький подарок по двадцать раз на дню.
В Нейбург ездит мало туристов. Может в этом виноват господин Иогелли Клоптер, но туристы вообще не очень жалуют «Швабенландию».
Ландшафт в окрестностях Нейбурга не слишком привлекателен. Все городки, все деревушки на один лад. А где там и сям сохранились развалины какого-нибудь старинного замка, то их реставрировали и приспособили под пивоваренный завод. По этой части баварцы — народ предприимчивый. Так поступили, к примеру, в Гендеркингене, Мертингене, Дюрцленкингене, Берсхеймингене, Иргельсхеймингене и всяких прочих «ингенах» — названия так же однообразны, как швабские газеты. Общественная жизнь во всех этих «ингенах» складывается из вражды между отдельными «ингенами» и лютых трактирных драк в каждом из этих «ингенов». А вокруг Нейбурга это страшнее всего. В столь суровых условиях своего края и вырос господин Иогелли Клоптер…
Сам по себе Нейбург — город старинный, что, впрочем, может быть сказано о любом баварском городе. Если бы я давал описание своего путешествия, то тогда бы написал, что там двое ворот, а так только упомяну, что в один прекрасный день вечером я вошел в город через одни ворота, а на другой день после обеда вышел в другие. В последнем виноват господин Иогелли Клоптер…
Есть в Нейбурге и крепостные стены, но в самом плачевном состоянии. Когда-то, несколько веков назад, шведы разрушили стены, и с тех пор нейбуржцы их так оставили. Пожалуй, это может быть объяснено и тем, что своим депутатом они всегда избирают консерватора.
Как в каждом порядочном баварском городе, в Нейбурге есть ратуша в так называемом старогородском стиле. А в ратуше крутая лестница. Это все, что мне сообщил о ней господин Иогелли Клоптер. Дунай образует здесь два рукава. И на эту достопримечательность обратил мое внимание господин Иогелли. А когда мы шли через мост, он объявил, что мост деревянный.
При входе на мост стоит на часах солдат в каске.
Для какой цели он там стоит, господин Иогелли не знал. Да и сам солдат, наверняка, тоже не имел об этом никакого понятия.
Когда мы были уже на другой стороне, господин Иогелли заявил, что в этом месте мост кончается.
Может, вы думаете, что кроме ратуши и деревянного моста, он уже больше не обратил мое внимание ни на что другое? О нет! Между ратушей и концом моста разместилось пять пивоварен и восемь трактиров… За последним трактиром — ворота, и через них я вышел из этого города, где находится архив Швабии и проживает господин Иогелли Клоптер, которого я горячо рекомендую всем туристам…
Когда мы вышли из гостиницы, где я ночевал, и перешли через мост, мой гид сказал:
— Сейчас я вам покажу старинный трактир «У корабля».
Снаружи заведение не производило отрадного впечатления.
— Надо зайти, — продолжал господин Иогелли. — Подождать одного человека.
Это было сказано столь благодушно, что не оставляло никаких сомнений: мой гид хочет выпить, да еще с процентами за выставленное угощение. Так сказать, в знак того, что наш договор обрел силу. А это самое «подождать одного человека» — лишь повод, чтобы воспользоваться дополнением к нашему договору, облеченным в формулу: «что съем и выпью».
Я заказал пива. Господин Иогелли отпил из кружки и повел разговор:
— Жду одного мерзавца. Ух, швейнкерль, швейн-бубль![2]
Он произнес еще несколько мплых слов, весьма симпатично слагающихся из «швейн», отпил снова и продолжал:
— Этот малый подложил мне свинью, сударь. Жуткую свинью! Пусть только придет, я с ним поговорю! Этот гад из Дюрцленкингена, а я — из Берсхеймингена. Мы, берсхеймингенские, «roh, awer gutmütlisch»,[3] а дюрцленкингенские — только «roh», добродушия у них ни-ни. В Дюрцленкингене — одни сволочи и швейнбубли!
— Швейнкерли, — добавил я, чтобы тоже что-нибудь сказать.
— Правильно, и швейнкерли! — подхватил господин Иогелли. — А самая большая свинья — Иоганнес Бевигн.
Он допил кружку и заказал вторую.
— Мы, — продолжал господин Иогелли, нервничая, — мы, берсхеймингенские, никогда не уживались с этой шантрапой из Дюрцленкингена. Знаете, у нас в каждой деревне говорят на свой лад, но в Дюрцленкингене до того мерзко, что нас, которые из Берсхеймингена, вообще не понимают. Мой отец был в Берсхеймингене «па-а», и этот проклятый Иоганнес вечно надо мной издевается. Что, дескать, не знает, что такое «па-а»… Швейнбубль!
— Простите, господин Иогелли, а что это, собственно, такое — «па-а»?
— «Па-а» — это, сударь, «па-а»! Как вам это прикажете по-немецки лучше сказать?
(По сей день не знаю, что такое «па-а». Так что по господину Иогелли я тоже «швейнбубль».)
— Хо-хо! Знаете, что этот сукин сын Иоганнес объявился в Нейбурге, чтобы со мной конкурировать, и повсюду распускает слухи, будто я пьяница? А сам-то — тоже мне гид, этот Иоганнес Бевигн! Стоит какому-нибудь туристу угодить к нему в лапы, как он тут же напивается вместе с господином туристом. Каналья! Поэтому обождем его здесь, и я ему скажу: «Вот видишь, швейнбубль, не смог меня по миру пустить! Меня подряжают господа туристы почище твоих, ты, мерзкий подонок из Дюрцленкингена!..» Если не дождемся здесь, то он непременно в пивоварне у Бургсхейма. А ежели не там, то тогда он как пить дать пьянствует в трактире «У большой трубки». Ну, а уж если его даже там не будет, так где-нибудь в трактире у ратуши. Или в пивоварне под замком. А коли и там его не окажется, заглянем в трактир «У последних ворот».
— А что если и там его не будет?
Мой гид трахнул кулаком по столу:
— Тогда пойдем в Дюрцленкинген!
Как видите, очень приятный господин этот Иогелли Клоптер.
Неоценимый гид для иностранцев, он знал все до мельчайших подробностей. Показывал. Объяснял. Из «Корабля» мы пошли узкой улочкой. За углом господин Иогелли остановился перед каким-то старым домом.
— В прошлом году здесь убили мясника из Вейдинга, — мрачно промолвил он, показывая на здание. — Это пивоварня Бургсхейма.
— И кто же его убил, господин Иогелли?
— Дюрцленкингенские, сударь. Они здесь сходятся. Может мой конкурент Иоганнес Бевигн тоже здесь. Пожалуйте первым!
Когда мы сели за стол, господин Иогелли взглядом знатока окинул несколько верзил, которые ссорились в углу, в полумраке зала.
— Его тут нет, — сказал он разочарованно. — Те двое, что справа, живут на Регенсбургской, а двое слева — на Аугсбургском шоссе. Этаким макаром они, прежде чем схватиться, будут цапаться еще с часок. Ничего интересного. Жаль, нет здесь парней с площади Фридриха и с Фальцской улицы… вот те умеют драться! Или из Лесхеймского предместья и еще из Гейна.
Господин Клоптер сплюнул и продолжал:
— А эти?.. Даже не знают толком, что такое нож. Им бы когда нарваться на дюрцленкингенских… Тому мяснику из Вейдинга они здорово продырявили шкуру, за милую душу! Со мной бы такого не случилось. Жалко, нет здесь Иоганнеса Бевигна. Но мы его найдем, сударь, и пусть он только цыкнет — сразу разделаем под орех!
Как видите, господину Иогелли Клоптеру чужда холодная сдержанность в обращении с иностранцами. Поистине он не чета многим другим гидам, которые при осмотре города несутся как угорелые, лишь бы поскорей от вас отвязаться.
Итак, Нейбург — город старинный. В нем много старинных зданий. К числу красивых домов с эркерами и под черепицей принадлежит и тот, в котором помещается трактир «У большой трубки». В ресторане надпись: «Просьба рассчитываться немедленно». Это мрачное, угрюмое помещение со старыми сводами, ежесекундно грозящими рухнуть посетителям на головы. Дабы этого не случилось, потолок подпирают два деревянных столба. Какой-нибудь Самсон из берсхеймингенских, вышибив столбы, мог бы разом похоронить немалую толику этих негодяев из Дюрцленкингена. Именно такого рода библейские идеи приходили тут в голову господину Иогелли.
— Если бы, — начал он, прищурившись, — их ринулось на меня слишком много, я знаю, что бы я сделал. Я бы сделал то же, что Самсон!
Господина Иоганнеса Бевигна в «Большой трубке» не было. Так и не дождавшись его появления, мы отправились дальше.
— Пошли в монастырскую пивоварню, — предложил гид. — Монастырская пивоварня примечательна тем, что…
«Ага, — подумал я про себя, — начинается скучнейшее объяснение вроде: „Здание относится к шестнадцатому веку и т. д…“».
— Ели вы уже в Нейбурге ливерную колбасу? — прервал господин Иогелли течение моих мыслей.
— Ел. Вчера в гостинице, где я ночевал.
— В таком разе вы просто не ели ливерной колбасы! Монастырская пивоварня примечательна тем, что здешние отцы францисканцы делают такую потрясающую ливерную колбасу, что, кроме чудотворного образа святого Илиодора, который привлекает паломников со всей «Швабенландии», именно их ливерная колбаса заставляет сюда ездить богомольцев даже из Верхнего Пфальца! Иногда в пивоварне столкнутся две процессии — и пошла потеха. И знаете, что делают в таком случае отцы францисканцы? Не дают им ливерной колбасы, и баста! И сразу драке конец.
(Разговор продолжается уже в монастырской пивоварне).
— А из-за чего драки, господин Иогелли?
— Из-за образа святого Илиодора, сударь. Каждой процессии хочется приложиться к образу первой, чтобы поскорей приняться за выпивку и ливерную колбасу. Ибо не может быть закуски лучше этой!
Господин Иогелли съел этой закуски целых два фунта. Вообще в этом трактире нам повезло. Мы узнали, что конкурент господина Иогелли — Иоганнес — ушел полчаса назад с одним туристом куда-то в пивоварню под замком, а перед этим справлялся о господине Иогелли…
— О, этот паскудник! — патетически воскликнул господин Иогелли. — Значит все-таки подцепил какого-то босяцкого туриста. Ничего не попишешь, придется идти за ним к крепости. Видать по всему, они нас боятся.
Отношение господина Иогелли ко мне становилось все более доверительным.
— Этого туриста, — сказал он, — вы возьмете на себя.
Пожелание было высказано решительным тоном, который означал: «Кто не со мной, тот против меня!» Мы двинулись к крепости.
К крепостным стенам прилепилось пять малюсеньких пивоварен. Они притулились к ним, словно цыплята к наседке. Под защиту крепости нейбуржцы водворили самое для них дорогое.
Во время Тридцатилетней войны к крепости прорвалась шайка шведов и в жестоком бою захватила первую пивоварню. Победители там безбожно надрались. Увидев это, крепостной гарнизон совершил вылазку, но путь пролегал мимо второй пивоварни. Осажденные не устояли. Вполне резонно решив, что если запасы не выпьют они, то их выпьют шведские ландскнехты, вместо на шведов в первой пивоварне, они обрушились на бочки во второй. И одержали победу. Осушили бочки до дна. Между тем шведы очнулись и пошли на штурм второй пивоварни. Найдя ее оккупированной, они двинулись к третьей, где упились пуще прежнего. Пили, не встречая сопротивления. Тем временем, однако, пришел в себя отряд крепостного гарнизона во второй пивоварне и отправился в третью — чтобы встать на ее защиту. Но было уже поздно. Защитники нашли одних спящих шведов да порожние бочки. Разъяренные видом пустых бочек, они перебили шведов. Это и есть так называемая нейбургская победа, как гласит надпись под фреской на крепостных воротах.
— Вполне заслуженная участь, — серьезно проговорил господин Иогелли, стоя под фреской. — Шведы тогда вообще сильно набедокурили. В Швабии, как пишут в книгах, до Тридцатилетней войны было куда больше пивоварен, чем нынче.
Теперь, как уже сказано, под крепостью их всего пять.
Ни в одном из этих достопримечательных заведений господин Иогелли не нашел своего конкурента — гида Иоганнеса, а я своего конкурента — туриста.
— Самое главное, — поучал меня господин Иогелли, с разочарованным видом покидая последнюю пивоварню, — это никого не подпускать к себе близко. Хватай кружку — швыряй, бери стул — швыряй, отломил ножку стола — швыряй. Так-то будет правильнее всего!
— Есть у меня слабая надежда, — продолжал он, когда мы шагали по крепостной улочке к воротам, — что, может, мы еще найдем этих сволочей в кабачке «У последних ворот». Что это они, издеваются над нами что ли?!
Не теряйте надежды! Мы нашли их «У последних ворот». Конкурент-турист боязливо озирался по сторонам. Господин Иоганнес смотрел вызывающе.
Мы сели напротив. Незнакомый турист и господин Иоганнес были на более короткой ноге, они уже друг друга «тыкали».
— Ты пойдешь к этому иностранцу, — услышал я громогласный совет господина Иоганнеса боязливому туристу, — и дашь ему раза, а уж с Иогелли я управлюсь сам.
В этот момент загремел господин Иогелли:
— Все молодчики из Дюрцленкингена — швейнкерли!
— А из Берсхеймингена — швейнбубли! — крикнул господин Иоганнес.
Затем просвистела кружка господина Иогелли, а ей навстречу — кружка господина Иоганнеса. И пошел дым коромыслом, потому что там еще оказалось несколько человек из предместья Лесхейм и из предместья Гейн, которые с удовольствием воспользовались случаем, чтобы разбить друг другу головы.
В наставшей заварухе я решил испариться и в дверях столкнулся с незнакомым туристом.
— Мы вас искали по всем пивоварням и трактирам, — обратился он ко мне. — Иоганнес говорил, что Иогелли ему подложил свинью своей конкуренцией.
Мы вышли из ворот Нейбурга.
— Приятный городок, — в восторге воскликнул незнакомый турист. — А то у нас, в Вюртемберге, ужас как скучно…
Вот каковы немцы и каковы гиды, показывающие иностранцам швабский город Нейбург-на-Дунае…
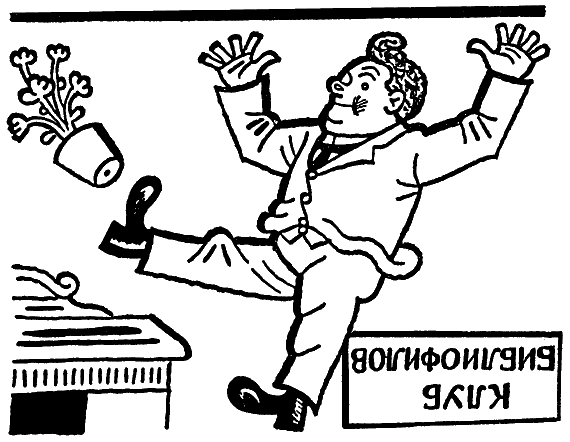
Ничего не может быть ужасней, чем попасть в руки почитательницы литературы, собирающей в своем салоне библиофилов и устраивающей литературные сборища, на которых подается чай и на каждого любителя литературы приходится по два крохотных калачика.
Правда, ходить на эти литературные сборища к мадам Герзановой мне не было никакой нужды, но было как-то неловко не принять приглашение приятеля, которому я однажды трепанул, будто у меня есть оригинальное персидское издание стихов Хафиза в переплете из человеческой кожи. Приятель разгласил сие среди библиофилов и почитателей литературы, и этого оказалось вполне достаточно: их меценатка мадам Герзанова выразила желание, чтобы я был ей представлен.
В салоне я нашел двенадцать открытых физиономий, с которых на меня взирала вся мировая литература. Мое появление было встречено с оживлением, и человек, у которого есть стихи Хафиза в переплете из человеческой кожи, пожалуй, имел право на целых четыре калачика!
Посему я взял с блюда четыре крохотных калачика, отчего какой-то девице в очках, сидящей возле меня, не досталось ни одного. Это ее настолько опечалило, что девица принялась говорить о книге Гёте «Избирательное сродство».
Сидящий против меня историк литературы обратился ко мне с вопросом:
— Изволите знать всего Гёте?
— С головы до ног! — ответил я самым серьезным образом. — Он носит желтые башмаки на шнурках, а на голове коричневую фетровую шляпу. Он надзиратель по продуктовому налогу и живет на Кармелитской улице.
Библиофилы посмотрели на меня печально и с укоризной. Хозяйка, дабы скрыть замешательство компании, спросила:
— Вы очень интересуетесь литературой?
— Милостивая государыня, — начал я, — было время, когда я читал очень много. Я прочел «Трех мушкетеров», «Маску любви», «Баскервильскую собаку» и другие романы. Соседи откладывали для меня литературное приложение к «Политике», и потом я залпом прочитывал все шесть продолжений за неделю. Чтение меня очень занимало. Например, я не мог дождаться, выйдет ли графиня Леония за карлика Рихарда, который из-за нее стал убийцей собственного отца, застрелившего перед этим из ревности ее жениха. Да, да, господа, книги творят подлинные чудеса! Когда мне бывало совсем худо, я читал «Юношу Мессинского». Девятнадцати лет сей молодой человек стал грабителем. Звали его Лоренцо. О да, тогда я читал! А теперь читаю мало. Меня это больше не интересует.
Почитатели литературы побледнели, а долговязый муж с проникновенным взором спросил меня строго и лаконично, словно судебный следователь:
— Золя вас интересует?
— О нем мне известно очень мало, — сказал я. — Единственно слышал, что он пал во франко-прусской войне при осаде Парижа.
— А Мопассана вы знаете? — с каким-то неистовством в голосе спросил все тот же человек.
— Читал его «Сибирские рассказы».
— Вы ошибаетесь! — выйдя из себя, воскликнула сидящая рядом девица в очках. — «Сибирские рассказы» написали Короленко и Серошевский. Ведь Мопассан француз!
— Я думал, голландец, — спокойно сказал я. — А раз француз, то, может, переведет эти «Сибирские рассказы» на французский.
— Но Толстого вы знаете? — молвила хозяйка.
— Видел его похороны в кинематографе. Но такой химик, как Толстой, который открыл радий, заслужил похорон поприличней.
На мгновенно все смолкли. Историк литературы, сидевший напротив, посмотрел на меня налившимися кровью глазами и иронически спросил:
— Но чешскую литературу вы, конечно, знаете в совершенстве?
— У меня есть «Книга джунглей». Надеюсь, с вас хватит? — проговорил я многозначительно.
— Но ведь он же англичанин, этот Киплинг, — подал голос один молчаливый господин и закрыл лицо руками, будто плача.
— О Киплинге я не говорил ни слова! — воскликнул я оскорбленно. — Я же говорю о «Книге джунглей» Тучка.
Тут я заслышал, как два господина, достаточно громко, чтобы мне было слышно, прошептали, что я животное.
Бледный длинноволосый юноша, скрестив руки, мягко проговорил, обращаясь ко мне:
— Вы не понимаете красот литературы, вы, конечно, не можете оценить ни слог, ни утонченное построение фраз, вас не вдохновят даже стихи. Помните у Лилиенкрона то место, в котором за словами чувствуется, угадывается прелесть природы: «Тянутся облака, летят, синие облака летят и летят. Над горами, долинами, над поясом лесов зеленых?»
Повысив голос и опираясь на плечо сидящего подле него почитателя литературы, юноша продолжал:
— А «Огонь» Д'Аннунцио? О, если бы вы читали это прекрасное, замечательно верное описание венецианских празднеств! И притом этот роман любви…
В ожидании моего ответа он бросил взгляд на газовый рожок и провел рукой по лбу.
— Что-то я вас не очень понял, — сказал я. — Почему, собственно, этот Д'Аннунцио на каких-то празднествах устроил пожар? И сколько лет ему за это дали?
— Д'Аннунцио — знаменитейший итальянский поэт, — неутомимо просвещала меня девица в очках.
— Удивительно, — невинно обронил я.
— Да что тут удивительного! — буквально проревел господин, не проронивший до сих пор ни слова. — Вы хоть одного итальянского поэта знаете?
Мой ответ был исполнен достоинства:
— Ну, конечно. Робинзона Крузо.
После этих слов я оглянулся по сторонам.
Двенадцать почитателей литературы и библиофилов поседели в это мгновение. И двенадцать без времени поседевших почитателей литературы и библиофилов через окно первого этажа выкинули меня вон.
Досадный случай в государственной практике
Его высочество светлейший князь Оксенгаузенский спятил. Даже у профанов в этом не возникало никаких сомнений, тем более, что это распознали и его министры, а уж те и впрямь не были гениями духа. Было бы излишне описывать, как кабинет министров долго ходил вокруг да около, никак не решаясь высказать вслух, что было у всех на уме. Будет вполне достаточно, если мы только скажем, что в конце концов министры все же сошлись во мнении, что его высочество князя Аладара — двадцать первого в ряду державных властителей, носящих это имя, — постигло такое умственное расстройство, что его состояние должно быть классифицировано не иначе, как полный идиотизм, и что, стало быть, его высочество не способны более держать бразды правления в своих руках.
Единственный, кто в глубине души испытывал желание выступить с возражениями, был министр княжеского двора. Но потом он опомнился, резонно предположив, что коллеги-министры вполне способны объявить идиотом и его, — оснований для этого было хоть отбавляй! Таким образом, в кабинете министров решение состоялось единогласно. Чтобы учредить регентство, оставалось заручиться поддержкой со стороны медиков, которые должны были засвидетельствовать то, что уже и без них было ясно любому профану.
Премьер-министр его высочества взял на себя трудную задачу обсудить этот вопрос с лейб-медиком светлейшего князя. Распорядившись вызвать его, премьер сказал:
— Любезный господин медицинский советник, я попросил вас пожаловать ко мне, потому что мне хотелось побеседовать с вами о состоянии здоровья его высочества. Дело, видите ли, в том, что мои коллеги придерживаются мнения, будто бы неоспоримые дары духа, которыми наделен наш светлейший повелитель, в последнее время…
— …развиваются с поразительной силой! Вы совершенно правы, ваше превосходительство!
— Так, так, вы угадали, именно это я и хотел сказать, господин советник. Эти редчайшие дары духа развиваются не только с поразительной силой, но и в совершенно поразительном направлении… гм… гм… Одним словом, просто невероятно. Вчера я был удостоен чести сопровождать его высочество на прогулке. В лесу нам попались на глаза силки, которыми птицеловы ловят свою добычу. Его высочество стали меня расспрашивать о подробностях. Я рассказал ему, как прилаживают эти прутики, смазанные клеем, как птица попадает в силки и потом ее уносит птицелов. Его высочество с присущей ему благосклонностью соизволили выслушать мои объяснения, а затем изволили спросить: «А что если по оплошности в силки попадется сам птицелов? Тогда его унесут птицы?»
— За-ме-чательно! Замечательно остроумно! — расхохотался господин медицинский советник. — Вот видите, ваше превосходительство, его высочество становятся все остроумней.
«И этот малый уже совсем спятил», — подумал премьер-министр и отпустил медицинского советника.
Неторопливо шагая к дому, господин медицинский советник размышлял, что должен означать состоявшийся разговор. Что премьер-министра не удовлетворил его ответ, это он почувствовал. Но чего же, в таком случае, премьер от него добивался? И вдруг эскулапа осенило, что это может означать! Да, да, не может быть сомнений. Эти люди питают какие-то недобрые умыслы против его высочества! Они хотят, чтобы он, лейб-медик, шел против своего государя! Кто его знает, что тут происходит?! Неужто после Турции и Португалии настал черед Оксенгаузена? Несомненно, именно это и замышляется. Вот они каковы, министры его высочества. Но он, медицинский советник, разоблачит этот преступный комплот. И раздобудет доказательства!
На третий день после этого придворный врач прослышал, что из Берлина в Оксенгаузен прибыл прославленный профессор по нервным болезням, доктор Гшейтле, и что его высочество дал ему особую аудиенцию, после которой приезжая знаменитость о чем-то долго совещалась с премьер-министром. Господин медицинский советник решил идти ва-банк: облачившись в парадный мундир, он отправился с визитом к профессору.
После первого обмена любезностями лейб-медик сказал:
— Как жаль, что удовольствием лично познакомиться с вами мы обязаны столь досадному в государственных делах случаю, уважаемый профессор!
Профессор поначалу посмотрел на медицинского советника с некоторым удивлением.
— Ах да, — сказал он затем, — как лейб-врач его высочества вы, конечно, посвящены в происходящее. Действительно, очень досадное дело. Но что поделаешь! Его высочество для нас безвозвратно потеряны. Думаю, что наши диагнозы совпадут. О возможности выздоровления не может быть и речи. Светлейший князь — да услышит нашу жалобу господь — свихнулся навеки. О способности править княжеством не приходится и думать. Или, быть может, вы другого мнения?
— О нет, разумеется нет, господин профессор, — отвечал лейб-медик, хватая ртом воздух. — А как долго наша столица будет иметь честь принимать в своих стенах такое светило науки, как вы?
— Я уезжаю сегодня вечером, господин советник.
Но вечером господин профессор не уехал. Уже садясь в карету, он почувствовал, как кто-то кладет ему руку на плечо… Заезжую знаменитость арестовали именем закона.
— За что? — вопрошал господин профессор, ничего не понимавший в происходящем.
— За оскорбление державного монарха, допущенное вами в разговоре с медицинским советником!
И почтенного профессора засадили. Государственная прокуратура пришла в такой восторг от достигнутого успеха, что разгласила это по всему городу. Прокурор отправился к министру юстиции с докладом о случившемся. Но когда он дошел до оскорбительных слов профессора в адрес державного монарха, министр в гневе прервал его:
— Скажи он это о вас и о медицинском советнике, это было бы самое бесспорное доказательство истины на свете!
Государственный прокурор вернулся от министра, точно его оглоушили…
Было созвано экстренное заседание кабинета; министры констатировали, что ситуация резко ухудшилась. На основании заключения одного-единственного профессора отставить светлейшего князя невозможно. Нужны заключения других ученых. Но если они найдут, что князь здоров, тогда осрамились мы. Если же они признают, что он свихнулся, то этот осел медицинский советник их тоже засадит. Потому что их заключение он все равно узнает. Как же быть?
— Надо каким-то образом избавиться от лейб-медика.
— Легко сказать, но как это сделать?
— Посадим его тоже! — сказал министр юстиции.
— За что?
— Странный вопрос! Если нужно кого-нибудь посадить, мы всегда посадим. За поводом дело не станет.
— Пошлем за ним.
— Идея!
Но посланный служитель вернулся ни с чем. Господин медицинский советник велел передать, что считает кабинет министров за сборище заговорщиков и изменников, а потому говорить ему с ними не о чем.
Министр юстиции был в восторге.
— Что и требовалось доказать! — воскликнул он. — Разве это не тягчайшее оскорбление его высочества — утверждать, что он бы мог почтить своим доверием заговорщиков или изменников?
И еще в тот же день господин медицинский советник очутился в тюрьме, в камере по соседству с берлинским профессором.
Само собой разумеется, что два таких ареста произвели в городе форменную сенсацию. Кабинет министров заработал полным ходом. По телеграфу обратились ко всем возможным авторитетам в области медицины, которые могли дать нужное заключение. Но ученые, прочтя в газетах, что стряслось в княжестве Оксенгаузенском, сочли это приглашение ловушкой, с помощью которой правительство собирается заманивать людей, чтобы посадить их за оскорбление державного монарха.
Кабинет министров был в отчаянии, а светлейший князь продолжал дуреть. Так прошла целая неделя. Его высочество уже нельзя было выпускать из узкого круга ближайших придворных, потому что иначе первому встречному сразу стало бы ясно, что с ним происходит. Спустя две недели кабинет министров собрался вновь, чтобы еще раз обсудить положение. Министр иностранных дел доложил о бесплодности переговоров с заграничными медицинскими светилами и заключил свой доклад выводом, что таким путем не прийти к поставленной цели.
Господин премьер-министр после долгих раздумий возразил:
— Неужели так важно добиться этого?
— Как так?
— Что наш светлейший князь спятил, это факт. Но ведь прошло уже немало времени, а в княжестве, не смотря на это, полный порядок. За исключением, правда, того, что его высочество не занимаются государственными делами. А разве так уж нужно, чтобы он ими занимался?
Больше экспертов не приглашали. Его высочество остался князем Оксенгаузенским.
Дорогая моя приятельница Юльча
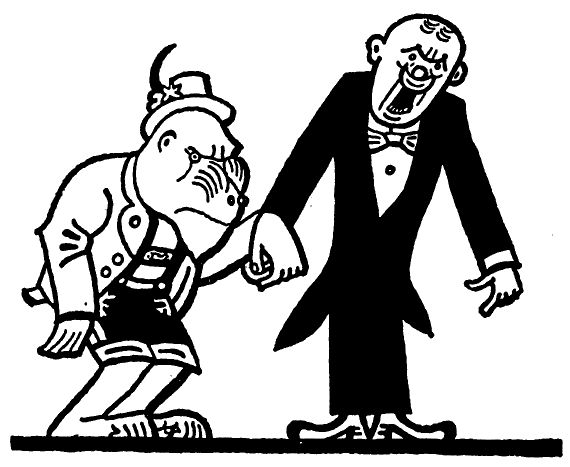
I
Честное мое слово, я не знаю существа прелестней, чем собакоголовый павиан! Меня крайне удивляют как леопарды, которые почему-то его боятся, так и покойный Брэм, столь некрасиво его оклеветавший, назвав уродом. Правда, при первой встрече он вам и впрямь покажется этаким зверищем из апокалипсиса или с рисунков спиритистов. Но если к нему привыкнуть, то замечаешь, что под шкурой этого дьявола кроется славный характер и что в чудовище собакоголового павиана превратили исключительно люди, которые его не понимали.
Да будет мне также как человеку, занимающемуся зоологией, дозволено отметить, что собакоголовый павиан — единственная обезьяна, не издающая дурного запаха. За годы практической деятельности торговца животными из-за омерзительного запаха разных пород обезьян мне пришлось выслушать от своих клиентов немало упреков.
Вот почему я могу словами моего служителя Чижка сказать:
— Позвольте, уважаемые, рекомендовать вам собакоголового павиана!
II
Этого собакоголового павиана звали Юльчей. Красавицей она была необыкновенной… С продолговатым носом, серебристо-коричневой шерстью, отдающей мускусом, карими глазами и маленьким интеллигентным хвостиком, столь коротким, что это давало право надеяться на полную утерю сего придатка будущим потомством в Юльчином роду. К нам Юльча попала по удивительнейшему стечению обстоятельств. Какой-то дрессировщик обезьян купил ее у Хагенбека в Штеллингене под Гамбургом. Дрессировщик содержал целый обезьяний пансион. Юльча получила тщательное воспитание. За два года она научилась сама надевать на себя какой-то замызганный бальный туалет с длинным шлейфом и тирольский костюм с пером на шляпе. Затем Юльчу учили кататься на маленьком велосипеде по кругу, есть ножом и вилкой, пить из бутылки. В этом же пансионе ее научили весьма метко плеваться черешневыми косточками по мишени. Словом, мадемуазель Юлия преуспевала во всех науках, и можно было надеяться, что она отучится ловить блох в обществе, почесываться сзади, а также искать воображаемых вшей в голове своего учителя и всех окружающих.
Наконец самоотверженный учитель задумал показать свою ученицу в пражском варьете. Предварительно, в целях рекламы, ему хотелось представить ее в редакциях ежедневных газет. Но когда Юльча уже в первой редакции съела важную статью, которая должна была пойти в вечерний выпуск, а главного редактора облила чернилами, от такого намерения пришлось отказаться.

В редакции же после этого визита на собственном опыте познали, что выкинуть на улицу дрессировщика обезьян куда как легче, чем собакоголового павиана. Юльчин учитель уже давно находился в коридоре, тогда как Юльча все еще была в редакции. Она сидела на шкафу с книгами и, просматривая географический атлас, который взяла со стола, с видимым интересом вырывала одну карту за другой. Главный редактор с двумя репортерами заперлись в телефонной кабинке и держали совет, как быть и что делать с этим дьяволом в метр с лишним ростом и ужасающими челюстями. Между тем дьявол успел сорвать внутренний телефон и через окно швырял на улицу разные рукописи со стола главного редактора. Затем Юльча с достоинством открыла дверь в коридор и, обняв своего учителя за шею, спустилась с ним в автомобиль, которым они приехали.
С тех пор господин Гарди не ходил по пражским редакциям и с ужасом ожидал, как пройдет выступление Юльчи в варьете. Ничего путного из этого не вышло. Выведя ее в тирольском костюме на сцену, господин Гарди поклонился (что Юльча весьма благовоспитанно повторила), а затем обратился к публике с краткой речью, в которой назвал Юльчу восьмым чудом света. Поначалу Юльча безучастно наблюдала свое окружение, потом глянула вниз, в оркестр, и исчезла среди музыкантов. Но из оркестра она вскоре вынырнула и появилась между передними столиками в зале уже со скрипкой в руках, где уселась на стол перед каким-то пожилым господином, который с перепугу стал ее рассматривать в театральный бинокль. Полагая, что это входит в номер, публика принялась аплодировать. Довольная первым успехом, Юльча трахнула почтенного господина скрипкой по голове и завладела его биноклем. Потом запрыгала со стола на стол, разодрала на одной даме блузку, запустила биноклем в обер-кельнера и вскарабкалась на балкон, откуда принялась швырять в партер шляпы. Зрителей охватила паника.
Тщетно господин Гарди громким голосом умолял со сцены, чтобы они не боялись, что это очень добрая кроткая обезьяна и что через минуту он публику за все вознаградит: покажет кроткого дрессированного тигра. Зал пустел с невероятной быстротой. Наконец наверх, на балкон, проникли капельдинеры и после продолжительной и упорной борьбы связали Юльчу. При этом одного из них своими крепкими зубами она искусала так, что его в карете скорой помощи пришлось увезти в больницу. Итак, когда все было приведено в надлежащий порядок и полиция оттеснила от касс толпу, бурно домогавшуюся возвращения денег за билеты, господин Гарди, не тратя времени на лишние размышления, счел целесообразным протелефонировать мне.
— Алло, мне стало известно, что вы охотно покупаете разных сногсшибательных животных. Хвалю и одобряю! Считайте меня своим добрым другом, который ни в коем случае не хочет вас провести. Вы уже когда-нибудь видели обезьяну, которая вытирает нос носовым платком?
Я ответил, что да, поскольку однажды мне самому удалось обучить этому обезьяньего самца из породы резус. Тот даже постоянно носил носовой платок при себе, в защечных мешках. Когда ему надо было вытереть нос, он просто вынимал платок изо рта, сморкался, а затем преспокойно засовывал его обратно в рот. Я продал его одной баронессе, у которой из-за этой удивительнейшей обезьяны сделался желудочный катар.
— Алло, — продолжал господин Гарди, — я начинаю как раз с того, чем вы завершили дрессировку. Вы видели обезьяну, которая ест ножом и вилкой?
— Да, господин импрессарио. У нас даже был такой развитой магот бесхвостый, что он эти ножи просто глотал. Мы отправили его на вскрытие и получили обратно целый набор приборов на шесть персон.
— Алло, — раздался в трубке другой голос (то был уже директор всего заведения), — алло, давайте короче, по-деловому! Речь идет об очень кротком экземпляре собакоголового павиана. Знаете, это та самая Юльча, то чудо, которое было на афишах. Она катается на велосипеде, пьет из бутылки, надевает бальный наряд со шлейфом, тирольский костюм, и знает много других антре и смешных трюков. Мы вам ее уступим со всем обзаведением за двести крон. Нам очень не хочется с ней расставаться, но Юльча не привыкла к публике. Впрочем, через пару минут мы у вас…
Они дали отбой прямо мне в ухо и через четверть часа привезли Юльчу на автомобиле, связанную веревкой, точно злодея. Водворили мы ее в кухню на нижнем этаже, где варилась пища для двадцати собак и ютилось несколько щенят. Те со страху забились в угол и, жалобно повизгивая, стали ждать, что будет дальше.
Мы сговорились с господами о цене. Они отдали Юльчу за сто шестьдесят крон, бесплатно оставили в придачу ее туалеты, и подозрительно быстро со мной распрощались. После их отъезда я позвал своего слугу Чижка и распорядился развязать собакоголового павиана. Чижек упал передо мной на колени и забожился, что у него на руках старушка-мать (это была неправда, ибо он уже довольно давно сбежал из дому). Увидев, что этот номер не пройдет, Чижек потребовал авансом в счет своего жалованья пять крон, объясняя это тем, что перед таким серьезным и опасным предприятием следует подкрепиться. Удовлетворился он, однако, и двумя, получив которые тут же отправился набираться отваги.
Вернулся Чижек через три часа. Я видел, как он открыл калитку и, пройдя через двор, скрылся в доме. Некоторое время внизу был слышен какой-то шум, потом все смолкло. Я проверил, заплатили ли мы за Чижка страховку от несчастных случаев и, убедившись, что да, менее обеспокоенный спустился вниз и осторожно отворил дверь в кухню.
По всему было видно, что Чижек свое дело сделал. В слабом свете висевшей на стене керосиновой лампы мне представилась умилительная картинка. Успев развязать Юльчу, Чижек теперь без движения лежал на кровати; отвага, которой он набирался за две кроны, одержала над ним верх. Юльча, вероятно решившая, что, связывая, ее опять учат чему-то новому, употребила веревку, от которой ее освободили, чтобы связать Чижка «козлом». Бедняга Чижек лежал на кровати как тюк и спал. Юльча перенесла и уложила вокруг него всех щенят, каких нашла, а теперь что-то искала у Чижка в голове. Щенята, благоразумно соблюдая тишину, ожидали, когда дойдет очередь до них. Вот при каких обстоятельствах Юльча познакомилась со мной… Я развязал Чижка, обезьяна мне помогала; затем она взяла меня за руку и ни за что не отпускала, так что я волей-неволей был вынужден отвести ее наверх. Там я ей дал яблоко и хлеба. С тех пор, умей я делать все то, что она, Юльча, пожалуй, не покидала бы меня ни на минуту. Но я не умею прыгать с дерева на дерево, оттуда на карниз, а с карниза на крышу. Кроме того я заметил, что она сильно досадует на меня за то, что я не умею раскачиваться на висячей люстре.
На эту висячую люстру Юльча вскочила в первый же вечер, когда она у нас появилась, и тщетно пыталась меня соблазнить последовать за ней. Правда, люстра все равно бы нас не удержала: она сорвалась уже под тяжестью одного собакоголового павиана. Большая керосиновая люстра слетела вниз, лампа взорвалась, вспыхнула мебель, потом занавески и пол. Пока я вызывал по телефону пожарных, Юльча удрала через окно и, устроившись на дереве напротив, смотрела на языки пламени, вырывавшиеся наружу.
Когда приехали пожарные, Чижка им пришлось из дома вынести, потому что он преспокойно спал. Из-за Юльчи спасательные работы были несколько затруднены, ибо она приблизилась к пожарной помпе и принялась попеременно раскачиваться на обеих ее плечах. Те, кто присутствовал при этом, уверяли, будто Юльча помогала гасить огонь. Очень сильно сомневаюсь. Позже, когда она однажды ночью совершила прогулку на Мальвазинки и в кладбищенской часовне раскачивалась на колоколе, они могли бы с таким же успехом утверждать, что Юльча отправилась звонить по том трамвайном служащем, которого она перед этим встретила на улице и у которого отняла фуражку, от чего этого доброго человека хватил удар. И все-таки это было очень милое создание… В тот раз, чтобы я не сердился, она принесла мне с кладбища железную табличку с надписью: «Здесь почиет мой возлюбленный супруг. Жди меня!»
Когда пожар потушили, я направился с Чижком и Юльчей в единственную спасенную от огня комнату на первом этаже. Юльча благоразумно уселась на кушетке и медленно рвала в клочья какой-то жилет, который в этой панике она захватила где-то по соседству. Никому из нас этот жилет не принадлежал, и поэтому мы ей не препятствовали.
Чижек тоже молча и спокойно сидел за столом и наблюдал за Юльчей. И вдруг он проговорил с убежденностью в голосе:
— Нет, сто шестьдесят крон за нее совсем не много. Я бы даже сказал, что это очень дешево!
Я дал ему подзатыльник. Так мы все трое — я, Чижек и Юльча с чужой жилеткой — молча просидели до одиннадцати часов ночи, размышляя каждой о своем.
После одиннадцати мы взяли Юльчу за руки и отвели в сад, в большую клетку, оставшуюся от страуса нанду, которого как-то ночью сожрали крысы. Когда мы уже хотели ее запереть, Юльча сунула руку в рот и, вытащив оттуда стальные карманные часы, протянула их мне.
Мы заперли ее, несмотря на эту взятку, и я, подав часы Чижку, спросил:
— Что вы на это скажете?
— Просто диву даешься! — ответил тот. — Я бы ни за что не смог так долго держать часы во рту.
Владелец часов так и не объявился, и я носил их еще до позапрошлого года. Часы шли очень точно и были с боем.
Из этого я заключил, что они принадлежали какому-то состоятельному зрителю, пришедшему посмотреть, как красиво полыхает наш дом.
Мало-помалу Юльча привыкла на новом месте. Вот только не взлюбила нашу экономку Фанни. Видимо по причине, что у Фанни было больше нарядов, чем у нее. У бедняжки Юльчи и вправду была всего одна юбка, хоть и со шлейфом! Все же ужасающая бедность… И вот однажды, поднявшись наверх, Юльча отворила дверь в комнатку барышни Фанни и обследовала один ее туалет. Это был красивый новый наряд, переброшенный через спинку стула. Сперва Юльче больше понравилась блузка, чем юбка. Она натянула блузку на себя, но поскольку та на ней висела мешком, попробовала надеть ее наоборот. Затем просунула голову в рукав, которому пришлось «раздаться», чтобы обновка сидела на обезьяне как следует. Но половина блузки волочилась у нее за плечом. Тогда Юльча попыталась снять блузку и натянула вторую разодранную часть рукава на ноги, а остаток хитроумно обернула вокруг головы, точно тюрбан. Но и это ей не понравилось, как утверждал Чижек, с любопытством наблюдавший эту сцену через окно. Главное, дескать, его интересовало, разорвет ли Юльча также новую Фаннину юбку.
Чижек пришел на кухню и сообщил об этом экономке предельно кратко и вразумительно:
— Барышня, барышня, она уже…
— Что уже?
— Она уже того…
— Да что того?..
— Да Юльча в вашем новом платье. Полчаса возилась, пока натянула. Вон она на псарню идет!
Я появился как раз в момент, когда Юльча с гордым видом проследовала на нашу псарню представиться в новом наряде дюжине ее любопытных обитателей. Она расхаживала вокруг клеток с какой-то дубинкой в руке. Собаки выказывали свою радость оживленным лаем. Еще бы, такое красивое и занятное зрелище! Из Фанниной юбки Юльча сделала нечто наподобие тоги, величественно переброшенной через одно плечо. С другого плеча, словно часть гусарского ментика, свисал перед блузки с блестящими пуговками. Половина блузки образовывала аккуратный тюрбан, а все облачение в целом производило впечатление вылетевшего в трубу патриарха.
Извергая ужасные проклятия, Фанни ринулась за красавицей-патриархом.
Отставной управляющий богадельни клялся, что никогда в жизни не видел, чтобы с женщины была спущена юбка с такой быстротой, как на сей раз! Несчастная мадемуазель Фанни… Отправившись спасать бренные останки своего нового платья, она, сверх этого, лишилась еще передника и юбки. К счастью, на ней оказались добротные исподние штаны, которые Фанни собственноручно сшила из велосипедных панталон времен своей молодости. С передником и юбкой в руках Юльча спокойно перемахнула через забор, перешла улицу и отправилась в Кламовский парк. Домой обезьяна и на этот раз возвратилась поздней ночью, но на ней уже ничего не было.
Лишь наверху, на Белогорском шоссе в сторону Выпиха, на телеграфных проводах еще долго висела черная юбка нашей Фанни. Как сникшее боевое знамя. А сама мадемуазель еще в тот же день ушла от нас, оставив короткое письмецо, в котором, не умея выражать свои мысли, написала, что «ее добродетель была публично расшатана».
III
Иногда, помимо радости, моя приятельница Юльча доставляла мне горькие минуты, потому что не могла уразуметь, чего я, собственно, от нее требую. Когда я сидел в саду, она часто не понимала, как выглядит тот предмет, который я хочу, чтобы она вынесла из дома в сад. Вспоминая теперь об этих давних событиях, я прихожу к убеждению, что был недостаточно систематичным. Несмотря на свою интеллигентность, некоторые понятия Юльча усваивала все же не сразу. Признаюсь, это был серьезный изъян в ее воспитании. Порой происходили вещи совершенно непоправимые. Надеюсь, однако, что если когда-нибудь в мои руки снова попадет такой же очаровательный экземпляр собакоголового павиана, я постараюсь, чтобы мы оба вели себя более разумно. Дело, видите ли, в том, что однажды в воскресенье пополудни нас посетили цирковые артисты, которые разыскивали какого-нибудь зверину по-необыкновенней.
Сперва они беседовали во дворе с Чижком, давшим полную волю своей фантазии и предложившим им для начала какую-то большую, с очень добрым нравом змею, которую мы якобы передали на воспитание одному крестьянину близ Праги, чтобы она не заболела собачьей чумой. Подчеркиваю, что это происходило в воскресенье после обеда, когда Чижек во дворе под деревьями меланхолически тянул своих неизменных полдюжины пива.
«Ложись!» — орал он время от времени в сторону псарни, где псы всех пород лаяли на дачников, тащившихся в пыли Белогорского шоссе. Собаки, однако, лаяли пуще прежнего и огрызались до тех пор, пока Чижек не оставлял их в покое.
Но в этот день бутылок оказалось больше шести, а потому Чижек в присутствии артистов ударился в романтику. Я слышал, как от несчастной доброй змеи с собачьей чумой он перешел к одногорбому верблюду, которого мы отправили в одну семью под Пльзнем.
Артист постарше в знак согласия кивал головой, тогда как младший неустанно повторял:
— Этого не может быть! Я утверждаю, что этого не может быть!
Но Чижек продолжал расписывать наши богатства, так что под конец я почувствовал себя некоей неизведанной частью суши, изобилующей животными всех пород и видов.
— Почтеннейшие, — слышал я голос Чижка, — у нас есть один короткошерстый кенгуру поменьше, и один лохматый побольше. И до чего же оба здорово плавают! А тот, который помоложе, еще замечательно настораживает уши. Мы их держим в одном заповеднике, и если господа пожелают, мы им пошлем открытку, во сколько обойдется эта парочка.
— Этого не может быть! Я утверждаю, что этого не может быть! — повторял господин помоложе, пожалуй, уже машинально.
— Ну, а что у вас есть здесь, на месте? — спросил, наконец, пожилой. — Собак мы уже видели, но они никуда не годятся, потому что…
И тут он подверг нашу псарню уничтожающей критике. Во-первых, ему не понравился свеже выкрашенный арлекинский дог. А я ведь говорил Чижку, чтобы он, разукрасив его туловище красивыми пятнами, непременно побрызгал дога сиккативом. Но Чижек забыл. Утром дог где-то такое встал под водосточную трубу и начал линять.
В свою очередь младшему не понравился огромный барбос — один из тех, которых мясники запрягают в тележки, чтобы развозить товар. Чижек утверждал, что это единственный экземпляр мастиффа во всей Европе. Пес — чтобы произвести впечатление — был привязан тремя толстенными цепями, ибо мастиффы — самые страшные из всех собак, и в Чехию до сих пор завезены не были (таким образом, совершенно безразлично, что показывать клиентам). Молодой артист негодовал, что представленный ему мастифф уже издали протягивал лапу и радостно вилял хвостом.
Критика была безжалостной, вдобавок старший, все время перебивая младшего, без конца брюзжал:
— Ну-с, что вы нам еще покажете?
Было видно, что, напрягая до крайности их любопытство, Чижек гнет чрезвычайно хитроумную линию.
— Затем у нас еще есть голуби, — спокойно продолжал Чижек.
— Что-о?! — вскричали оба угрожающе.
И тут Чижек торжественным тоном провозгласил:
— Позвольте нам, уважаемые, горячо рекомендовать собакоголового павиана. Оба они в саду… Павиан и пан шеф!
Так, благодаря Юльче я познакомился с братьями Шнейдер, артистами, выступавшими во многих цирках. У младшего была ученая свинья, что кормило его три года кряду. Потом он лишился ангажемента, свинью съел и заделался неуязвимым факиром. Но однажды он таки ухитрился себя поранить, амплуа факира забросил и теперь вместе со старшим братом выступал клоуном. Господин Шнейдер-младший повел разговор о том, что им нужно какое-нибудь животное, которое бы их дополняло.
Между тем Чижек вернулся со двора, где у нас был сарай. В тот день Юльча в наказание сидела под замком, потому что ей каким-то образом удалось дорваться до рояля и разобрать его. Правда, не полностью, но зато со скоростью много большей, нежели бы это удалось искусному мастеру-настройщику.
Юльча, эта добрая душа, приволокла с собой черные и белые клавиши, так что в рояле теперь образовались весьма приятные промежутки. Лично я был ей за это благодарен, потому что к нам дважды в неделю ходила заниматься дочурка нашего бухгалтера. Но сам бухгалтер прятал в рояле бутылку контушовки, которую Юльча, воспользовавшись случаем, не преминула выпить. Так что мадемуазель Юльчу пришлось запереть на замок, чтобы, войдя в раж, она еще чего-нибудь не выкинула.
Измученный вид моего слуги при возвращении из сарая не внушал особой радости. Чижек отвел меня в сторону.
— Пан шеф, — запричитал он, — наверно ничего не выйдет. Насосалась наша обезьянка молочка… от бешеной коровки.
Я сказал, чтобы он оставил свои пошлые каламбуры при себе и поскорей перешел к сути дела.
— Пойдите, попробуйте с ней сговориться, — продолжал Чижек с отчаянием в голосе, — ни за что не хочет одеваться! Сначала я на нее надел платье со шлейфом, но она поверх этого захотела натянуть свой тирольский костюмчик. Тогда я сказал, что если ей так хочется показаться господам в тирольском виде, то, пожалуйста, почему бы и нет, но сначала я сниму с нее бальное платье. Она послушалась, но когда на ней уже был тирольский костюм, опять захотела одеть свой женский туалет. Тогда я взял и раздел ее совсем. Вот я принес. Хоть покажем этим господам, как она хорошо одевается…
— Но это еще не все, — продолжал Чижек печально. — Тогда я решил, пусть господа хотя бы увидят, как она умеет ездить на велосипеде. Несу велосипед, а Юльча на него уселась, выехала за ворота, махнула на другую сторону и укатила.
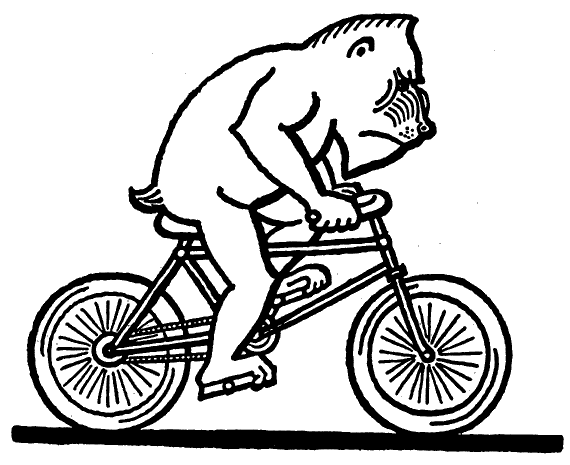
— Удрала и все, — добавил он подавленно, — и они нам теперь ни за что не поверят, что у нас вообще есть такая тварь.
Конечно они нам не поверили. Тщетно Чижек показывал Юльчино бальное платье, тирольский костюмчик и бутылку, из которой она пьет.
Младший держал себя с жутким нахальством.
— Под это мы вам никакого задатка не дадим! — разорялся он. — Верблюд у вас где-то в Пльзне, кенгуру в заповеднике, а теперь еще в довершение всего вдруг укатывает на велосипеде собакоголовый павиан! И как раз тогда, когда вы должны его нам показать… Весьма странное стечение обстоятельств, сударь!
А старший что-то все время бубнил насчет мошенничества и под конец иронически воскликнул:
— Господа даже показывают бутылку, из которой пьет павиан… Но ведь это самая обыкновенная бутылка из-под пива!
Они ушли, в резких выражениях высказываясь по поводу несолидности нашей фирмы. В воротах тот, что помоложе, обернулся и, остановив совершенно незнакомого человека, сказал, показывая на меня:
— У этого господина укатил на велосипеде собакоголовый павиан.
Юльчу я напрасно прождал до поздней ночи. Утром я услышал из сарая голос Чижка:
— Вернулась все-таки! Куда ты девала велосипед? Нет, ты мне только скажи, куда ты девала велосипед?
Юльча не признавалась.
IV
Сидя на лавочке перед домом, я проводил с Чижком деловое совещание. Мой помощник представлял отчет за неделю, баланс разных несчастных случаев, которые вместо лаврового венка венчали деятельность нашей фирмы.
— Когда в понедельник сбежал тот злой бульдог, — вспоминал Чижек, — я сразу подумал: ничего себе, здорово неделя начинается!
— Из-за него, Чижек, у нас были большие неприятности.
— Ясное дело, пан шеф. Я, когда пошел его ловить, уже тогда знал, что что-нибудь случится. Я же не мог знать, что приведу чужую собаку. Ведь у того бульдога голова была точь-в-точь, как у нашего. И злой был ужасно, когда я его тащил от лавки, где он поджидал свою хозяйку. А в газетах даже опровержение дали, что мы крадем собак. Он мне, правда, говорил, — пан комиссар в участке, — что это не в счет, что за такую ошибку все равно полагается по носу, но только я бы хотел видеть, как он отличит бульдога от бульдога, если не отличил правого от виноватого.
Чижек весьма практично вытер рукавом слезу и нос одновременно.
— Я всегда говорю, пан шеф, если в понедельник удерет хоть одна собака, то потом всю неделю будут пропадать одна за другой. Как тогда, сразу после этого, во вторник, лохматый пинчер того инженера… Помните, он его к нам привел, чтобы за десятку отучить кусаться. Я ему сразу сказал, что он даже за двадцатку не отучится людей цапать, лучше бы его оставил дома. Но ведь вы, пан шеф, такой добряк и чего только не сделаете, чтобы фирма имела рекламу! А пинчер тут же во вторник смылся. Я думал, пес пошел домой, и позвонил пану инженеру по телефону, что его Боек уже топает к себе. Сегодня суббота, а собака еще не вернулась. Мы еще с ним хлопот не оберемся, пан шеф, я с этим не хочу ничего иметь; утром звонил пан инженер, что, мол, думает, что мы его собаку продали, как сыновья Иакова продали Иосифа. В среду пришлось закопать половину ангорской кошки, которую сожрали виверры. Я же вам говорил, давайте посадим этих виверр в железные клетки, не то они прогрызут ящик и доберутся до ангорской кошки. Что они хотят мяса, а не только салатных листьев. Ведь у них кровожадность на глазах написана. Когда я совал им в ящик салат, они сделали себе такое логово и зыркали на меня оттуда, аж страх брал. А ведь такие махонькие зверюшки. Так бы и съел их в один присест пяток…
— Вы их съели?
— Только трех, пан шеф, тех, которых я пристукнул прямо на кошке. Остальные четыре удрали. Мы их с кучером сготовили с лучком. Мясо у них беленькое, только немножко отдавало дичиной — оттого, что они так дико набросились на кошку. В четверг мы удачно продали парочку декоративных фазанов. У самца не хватало немного перышек в хвосте, которые у него выдрала такса. Я бы мог вырвать несколько перьев из хвоста у павлина и пришить их фазану, да вспомнил про вас, пан шеф — что-то вы скажете, когда в субботу вернетесь домой и увидите павлина такого изукрашенного. И потом, я думаю, это была бы просто несолидная сделка. В пятницу мы продали одну русскую борзую, а одна сбежала. Пан бухгалтер сказал, что в таком разе это аннулируется.
Итак, вот каким был баланс за неделю моего отсутствия. Я уезжал в Дрезден, намереваясь купить что-нибудь стоящее из тамошнего зоопарка, который ликвидировали. За восемьсот марок мне там предложили старого, хромого, облезшего льва. Даже дай я его обить новой шкурой, хромым он бы остался все равно. Правда, у него было славное прошлое: десять лет назад он растерзал в одном цирке свою укротительницу. Но на что он годен теперь? Кто его нынче купит? И все же кое-что я в Дрездене купил. Фараонову мышь! Это зверек много меньше льва. Мышь поместилась под пальто, чтобы на границе мне не пришлось платить пошлину. Кроме того, это имело еще и то преимущество, что с ней мне дали в поезде отдельное купе. Фараонова мышь, видите ли, очень несчастное животное. Брэм включил ее в число хорьковых хищников, а те отнюдь не издают благоуханного аромата. Что же ей, бедняжке, прикажете делать?
— Послушайте, Чижек, — обратился я к своему верному слуге, — будьте добры, объясните мне, пожалуйста, почему это Юльча, когда я показывал ей фараонову мышь, сначала что-то пробурчала, а через минуту появилась с золотым пенсне на носу? Правда, вы говорили, что за время моего отсутствия Юльча ничего не натворила, но все же опасаюсь, что это пенсне означает что-то недоброе.
— Только не извольте пугаться, — ответил Чижек. — Пенсне не принадлежит никому из персонала. Это у нас была баронесса Добрженская, приезжала сделать заказ на шесть охотничьих собак. А нас ей рекомендовала княгиня Коллоредо-Мансфельд. Но когда баронесса приехала, сразу прибежала Юльча, прыгнула ей на спину и сняла у нее с носа пенсне. А когда мы привели баронессу в чувство, она уехала и заказ взяла обратно. Странная баба, брезговала после обезьяны надеть пенсне на нос! А по мне, так ничего страшного не произошло.
Чижек снова получил подзатыльник.
V
Бывали дни, когда Чижек впадал в задумчивость. Такое углубление в себя обычно, как правило, предвещало большие события. Если к тому же у него пробуждалась жажда знаний, то это неминуемо предвещало несчастье.
Однажды, когда я возвращался домой, он стоял у ворот и, пребывая в глубокой задумчивости, спросил меня, какая-такая, собственно, есть на водокачке машина, чтобы закачивать воду на такую высоту, как стоит наш дом. Я объяснил ему физический закон сообщающихся сосудов.
— Ладно, — сказал Чижек, — это я уже понял, это большой напор. А вот нельзя ли чего-нибудь придумать, чтобы остановить воду?
— Как так? — спросил я.
— Да так, пан шеф. Я, понимаете, думаю, не вредно изобрести что-нибудь такое, чтобы автоматически закрывать водопровод… если случится такое несчастье, что кто-нибудь открутит кран и воду нельзя остановить. А то очень неприятно, если вода затопит весь дом.
Я потребовал, чтобы он немедленно сказал, почему его интересуют такие странные вещи.
— Не думайте, пан шеф, — продолжал Чижек меланхолически, — что мне это пришло в голову просто так, с бухты-барахты. Что это было бы очень практичное изобретение, — это я подумал, когда увидел, как Юльча крутит водопроводный кран в коридоре на втором этаже. Я, конечно, знал, что силенка у нее есть, но что она его открутит так быстро, этого я никак не ожидал. Я считал, ей придется повозиться дольше, а на самом деле не успел я сходить за кучером, чтобы он тоже пошел посмотреть, как Юльча уже открутила кран и уселась на крыше, на мостике возле трубы. Вы бы, пан шеф, в жизни не сказали, что водопровод нельзя закрыть! А как вода течет по лестнице — прямо водопад. Внизу в кухне уже плавает скамеечка для ног. Лавка стала тяжелая и стол тоже. Но пока ничего, еще держатся. Хотя уже прошло больше часу. Кучер говорил, что наверно провалится потолок. Так что мы перебрались в безопасное место.
Чижек печально показал на свой чемодан у забора.
Я установил, что Чижек все изображал в слишком мрачном свете. Потолки действительно промокли, но непосредственная опасность не угрожала. Потолок в кухне рухнул уже после ухода строительной комиссии, заверившей нас, что все в полном порядке. В моей комнате потолок вообще не обвалился; правда, его пришлось подпереть несколькими деревянными столбами. В вечернем сумраке это выглядело особенно приветливо, как колонны в небольшом греческом храме.
Вот только мебель развалилась в тех местах, где ее отдельные части были скреплены клеем, что дало мне возможность замечательно коротать длинные зимние вечера: из расклеившегося письменного стола, комода и платяного шкафа я составлял совершенно новую обстановку.
Однако, признаюсь, я все же с некоторой опаской следил, не появится ли снова на лице у Чижка меланхолическое выражение.
Примерно через месяц после того, как он перестал заговаривать со мной об автоматической задвижке для водопровода на случай, если кто-нибудь открутит кран, я пошел взглянуть, привел ли Чижек в порядок одного королевского пуделя, которого нужно было наголо остричь, потому что у него оказалось неимоверное множество блох. Чижек это вечно откладывал, считая, что все блохи во время стрижки перескачут на него.
Тщетно я ему толковал, что блохи обязательно перемрут, если он пуделя сначала хорошенько выкупает. Чижек со всеми спорил, что они опять оживут. Он придумывал самые фантастические подробности. Я даже слышал, как он, божась, рассказывал кухарке, что знает одну щуку, на которой, когда ее вытащили из воды, были миллионы блох.
Наконец он все же решился остричь пуделя на улице, когда дул ужасно сильный ветер. Чижек объяснял это тем, что блохи — насекомые очень легкие и ветер их унесет.
Когда я подошел к месту, откуда раздавался голос Чижка: «Не проси, все равно не поможет!», — на его лице я вновь обнаружил уже знакомое мне выражение подозрительной задумчивости. Взгляд его был еще печальней, чем у обезображенного пуделя, который выглядел так, словно только что вылез из собственной кожи.
— Я думал, кончу, пока вы вернетесь, — сказал Чижек. — Ну и дела опять, пан шеф…
Чижек глубоко вздохнул.
— Мне вот как раз пришло в голову: не было бы лучше, если б у обезьяны было только две руки? Четыре руки — это для обезьяны слишком много, — проговорил он с меланхолией в голосе. — Я б, конечно, и разговаривать об этом не стал. Но только, если Юльчины задние руки подерутся из-за револьвера с передними, так ведь тут и до беды недалеко. Револьвер-то ваш, пан шеф, но она уже с ним бог знает где. Очень хороший был револьвер.
Я успокоил его, что револьвер был заряжен одними холостыми.
— Все это очень хорошо, пан шеф, но кроме револьвера, она еще вытащила у вас из тумбочки пригоршню боевых патронов и тоже сунула к себе в карман.
— Что вы говорите, Чижек!
— Теперь уж ничего не попишешь, пан шеф. Она и разоделась по этому случаю. Целых полдня была такой хорошей и надела тирольский костюмчик. А что-нибудь с час назад вдруг начала шнырять и носиться по дому. Заметил я в окне вашей комнаты ее зеленую шляпу с перышком, иду туда и вижу, как Юльча открывает тумбочку возле вашей кровати. Не успел я очухаться, а она уже сует в карман своих штанов патроны и идет на меня с револьвером. Что мне было делать? Подает мне руку, я, значит, руку пожал и похлопал ее по спине, чтобы мне ничего не сделала. Юльча выбралась в сад, перелезла через решетку на улицу и прыгнула на стену Кламовского парка. Там, наверно, и будет гулять и постреливать. Покамест еще ни разу не выстрелила. Но, по-моему, когда все холостые выпалит, обязательно зарядит боевыми. А уж тогда что-нибудь случится, — добавил он пророчески.
Между тем стемнело. Положение было печальное, а мне не приходило в голову ничего другого, кроме как то, что у павиана нет разрешения на право ношения оружия, а если он еще устроит охоту на сторожа в парке, то тем более не оберется неприятностей, потому что охотничьего билета у него нет тоже (оба документа лежали возле револьвера в тумбочке).
— Не извольте беспокоиться, пан шеф, — сказал Чижек, когда я поделился с ним своими опасениями, — разрешение и охотничий билет она сунула за щеку.
Весь вечер Чижек просидел у меня в комнате. Мы оба молчали. Уже поздно ночью мне показалось, что Чижек о чем-то усиленно размышляет. Прежде чем я успел спросить, о чем он думает, раздался его убежденный голос:
— Будь я на вашем месте, пан шеф, я бы лучше уехал из Праги.
Я отправил его спать исам лег тоже. Мне снилось, будто где-то стреляют. Но это был всего лишь Чижек, который будил меня стуком в дверь.
— Что такое, Чижек?
— Юльча уже дома. Залезла в хлев и сидит там вся перепуганная. Револьвер я нашел у нее в кармане штанов, когда ее раздевал. У нее еще сейчас от ужаса все волосы стоят торчком. На голове и по всему телу. Как еж выглядит. А в револьвере не хватает одного патрона.
Я пошел посмотреть на нее. У Юльчи и впрямь был такой вид, как описывал Чижек. Она сжалась в углу на соломе, и когда я подошел к ней, протянула мне руку и произнесла что-то невнятное, вроде как «бу».
— Наверно она хочет сказать «бах», — дал филологический разбор Чижек.
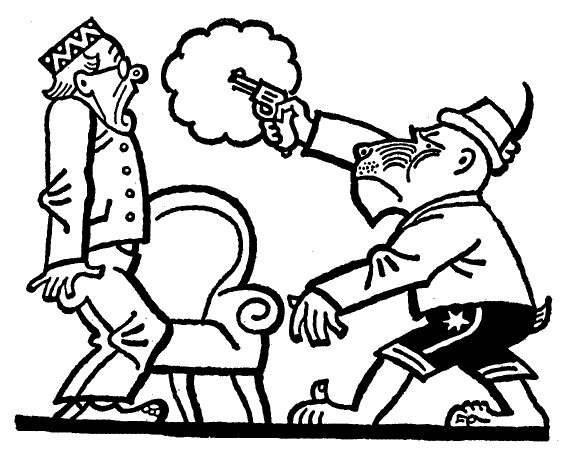
На следующий день в газетах появилось:
«Загадочное разбойное нападение с покушением на убийство в Коширжах».
Длинный отчет, над которым репортеры отдела происшествий потрудились с незаурядным усердием, снабдив его и иными названиями, вроде «Покушение на убийство с ограблением», был особо занимателен в подробностях. Речь шла о дряхлом владельце табачной лавчонки, проживающем на первом этаже дома № 249 в Коширжах, на улице «Под Цибулкой», который нес домой дневную выручку за табачные товары. Затопив в своем скромном жилище, он зажег свет и распахнул окно, чтобы проветрить, как вдруг, как раз в момент, когда старик хотел подложить в печку угля, какой-то человек вскочил на окно и выстрелил в него.
В этом месте сведения расходились, ибо добрых пятьдесят процентов ежедневных газет утверждало, что покушение на ветхого старичка было совершено в момент, когда он хотел вывернуть фитиль керосиновой лампы. Так или иначе, во всяком случае все журналисты были единодушны во мнении, что налет был продуман и что грабитель улучил время, когда остальные обитатели дома ушли в кино. «Однако выстрелив, преступник испугался крика своей жертвы, и, по-видимому, боясь, что шум, вызванный разбойным убийством — поскольку окно было открыто — могут услышать прохожие, отказался от своего намерения и поспешно скрылся. Пострадавший владелец табачной лавки в сопровождении дворника немедленно направился в полицейский участок, где надлежащим образом описал преступника. Налетчик был небритый, крепкого телосложения и небольшого роста. Одет в тирольский костюм, на голове зеленая шляпа с пером. Это описание, — выражали надежду газеты, — очевидно поможет в ближайшее время схватить этого морально-извращенного субъекта, коль скоро, конечно, преступник, сознавая, что в своем национальном костюме он слишком бросается в глаза, не раздобудет себе иную одежду. Пора уже, право, принять на городской периферии более действенные меры по охране безопасности жителей!»
Одна газета, отмечу мимоходом, воспользовавшись этим случаем, задавалась вопросом, почему до сих пор не вымощена дорога, ведущая от Коширжского трамвайного парка к домикам «Под Цибулкой». А также почему спилены деревья в кюветах по сторонам Иноницкого шоссе.
На другой день во вторых выпусках ежедневных газет, выходящих после обеда, появилось следующее сообщение:
Преступник, совершивший разбойное нападение в Коширжах, схвачен.
В Праге на Государственном вокзале полиции удалось задержать преступника, совершившего разбойное нападение в Коширжах. Арестованный, по имени и фамилии Ромуальд Егерле, происходит из Бользано в Тироле. Хоть он и упорно запирается, описание, сообщенное пострадавшим владельцем табачной лавки, полностью к нему подходит. При Егерле обнаружена небольшая сумма денег и цитра. Задержанный показывает, что приехал в Прагу сегодня утром проездом в Литомержице, где был принят на место в одном ночном кафе в качестве цитриста. Знаменательно, что он не может вспомнить, в каком ночном ресторане в Литомержицах должен получить работу. Поскольку револьвера при Егерле обнаружено не было, полиция полагает, что он его забросил во время бегства. Ромуальд Егерле препровожден в камеру предварительного заключения при уголовном суде в Праге. На очной ставке с пострадавшим владельцем табачной лавки последний сразу же опознал преступника.
В тот же день в вечерних газетах появилось:
Егерле, якобы совершивший разбойное нападение в Коширжах, выпущен на свободу.
Ромуальд Егерле, подозреваемый в совершении разбойного нападения в Коширжах, доказал свое алиби и выпущен на свободу. В то время, когда было совершено нападение на владельца табачной лавки, он в поезде между Линцем и Будейовицами играл кондукторам на цитре. Полиция вновь расследует дело.
С тех пор мы также представляли Юльчу клиентам как Ромуальда Егерле.
Печальный конец вокзальной миссии
Княжна Юлия была чрезвычайно добродетельна, каковое обстоятельство при нынешней испорченности нравов играет немаловажную роль. Восемнадцати лет, неиспорченная сердцем, она говорила о проституции и борьбе с нею так, словно перенесла на себе все мытарства падших женщин в домах терпимости. Ее мать, княгиня Больдери, собрала вокруг себя цвет наинравственнейших дам как дворянского происхождения, так и простого звания, и в присутствии непорочной Юлии очень часто обсуждалось, как предостеречь девушек, чтоб их не заманивали в дома позора. В первую очередь речь шла о девушках неопытных, которые даже не ведают, какие каверзы грозят им в большом городе, а также не ведают, какие каверзы грозят им со стороны общества, собравшегося вокруг княгини Больдери.
Дело в том, что супруга коммерции советника Вальдштейна внесла предложение уже на вокзале предупреждать деревенских девушек об опасности, которая подстерегает их в большом городе. Тем самым она оказала медвежью услугу старой баронессе Рихтер. Старушка однажды отправилась на вокзал к прибытию поезда из Табора и, остановив одну статную деревенскую дивчину, только что вышедшую из вагона, обратилась к ней:
— Куда ты идешь, есть у тебя место, деньги, есть у тебя в Праге какая-нибудь родня?
Дивчина с минутку смотрела на нее, как на сумасшедшую, а потом безапелляционно предложила баронессе оставить ее в покое:
— А ну, отстань, старая ведьма, а то как вдарю!
Продолжения добрейшая баронесса не услышала, ибо лишилась чувств и с тех пор заикается.
Итак, когда баронесса Рихтер, заикаясь, сообщила в салоне княгини Больдери, чем завершилась ее вылазка, мадам Запп, прославившаяся авторством книги для юных дев о вреде и греховности танцев, предложила, чтобы спасательная служба на вокзалах получила должную организацию, а дамы, которые намерены возложить на себя эту миссию, были отмечены особыми знаками отличия. А разве может быть знак прекрасней, нежели образ добродетельнейшей из дев, когда-либо рожденных в мире, — образ девы Марии с младенцем, зачатым столь чудесным образом?
Приглашен был патер Захариус из ордена кармелитов, который одобрил план и нарисовал ленту для повязки, а на ней крест, в центре которого — аки символ девственности — должен был красоваться образок богородицы. Аки символ веры избраны цвета папы римского: белый и желтый. (К слову сказать, в девственности римского папы никто не сомневался).
Было ясно, что девушек нужно спасать в духе католической веры, особо напирая при этом на преимущества набожности. Ибо даже самый закоренелый сводник отступится от девушки целомудренной, неустанно перебирающей четки, которая ни на что не обращает внимания и столь же неустанно молится, шепча про себя прекрасную молитву: «От духа прелюбодеяния соблюди нас, господи!» Если же в довершение всего дева эта еще стара, горбата и крива, то она тем паче не угодит в руки сводников, ибо вера в вечное блаженство поддерживает ее, а религиозные убеждения оберегают от мест позора и моральной испорченности.
Итак, когда вокзальная миссия была учреждена, первой этой высокой чести — спасать неискушенных девушек, приезжающих в Прагу, — была удостоена супруга коммерции советника Вальдштейна. Именно ей вручили первую повязку, которая сразу объясняла, почему эта дама так долго прохаживается по вокзалу и пристально всех разглядывает.
Для спасаемых были приготовлены две комнаты, обставленные, правда, скромно, но зато с тонким пониманием того, в чем нуждаются невинные души неискушенных деревенских девчат.
Куда бы такая девушка ни посмотрела, отовсюду устремлен был на нее изможденный лик распятого Спасителя. А взгляни она на потолок, то и там бы увидела нарисованный крест.
И среди этих крестов, напоминавших, что она обязана сохранить свою непорочность хотя бы во имя того, кто для нее таким вот образом пожертвовал собой, всюду стояли надписи, категорически предлагавшие: «Не прелюбы сотвори!» (Последнее было сделано наперекор княжне Юлии, которая, будучи преисполнена такта и благовоспитанности, предлагала в своей непорочности, чтобы там было написано: «Не извольте прелюбодействовать» или «В случае прелюбодеяния, обращайтесь в дирекцию учреждения»).
Добрейшая, невинная княжна Юлия! Значение этого слова было ей столь же чуждо, как пастуху с Апеннин значение слова «радиоактивность» или «софа».
Словом, мадам Вальдштейн прохаживалась по вокзалу и, дождавшись наконец прибытия поезда, со всем пылом набросилась на первую же девушку, которая с чемоданчиком в руках вылезла из вагона. Ее сердце было исполнено энтузиазма, и госпожа советница даже не заметила, как в толчее перрона у нее с рукава соскользнула повязка. Не теряя времени, она вырвала у девушки чемоданчик, но в этот момент как из-под земли вырос полицейский, арестовал ее и при большом стечении народа повел в участок.
Придя в замешательство, госпожа Вальдштейн сперва было принялась кричать, а затем начала доказывать и объяснять, что она не воровка, а «вокзальная миссия». Чем дальше шли они, тем больше она запутывалась и, наконец, уже в полубессознательном состоянии, принялась увещевать полицейского отречься от такой жизни и остерегаться всех и всяческих сводников.
В участке все разъяснилось, но тем не менее это отнюдь не помешало одной газете, резко выступавшей против буржуазии, поместить заметку под названием «Странная клептомания». И хотя на заметку было дано опровержение, конфуз все равно вышел изрядный. Супруга коммерции советника Вальдштейна вышла из вокзальной миссии, и теперь о ней идет молва, будто она вложила свою долю наследства после матери в один веселый дом в Усти-на-Лабе, что дает ей пятьдесят процентов годовых.
Однако неудача не остановила самоотверженных дам, но, наоборот, породила новый порыв самоотверженности во имя благого дела. Княгиня Больдери собственной персоной отправилась па вокзал и с большой помпой привела в приют девушку, проявившую живой интерес к деятельности сего высокополезного учреждения.
Девушка в сопровождении дам отведена в приют миссии, где до десяти часов вечера ее поучают о нравственной испорченности, которой чреват город. Непорочная княжна Юлия прощается затем с первой жертвой вокзальной миссии словами: «Ради бога, не прелюбодействуйте, прошу вас!» Девушке вручены ключи от комнаты и указано, что она может остаться здесь до тех пор, покуда не найдет работу.
Девица пробыла там неделю. Первые два дня она вела себя прилично, а потом начала водить в эту священную обитель мужчин.
Для патера Захариуса из ордена кармелитов это был убийственный удар! Он проведал об этом, когда ранним утром навестил девицу, чтобы посвятить свободную минуту подготовке ее к близящемуся празднику пасхи. Празднику, столь много значащему для душ, испытывающих пылкие религиозные чувства…
И самое ужасное, что этот мужлан ко всему еще вышвырнул достопочтенного отца вон, и тот принес потом сию печальную весть о развращенности нравов той, которая, не ведая покоя, боролась против безнравственности — благороднейшей княгине Больдери!
Разве кому-нибудь ведомо, на что способны самоотверженные сердца подобных дам! Спасать девушек на вокзал вышла графиня Сольвари, но поскольку эта почтенная дама была чрезвычайно близорука, то привела какую-то горбатую бабку. По дороге в приют графиня в карете без устали твердила ей:
— Благодарите бога, девочка, что я спасла вас от рук сводников!
Но к чему отчаиваться из-за столь невинного недоразумения! Добродетельная княжна Юлия попросила свою матушку княгиню, чтобы та позволила ей самой отправиться на вокзал встречать приезжающих девушек.
О, благородная, невинная княжна! Когда она поджидала поезд, к ней подошел элегантный молодой человек и с интересом стал расспрашивать о назначении нарукавной повязки и целях священной вокзальной миссии. Добрейшая княжна раскрыла ему свое девственное сердце. Тогда он, молодой и элегантный, представился ей князем — черт знает под какой фамилией, — и у них завязалась весьма милая беседа.
Бедная, непорочная, юная и добродетельная княжна Юлия! Он погубил ее, несчастную «вокзальную миссию», эту непорочнейшую лилию, бутон добродетели и целомудрия, продал ее, подлец, за сто крон в один веселый дом в Пльзне.
Рука не поднимается писать дальше, ибо печальный конец вокзальной миссии потрясает до глубины души, и ты пишешь и плачешь, как это делает приятель Гаек, когда пишет некролог о своем начальнике.
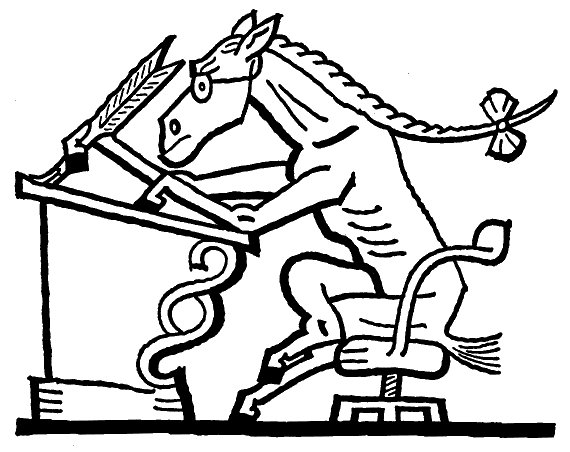
Надо мной стряслась беда: меня переехал поезд. Случилось это под Дрезденом, когда я как турист шатался в его окрестностях. Я был разделан так мило, что в больнице, пока основательно заштопали мое тело, я провалялся целых полтора года. Из поездки в Дрезден я собирался вернуться обратно в Прагу через четыре дня, а получилось так, что мое отсутствие затянулось на восемнадцать месяцев с лишним.
Все мы в руце божией, а я, кроме того, угодил еще и в руки к эскулапам.
Выглядел я ужасно. Что у меня осталось моего собственного, не знаю по сей день. Известно мне единственно то, что восемнадцать врачей с пятьюдесятью двумя ассистентами искусственно собирали меня из отдельных кусков. Но как замечательно! Чтобы прожить хотя бы калекой, я получил свидетельство, из чего меня составили, и это свидетельство было на четырнадцати страницах!
Своего у меня остался только кусок мозга, затем какая-то часть желудка, килограммов с пятнадцать собственного мяса, пол-литра собственной крови. Все остальное было чужое, кроме сердца, да и то еще сшитого из моего и говяжьего напополам. Медицинская наука торжествовала подлинный триумф!
Наружность моя вся сплошь искусственная, что было тоже должным образом отмечено в упомянутом выше свидетельстве. Это был прекрасный пример того, как медицинская наука, подобно ребятишкам, складывающим из камешков игрушечные замки, может сотворить чудо — из разных кусков соорудить нового человека.
Когда меня выписали из больницы, я сперва пошел на центральное кладбище, в отделение, где больницы хоронят разные части человеческих тел, — хотелось посмотреть на место погребения своих останков. Потом я отправился на вокзал и поехал в Прагу с сознанием, что поездка в Дрезден дала мне, пожалуй, больше, чем всем остальным туристам, когда-либо побывавшим в этом прекрасном городе.
В Дечине, в австрийской таможне, мы были подвергнуты таможенному досмотру. Уже после того, как таможенники вскрыли наш багаж и изрядно его перерыли, взгляд одного из них упал на меня. Моя необычная внешность человека, которого искусственно собрали по частям, по-видимому произвела на этого чиновника впечатление, что личность с таким взглядом должна по меньшей мере тайно переправлять через границу сахарин. Я выглядел как контрабандист, которого славно оттузили.
— Дайте ваш чемодан, — распорядился чиновник, — и пройдемте в канцелярию.
В канцелярии чемодан открыли, осмотрели и не нашли ничего подозрительного. Но тут среди прочих бумаг в чемодане обнаружили свидетельство, выданное больницей в Дрездене и подписанное восемнадцатью профессорами и пятьюдесятью двумя ассистентами.
— Придется подняться наверх к начальнику, — сказали мне, заглянув в свидетельство. — Так мы вас в Австрию не пустим.
Начальник всей таможни — весьма почтенный, усердно отправляющий свои обязанности господин. Просмотрев свидетельство, он сказал:
— Во-первых, как стоит в этом свидетельстве, затылочная часть вашего черепа была заменена серебряной пластинкой. Серебро это без пробы, а потому уплатите штраф в размере 12 крон — за 120 граммов серебра. Согласно тарифу VI и тарифу VIII b, § 946 таможенной инструкции, вы хотели сознательно провезти серебро, не имеющее пробы, за что уплатите штраф в тройном размере, то есть 3 умножить на 12 крон, итого 36 крон.
Далее, пошлина за 120 гр. серебра — по пунктам b, f и d) тарифа 1902 года, утвержденного после пересмотра международной конвенции, — по 10 геллеров с грамма, то есть со 120 граммов — двенадцать крон. Затем мы имеем лошадиную кость, которой заменено ваше левое бедро. Будем считать это тайным провозом костей. Тем самым, дружище, вы наносите удар из-за угла австрийской торговле костью.
С какой целью вы носите в себе лошадиную кость заграничного происхождения? Чтобы ходить? Что ж, так и занесем в протокол, что лошадиные кости используются вами в целях кустарного промысла. Признавайтесь, признавайтесь, почтеннейший!
Кустарный промысел — дело выгодное, но на сей раз это вам обойдется очень дорого, потому что за утайку провоза кости в Австрию налагается высокая пошлина. Уплатите 24 кроны.
— Ну-с, затем тут еще записано, что три ваших ребра были заменены платиновыми проволочками. Мой ты боже, вы провозите в Австрию платину? Знаете, что вас за это ожидает? Штраф в трехсоткратном размере! Если эти проволочки весят 20 граммов, это составит 1605 крон. С вашей стороны это просто преступное легкомыслие.
Но что я вижу?
Здесь записано, что часть ваших почек, а именно почка левая, заменена свиной.
Дорогой мой! Ввоз свиней в Австрию из-за границы воспрещен. Запрет сей распространяется и на отдельные части свиней, а потому, если вы желаете попасть в Чехию, ваша почка должна остаться в Германии.
Поскольку я не дал на это согласия, то уже десять лет пребываю в Саксонии и жду, когда аграрии, ибо сам я тоже аграрий, разрешат ввозить в Австрию свиней. Тогда я вернусь на родину.
Еврейский рассказ из Запустны в Галиции
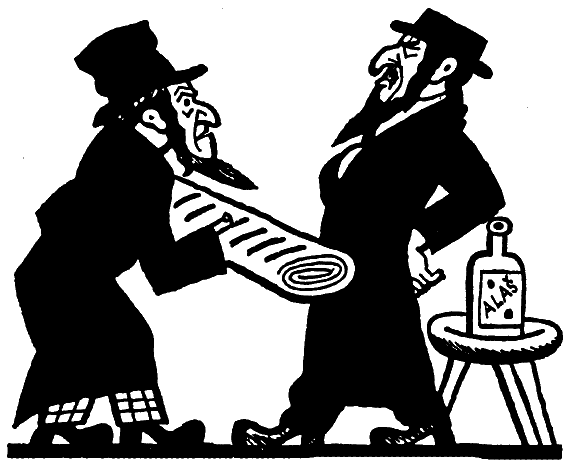
I
Зеви Ашер и Якоб Тхар держали в Запустне лавки и спаивали крестьян-гуцулов водкой. Оба были евреи, но ненавидели друг друга насмерть. Отчасти потому, что были конкуренты, а отчасти из религиозных убеждений. Ибо Зеви Ашер был талмудист, а Якоб Тхар — караим, библеец, который признавал единственно Ветхий Завет и, как все сектанты-караимы, считал за главу евреев единственно рабби из Чуфут-Кале, что на полуострове Крымском. Из года в год, — только бы чуточку поправились дела, — Якоб Тхар собирался отправиться к нему из Галиции и поцеловать его левый священный перст, перст асму, который святой рабби устремляет в день субботний к небу. И тогда восходит вечерняя звезда, и все караимы очищаются от грехов и могут снова обдирать своих единоверцев некараимов, что есть единственно греховно. Наоборот же, обобрать гоя — христианина или магометанина — сие будет причислено к богоугодным делам, и ангелом Хафниэлем, у которого шесть ног, доведено до сведения Иеговы.
В свою очередь Зеви Ашер, будучи талмудистом, о святом рабби из Чуфут-Кале, что на полуострове Крымском, отзывался крайне непочтительно. Пусть, дескать, тот его поцелует, ибо единственно талмуд есть источник подлинного вероучения. Единственно талмудистское учение Галаха имеет силу. Текст Мишны пусть каждый еврей носит в сердце своем и поступает, как повелевает Гемара, то есть комментарий к тексту, а именно Гемара палестинская. Быть талмудистом куда удобней. Ибо написал же в 218 году составитель Мишны рабби Иегуда Хакадош: «Первым идет Иегова, а потом уже ты. И если ты кого-либо ограбишь, лишив его всего достояния, то ему, равно как и тебе, все еще остается самое дорогое — всемогущий Иегова».
И Зеви Ашер, где мог, надувал Якоба Тхара, когда тому, бывало, срочно понадобится какой-нибудь товар, который у него весь вышел.
— Чтоб тебя таскало за бороду десять тысяч раз десять тысяч дьяволов, — говаривал Якоб Тхар, обращаясь к Зеви Ашеру. — В той водке, что я купил у тебя, было пятьдесят процентов воды, и гуцулы чуть не разнесли мою лавку!
(Якоб Тхар влил в эту водку еще пятьдесят процентов воды.)
— Будь ты проклят и оплеван десятью сонмами добрых духов, — отвечал Зеви Ашер. — Разве тебе неведомо, негодяй, что, кроме воды, тебе остается еще Иегова?
А Тхар при первом удобном случае надувает Ашера на зерне… Прибегает Ашер к нему:
— Пусть ангел Ехиэль, повелитель четвероногих, пошлет на тебя бешеную собаку, Якоб Тхар! Что за мусор ты мне продал, жалкий червь?
Тхар же, сокрушенно устремив очи к небу, отвечает:
— Был грех, Ашер, надул я верующего, был такой грех. И пошел я тогда в синагогу, и опутал себя молитвенными ремешками, и молился, чтобы был мне отпущен грех, и на семисвечнике узрел я ангела Иегуила, который прошептал мне своим благовонным дыханием: «Возвратись в дом свой, Якоб Тхар, к жене своей и домочадцам своим, ибо прощается тебе грех сей и десять грядущих. В глазах Иеговы Зеви Ашеру цена чуть-чуть поболе, чем самому последнему гою в Галиции».
И Якоб Тхар смиренно и благочестиво взирал на Ашера, как тот брызжет со злости слюной и кричит:
— Не написано ни в Мишне, ни в Гемаре, что ангелы сидят на семисвечнике. Ангелы под водительством Михаила восседают у проточных вод и поют, что на караимах лежит проклятие.
И Зеви Ашер уходил, неистово теребя себя за бороду и изрыгая проклятия.
Во всей еврейской общине Запустны по причине этих религиозных разногласий между двумя самыми богатыми ее членами царили хаос и неразбериха.
Бедные евреи, получавшие вспомоществование, в зависимости от размеров пособия склонялись то на сторону талмуда, то на сторону писания.
А тут еще раввин объявил себя сионистом и днем и ночью бредил еврейским царством в Палестине.
— Послушай, — увещевали его Тхар и Ашер, — кому бы мы стали продавать в Иерусалиме водку?
Но раввин, отмахиваясь, вел разговоры о серьезных задачах еврейского царства в Палестине и восстановлении иерусалимского храма.
Сторож из местечковой синагоги, которого звали Натан Беньямин, обнаружил в библиотеке у раввина книгу о кабале, таинственной науке еврейской. В свободное время, когда он караулил синагогу, Натан Беньямин углубился в изучение этой книги, пока в один прекрасный день его не осенило, что быть синагогальным сторожем — не бог весть какое прибыльное занятие. И тогда он объявил себя Мессией, что совершил публично, произнеся перед синагогой имя Иеговы так, как оно пишется. А ведь такое дозволено лишь священнику, отправляющему службу в синагоге в День всепрощения! Натан Беньямин был начитанный. Знал талмуд и книги законов в шести последовательностях, каковы суть: Сифра, Сифри, Мехильта, Тосефта, Ресикта, Тора, Коганим. Теперь же, вдобавок к этому, он еще познал таинства кабалы со всеми пиротехническими подробностями, как то: налить в спирт нашатырю и зажечь, и читать при этом молитву отверженных задом наперед.
Объявив себя Мессией, Натан Беньямин лишился места, потому что был немедленно уволен со службы в синагоге. Сопровождаемый насмешками, он ушел к бедному еврею, сапожнику Самуилу, где предавался размышлениям о кабале и с утра до вечера пил водку.
Через две недели после этого, в субботу, в местечковой синагоге появился никому дотоле неизвестный бедный еврейчик, который посреди молитвы упал в обморок. Когда его привели в чувство, еврейчик выкрикнул: «Натан Беньямин, уроженец Запустны, — истинный мессия, сын Давидов. Он освободит Израиль!»
Будучи подвергнут допросу, неизвестный показал: «Я пришел издалека, из России, где веду торговлю лошадьми. В пути со мной беседовал ангел Усриэль. „Иди в Запустну, — повелел мне он, — благословено место сие в Израиле“».
И щедро одаренный пророк ушел в родной Тарнов, даже не попрощавшись со своим дядей, сапожником Самуилом, у которого он побывал накануне, по дороге из тюрьмы, где отсидел два года за мошенничество.
А раввин пробдел всю ночь в молитвах и страстно молил Иегову, чтобы он хоть на минутку послал к нему ангела Рафаила, который объяснил бы, в самом ли деле бывший синагогальный сторож подлинный мессия. Уже светало, а Рафаил все не шел. Когда совсем рассвело, раввин пошел спать, потому что дневного света ангелы не переносят.
На другой день раввин повстречал Натана Беньямина. И поклонился ему. Если тот и впрямь мессия, то это зачтется раввину в заслугу, а если нет, то повредить себе он тоже не может.
Взоры всех евреев в Запустне обратились к Натану Беньямину. Утихли религиозные споры, даже Зеви Ашер и Якоб Тхар перестали ссориться. Возьмет мессия сторону талмуда или караимов?
Но мессия изрек загадочную фразу: «Уверуйте в голос совести и закройте глаза, и заткните уши, и приидет спасение…»
II
Мессии объявлялись у евреев периодически. Особенно в начале нового времени в разных местах появилось несколько мессий одновременно, и все сумели завоевать признание. Объяснить это можно той таинственностью, которой окутаны некоторые божественные книги об избавлении Израиля. Большинство мессий кончало жизнь на виселице.
О вере евреев в таинственные пришествия рассказывает трогательная история одной еврейки из некоего города в Швабии. Молодая еврейка, дочь благочестивого еврея и богобоязненной матери, водила знакомство со студентом-христианином, которое не осталось без последствий. Когда скрывать это от родителей уже не было возможности, однажды вечером, когда вся семья сидела за ужином — трах! — окно вдребезги и снаружи слышится голос: «Будь благословен, Иосл, ибо дочь твоя породит мессию!»
Смотрят родители на дочь и видят: дева-то и в самом деле на сносях! Весть об этом быстро разнеслась по краю. Из дальних мест посылали евреи дары матери спасителя. Еврей богател, потирал руки, и при всей своей набожности сожалел, что у него всего одна дочь. Наконец наступил долгожданный день и дочь его… вместо сына разрешилась дщерью. Несчастный студент, разбивая окно и вещая пророческим голосом, не учел этого обстоятельства и возможности. Между тем иная еврейская девица провозгласила себя матерью мессии и потребовала возвращения даров, полученных лжематерыо. Поднялись споры, разрешенные, наконец, городскими ратманами: все евреи по их приказу были изгнаны из города. Случилось сие в Нейбурге в 1669 году.
Из этого явствует, что выдавать себя за мессию не всегда бывало доходной профессией. В средние века в Германии сожгли на костре пятнадцать еврейских мессий, обвиненных в кражах и колдовстве. Самый прославленный из еврейских мессий нового времени Саббатай Цви в конце семнадцатого века даже попытался свергнуть с трона самого султана и провозгласить себя повелителем Востока. Подход к делу сугубо практический! Саббатай Цви привел в волнение евреев от Царьграда до Буды. Его четвертовали. Перед этим экспериментом султан ему сказал: «Не принимай этого близко к сердцу. Если ты на самом деле взаправдашний мессия, то уж как-нибудь присобачишь руки-ноги обратно к телу».
Что касается Натана Беньямина, то неприятности такого рода, как четвертование, сожжение, повешение и изгнание, в его случае отпадали, а посему он мог совершенно спокойно утверждать о себе все, что хотел. К славе его вдобавок присовокуплялись воспоминания единоверцев о юных годах мессии. Какой это был необыкновенный ребенок! В то время, как другие еврейские дети валялись в грязи, он летом ежедневно купался в ручье, стекающем с гор. Когда же мессия купался в последний раз — об этом никто не допытывался, а он сам, как человек хорошо воспитанный, скромно помалкивал.
Пока что, появляясь на людях, Натан Беньямин держался с достоинством, был тих и молчалив, ходил с аккуратно заплетенными прядями пейсов у лба, в новом черном лапсердаке. Никто не видел, чтобы он, подобно другим, грыз на ходу луковицу. Лишь ремешки накручивал Натан на пальцы, бормоча молитву за молитвой, а затем его высокая осанистая фигура скрывалась в домике сапожника Самуила.
Сапожник Самуил перестал тачать сапоги и в качестве секретаря мессии, подчас прикладываясь к пузатой бутылке аляша, сладкой водки, сортировал дары, подносимые Натану Беньямину.
А мессия войдет в горницу, оценивающим взглядом окинет дары, пересчитает деньги, положит их в карман и начинает принимать просителей. Говорит он с ними свысока:
— Что тебе угодно, Зеви Ашер?
Зеви Ашер с поклоном кладет на стол два метра сукна и, откашлявшись, просит:
— Будь так добр, Натан Беньямин, есть у меня недруг, который всюду меня поносит. Помолись, чтоб он ослеп на оба глаза.
Натан Беньямин важно вопрошает:
— Ведомо ли тебе, Зеви Ашер, что стоит в книге Тосефта?
— Неведомо, Натан Беньямин.
— Возвратись домой, сын мой, и да хранит тебя Иегова.
Торгуется Зеви Ашер. Предлагает гульден, два, три, чтобы узнать, что стоит в книге Тосефта. Может молитва, которую прочтешь со всей набожностью, и тогда твой недруг ослепнет? Беньямин же, удовлетворившись тремя гульденами, задает новый вопрос:
— Ведомо ли тебе, что стоит в книге Коганим?
— Неведомо, Беньямин.
— Теперь уже в самом деле ступай домой, Зеви Ашер, и предоставь действовать естеству.
Только уйдет Зеви Ашер, прибегает Якоб Тхар. Кладет гуся, кланяется, садится и начинает:
— Натан Беньямин, ей-богу, я бедный человек, не могу дать больше. Есть у меня недруг, который меня обворовывает и губит. Закинь словечко Иегове, пусть покарает мерзавца сообразно подлости его. Пусть свалится несчастье на его голову, пусть он оглохнет, пусть сгорит его дом и угорят его дети. Сам видишь, сущий пустяк прошу! Для себя ничего от бога не хочу, а тебе дам гульден, дам два, больше не могу, я бедный человек. Только помолись всевышнему, пусть освободит землю от негодяя.
— Ведомо ли тебе, что стоит в книге Тосефта?
— Неведомо.
— Тогда иди домой, Тхар!
— Дам три гульдена, Натан Беньямин, прочти молитвочку.
— Хорошо, Тхар. Но известно ли тебе, что написано в книге Коганим, безумец?
— Неизвестно.
— Теперь уже в самом деле ступай домой, Якоб Тхар, и предоставь действовать естеству.
И Якоб Тхар уходит.
После его ухода сапожник Самуил обращается к Натану Беньямину:
— Дела идут, Натан!
— Слава Иегове! Подай сюда аляш, Самуил.
И оба достопочтенных мужа пьют аляш, закусывают луком, смеются и величают друг друга «сын Давидов».
III
Зеви Ашер ждал, действительно ли ослепнет Якоб Тхар, а Якоб Тхар не мог дождаться, когда оглохнет Зеви Ашер, когда сгорит его дом и угорят дети. Дело было не в распрях между талмудистами и караимами. Дело шло о земле крестьянина Горазды из деревни Рузна. Оба держали Горазду в своих руках, оба ссужали его деньгами. И вдруг Зеви Ашер, нарушив обоюдное соглашение, опаивает Горазду и за смехотворно малую сумму покупает у него землю. Что с этого имел Якоб Тхар? Ровным счетом ничего. Рассвирепел Тхар и разыскал Горазду:
— Слыхал я, сударь, будто вы позволили жулику Ашеру обвести себя вокруг пальца. Прости меня, господи, но это сущая пиявка, пьет он кровь христианского народа, сударь! Он вас напоил, не правда ли?
— Надрался я до чертиков, жид.
— Ваше счастье. Поедем в город, в суд. Купчая не имеет силы, потому что вы были не в себе.
Горазда на радостях напился у Тхара пьяным, а потом ходил по Запустне и шумел, что они-де с паном Тхаром найдут на мошенника Ашера управу. С этого и пошла новая вражда. И вот теперь соперники ждут взаимной погибели, но, встречаясь, держатся весьма дружелюбно.
— Сдается мне, Тхар, будто ты стал хуже видеть.
— Да что ты, Ашер, что ты! Вижу я не хуже орла. Зато мне сдается, что уж больно сильно приходится с тобой драть глотку. Никак ты туговат на ухо стал?
— Иегова свидетель, слышу я лучше, чем в молодости, Тхар.
И оба, расстроенные, идут своей дорогой. Как-то странно молится этот мессия! Ждут враги еще две недели. Может к тому времени десять сонмов добрых духов донесут молитву до Иеговы.
Нетерпеливый Якоб Тхар первым отправился к Беньямину:
— Натан Беньямин, — заговорил он с упреком в голосе, — несу тебе два гульдена, помолись еще раз Иегове за Ашерову погибель.
Натан Беньямин объяснил Тхару, что помолится со скоростью «абу», то есть так, чтобы ангел Таршиш без промедления донес молитву до слуха господа. Если бы он, мессия, воспользовался иной скоростью, то посредником был бы ангел Хасмаль. Он передал бы молитву добрым духам седьмого чина (офанимам), те — серафимам, а уж эти — самому Элохиму, что есть еще одно имя отца небесного. Для молитвы со скоростью «абу» нужна свеча. «Дай еще гульден, Тхар, на свечку». Тхар дает пол. Больше не может, он бедный. В лучшем случае он накинет еще семьдесят пять крейцеров. «Дай девяносто!» Тхар не может; Хасмалю придется довольствоваться свечкой поменьше, ибо он знает, что торговля идет из рук вон плохо. Восемьдесят он еще даст. Вот они, и дело с концом.
После ухода Тхара Беньямин и Самуил принялись за бутылку аляша и пили эту сладкую водку сверх всякой меры. В последнее время они вообще пьянствовали беспробудно. Сегодня они напились уже средь бела дня, и пили дальше, и несли разную чушь. Наступил вечер. И тут их глаза, налившиеся спиртом, увидели на разных предметах духов добрых и злых. Со шкапа им корчил рожи ангел Эрельсин, а у дверей примостился Буэ-Элохим. Беньямину привиделось, будто Буэ-Элохим волочит за собой Лилиту, жену Адама, с которой, как учат раввины, Адам прижил множество дьяволов, убивавших младенцев. Потом Натану Беньямину почудилось, что к нему обращается Зефауйя, посланец Иеговы, посол Иеговы, якобы приказавшего Моисею изничтожить неверующих земли Ханаанской и не давать спуску женам и детям филистимлян. И будто бы непримиримый и жестокий Иегова говорил ему устами своего посланца Зефауйи, который, как утверждают талмуд и кабала, повелевает всем птицам:
— Запали дом Зеви Ашера…
— Куда ты идешь, — спрашивает пьяный Самуил, — куда ты идешь, сын Давидов?
— Запалить дом Зеви Ашера, — отвечает Беньямин и заплетающимися ногами выходит из дверей.
Спотыкаясь, бредет Натан Беньямин по улицам Запустны между низкими деревянными домишками и внезапно слышит голос: «Не поджигай дом Зеви Ашера, подпали дома неверующих гоев и в блаженстве будешь пребывать пред лицом господа отныне и до века». Заплетающимися ногами выходит мессия из еврейского квартала, а навстречу ему ангел Заткиэль.
— Ангел Заткиэль, — кричит Натан, — с какого дома начинать?
— Чего орешь, жид? — спрашивает ангел Заткиэль, хватая Натана за воротник лапсердака. И ангел Заткиэль меняет свой облик, глядит строже, его небесная краса тает, словно снег весной, и вот уже Натана Беньямина держит за шиворот полицейский инспектор Забулецкий.
Натан отчаянно сопротивляется и призывает на помощь ангела Михаила. «Придуши гоя» — слышит он глас с небес. Он душит инспектора и поет при этом песню всепрощения. Потом прибегают двое стражников и валят Натана наземь. Но пьяный Натан слышит голос Иеговы, голос, призывающий перебить неверующих собак. Он бьет их ногами и что-то кричит по-древнееврейски, на губах у него выступает пена, он поет песнь ангела смерти. Наконец Натана Беньямина приволакивают в участок, избивают, связывают и бросают в камеру, где уже сидит связанный Якоб Тхар.
Сей добрый муж полчаса назад был застигнут Зеви Ашером при попытке подсунуть горящую бумагу ему на чердак. Горящей бумагой Тхар хотел подсобить Натану Беньямину, чтобы его молитва быстрее дошла до господа…
И тут, обуянные внезапной яростыо, они в припадке неукротимого безумия набрасываются друг на друга и кусаются и царапаются, доведенные до бешенства болью. Наконец вбегают стражники, вооруженные дубинками, и лупят их до тех пор, пока и тот, и другой не теряют сознание.
А утром их вместе отвезли в сумасшедший дом, где оба без конца твердят, что они мессии, выкрикивают в коридорах имя Иеговы так, как оно пишется, и призывают князей-ангелов Михаила, Зефауйю, Хафниэля, Азраила и Хасмаля с Таршишем освободить их и унести на своих крыльях в Запустну, где вечно пьяный еврей Самуил с надеждой ожидает возвращения мессии, припасши на этот случай бутылку аляша, сладкой водки.

Пан Флорентин был классный наставник, а Хохолка — гимназист-первоклассник. Пан Флорентин был классным наставником Хохолки и преподавателем латыни, тогда как Хохолка вел с латинским языком отчаянную борьбу: латынь была для него не только китайской грамотой, но и испанскими башмаками, орудием пытки, употреблявшимся во времена инквизиции к вящей славе божией. Но и пан Флорентин тоже смотрел с презрением на перепуганное лицо первоклассника Хохолки, дрожавшего все уроки латыни подряд. Таким образом он в прямом смысле этого слова продрожал первое и второе склонение, а когда дело дошло до третьего, его дрожь превратилась в форменную лихорадку. Стоило только Флорентину посмотреть на него, как Хохолка поднимал свои объятые страхом очи горе и просил разрешения выйти. Этак он просился из класса всякий раз, когда учитель спрашивал и наступал его черед быть вызванным. А когда начались письменные, Хохолку в ужасе бросало в дрожь при одной лишь мысли, как-то пронесет контрольную по-латыни…
Была первая письменная по-латыни. После молитвы, когда были розданы тетради и сделано внушение, что списывать нельзя, что коли обнаружатся одинаковые ошибки, то те, у кого это будет найдено, получат неудовлетворительный балл, Хохолка взял в руки перо и дрожащей рукой стал списывать с доски предложения, которые надлежало перевести на латинский. Лишь одна мысль преследовала его в эту минуту: как бы наделать других ошибок, чем будут у соседа. Ибо иначе — это неудовлетворительный балл, и тогда Хохолка погиб. Начерно выводя в тетради первое слово, он украдкой заглянул к своему соседу Батьке, известному тем, что тот тоже не хватал звезд с неба. Этот взгляд, брошенный по соседству, сразу же убедил Хохолку, что они погибли оба: Батька начал переводить точно так же, как он. Хохолка перепугался, и его увлажненный слезами взор соскользнул с печальной картины, изображающей развалины Трои, на спасительный ключ от уборной. И как во времена эллинской культуры гонимые преступники искали убежища в храмах, так и Хохолка с ключом в руке устремился в уборную, отказавшись от классической образованности, сверкавшей на классной доске в подобии фраз: «Стол ни высок, ни широк», «Пятка — часть тела, пехотинец — воин», «Мать — это не сестра», «В Риме было много домов», «В саду есть деревья» и тому подобных истин. Все это Хохолка отряхнул от своих ног и единственно думал о том, чтобы отсидеться до конца урока в уборной, в этом убежище, в этом храме травимых первоклассников. Чтобы девственную чистоту его письменной работы не осквернила ни единая ошибка — ни против правил грамматики, ни против духа латинского языка. А буде забывчивый классный наставник спросит, почему он ничего не перевел, Хохолка твердым голосом ответит: — Я весь урок сидел в уборной.
Ну, а если Флорентин не поверит, то тогда он приведет своего классного сюда, и тот увидит надпись: «Вацлав Хохолка, 1 „А“, 16/XI». Он начертал ее броскими письменами и продолжал сидеть в этой маленькой, запертой на задвижку кабинке, правда, не совсем спокойно, но уже с известной долей покорности судьбе.
Кто-то пробежал по коридору и, забарабанив в дверь, прокричал:
— Хохолка, давай поторапливайся!
— Не могу, — раздалось в ответ на предложение, переданное от имени классного наставника Флорентина.
И хотя уже четырнадцатый посол бежал обратно в класс, чтобы успеть дописать контрольную, тем не менее Хохолка с важным видом продолжал сидеть дальше, ибо отдавал себе отчет в том, что этим словом «не могу» он восстал против авторитета своего классного наставника. Война была объявлена! Через пять минут четырнадцатый посол во второй раз прошел на рысях к последнему прибежищу Хохолки и, колошматя в дверь, объявил:
— Он говорит, факт, поторапливайся!
— Не могу, — снова ответил Хохолка, но на этот раз уже с гордостью никак не меньшей, чем отвечал Леонид персидским послам в Фермопилах.
В мрачном коридоре гимназии, где гулко отдавался каждый шаг, снова воцарилась тишина. Хохолка считал секунды, минуты и уже мало-помалу приближался к шестистам, что означало примерно около десяти минут с момента, когда его в последний раз посетил гонец господина учителя Флорентина.
Затем раздались тяжелые шаги, и сильные удары в дверь нагнали панический страх на Хохолку.
— Хохолка, вылезайте уже, вы не успеете сделать контрольную!
То был глас классного наставника Флорентина, глас строгий и грозный, глас тирана, жаждущего невинной детской крови.
— Не могу, господин учитель, — прозвучал голос Хохолки, голос дрожащий и робкий.
— Приказываю вам вылезти!
Жестокая схватка разгорелась в душе Хохолки, но мятежный дух одержал верх.
— Не могу! — молвил он теперь уже твердым голосом.
— Итак, вы не хотите вылезти?
— Я не могу!
Пан Флорентин помчался к директору.
— Господин директор, один гимназист по фамилии Хохолка проводит время, отведенное для первой контрольной, в уборной, и отказывается ее покинуть.
Директор встал, взор его загорелся гневом от этакой безнравственности, и оба с серьезным, видом зашагали к убежищу Хохолки.
Первым постучал пан Флорентин:
— Хохолка, опомнитесь, тут господин директор, вылезайте из уборной!
— Послушайте, вылезайте, — подал голос директор, — не упорствуйте, вы об этом пожалеете. Где вы живете?
— Воинская улица, 5, господин директор.
— Мать у него прислуга, — заметил классный наставник.
— Вот видите, Хохолка, — принялся увещевать директор, — ваша мать — прислуга, а вы, вместо того, чтобы доставить своей бедной матери радость хорошей оценкой по латинской контрольной, сидите в уборной и не выходите. Совсем не жалеете свою матушку. Но какие могут быть разговоры, приказываю вам немедленно вылезти и вернуться к своим обязанностям!
— Не могу, еще не могу!
— Не делайте из нас дураков, будете записаны в классный журнал.
— Не могу.
— Вам будет снижен балл по поведению.
— Не могу.
— Будете исключены из гимназии!
— Не могу.
Воистину душа толпы — потемки! У пана учителя засверкали глаза, а господин директор взревел, как разъяренный олень. И оба, объединив усилия, обрушились на дверь уборной. Их натиск был грозен. Хохолка, учуяв стремление своих недругов проникнуть внутрь, перешел в оборону, изо всех сил упираясь в дверь. Однако усилия его были тщетны. Пан Флорентин с господином директором мощно навалились своими телесами на дверь крепости. Дверь поддалась, и они вломились внутрь.
Но крепость оказалась пустой. Чтобы живым не угодить в их руки и не писать контрольной, Хохолка, заслышав треск дверей, стремглав бросился в дыру уборной.
— Так для него даже лучше, — сказал учитель Флорентин. — А то бы он все равно наделал в контрольной массу грубых ошибок.
Но директор, адресуясь в яму, поглотившую бесстрашного защитника крепости, воскликнул:
— Хохолка, шесть часов карцера!
Как Цетличка участвовал в выборах
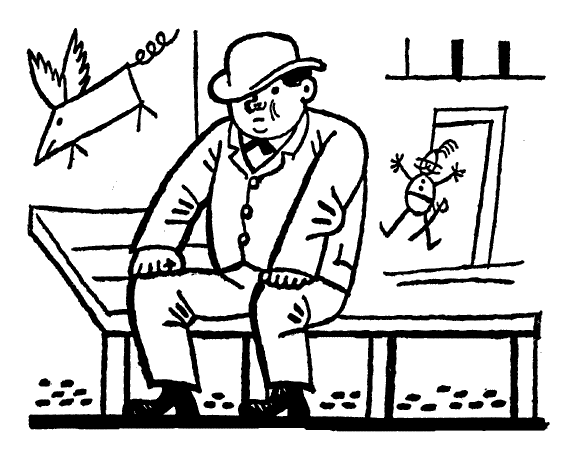
Проживать в Праге Цетличке было запрещено, а потому этак около одиннадцати утра он стоял на углу Перштына и Фердинандовой улицы и с интересом наблюдал, как какой-то неопытный деревенский парнишка, тащивший тележку, не совладал с ней и толкнул полицейского, следившего за порядком на этом оживленном перекрестке.
Хотя бы уже из одного чувства мести постовой записал в свою книжечку, что ручная тележка, отпихнувшая его на несколько шагов к середине мостовой, не имеет таблички с фамилией владельца, как это предписывают правила уличного движения.
Глядя на происходящее, Цетличка испытывал двоякую радость. Во-первых, как зритель, который после долгого хождения по улицам, наконец, увидел что-то, что заслуживает внимания; а во-вторых, как человек, которого радует, когда его недруга постигнет какая-нибудь неприятность.
А надо сказать, — и Цетличка убеждался в этом уже не раз, затевая скандалы в трактире «У венка» на Овоцном рынке, — что люди этого сорта были к нему расположены весьма мало. Днем все обходилось благополучно. Он ходил по Праге, и никто его не узнавал. Пока не наступали кошмарные ночи, ночи его погибели… Раз он хотел унести чье-то зимнее пальто из погребка «У звездочек», в другой — не расплатившись, покинуть «Калифорнию», затем драки «У венка»… За все это, вместе взятое, плюс нелегальное возвращение в Прагу он обычно схлопатывал месяц тюрьмы.
И все же он любил, матушку Прагу, потому что умел извлекать из нее выгоду.
Нигде не развешано столько юбок в витринах, нигде с такой легкостью не взломаешь железные шторы магазинов, нигде не воруется так вольготно, как в Праге.
— А уж ежели на улице случится самое что ни на есть никчемное, дурацкое происшествие, то нигде не соберется столько глухой и слепой публики, которая только и знает, что проталкиваться вперед. Лишь бы увидеть, что с карниза на шляпу какого-то почтенного господина и впрямь упало воробьиное яичко, желтое пятно от которого на тулье своего котелка этот господин теперь возмущенно показывает толпе.
И тогда давай, шуруй по карманам пальто, потому что мало кто держит кошельки в костюмах, — чтобы все время не расстегиваться, а кроме того не лишить себя удовольствия быть обворованным.
Цетличка штопором ввертывался в скопище людей, в толпу зевак, с наслаждением таращивших глаза на обезьяньи состязания. Это были деревянные заводные обезьяны в витринах игрушечных магазинов. Перед ними толпились большие, хотя зрелище предназначалось для маленьких, которые из-за этих великовозрастных недорослей не могли пробиться вперед, чтобы тоже что-нибудь увидеть.
Цетличка был тут как тут и среди ведущих сражение за места в трамвае.
И повсюду глубоко запускал руку в чужие карманы и уходил незамеченным.
Но при этом, как все воры, полководцы и дипломаты, он был страшно суеверным.
Если завладеть добычей не удавалось с первого захода, Цетличка не повторял атаки. Впрочем, так же поступает и мнимый царь зверей — лев.
Сегодня Цетличке не везло.
По случаю скопления людей вокруг раздавленной собаки он полез в карман к какому-то господину, громогласно осуждавшему быструю езду автомобилей. Цетличка уже наполовину нащупал кошелек, но господин подозрительно заерзал. Цетличка в мгновение ока вытащил руку, но через минуту опять запустил ее в карман разнервничавшегося господина. Однако тому как раз в этот момент вздумалось достать носовой платок, и он был несказанно удивлен, застав в собственном кармане чужую руку, которая, впрочем, сразу исчезла.
— Карманщик! — закричал он что было мочи.
— Иезус-Мария! — по принципу «держи вора» закричал Цетличка. — У меня украли кошелек! С гербовыми марками. Пойду заявлю городовому.
Никем не задерживаемый, Цетличка отошел за угол и плюнул: «Ничего себе начало! Лучше сегодня пальцем о палец не ударю…»
Вдобавок ему еще встретился воз соломы, а уж это куда как дурная примета.
И Цетличка стал фланировать по улицам. Просто так, совершенно случайно, заглянул в распивочную, где наткнулся на одного приятеля из тех, что всегда готовы на жертвы ради друга. Друг объявил, что у него всего капитала — три крейцера, только на стопку хлебной водки с ромом.
Подкрепившись на новые дела, Цетличка снова отправился странствовать по улицам. А потом, вдоволь налюбовавшись полицейским на перекрестке, двинулся по пивным попрошайничать.
Но поскольку шел всего двенадцатый час дня, посетителей еще было мало. Да и те, будучи трезвыми, ничего ему не дали. Обойдя таким образом с полдюжины трактиров, Цетличка, наконец, попал в один, где было очень шумно.
Сняв шляпу, Цетличка остановился у одного столика и хотел было объяснить, что он странствующий подмастерье… Но не успел раскрыть рта, как какой-то толстый господин достал из кармана шесть жетонов на пиво и, обращаясь к сидящим за соседним столиком, произнес:
— Запишите этого господина!
— Ваша фамилия? — спросил Цетличку другой господин, стоявший возле.
— Чержовский, — испуганно ответил рецидивист.
— Хорошо, пан Чержовский, идите в заднюю комнату. Получите по жетонам пиво.
Больше всего на свете Цетличке хотелось удрать. Но действительно получив на один жетон кружку пива, он успокоился и подсел к господам, которые толковали о чем-то, чего он не понимал, и при этом пили как жаждущие в пустыне.
— Раз я ходил в охотничьем костюме, второй раз — в сапогах и кепке, — рассказывал один сухощавый человек остальной шайке, — а комиссия, та даже внимания не обращает. Там наши люди, понимаешь? Пока что забрали только одного — хромого Мацнера. Идиот пьяный! Ходил голосовать два раза подряд, забыл, что его хромота бросается в глаза. А у Виктора перед избирательным участком фальшивые усы отвалились. Слава богу, кто-то из членов управы тут же ему их приклеил в уборной!
— Ну-с, пан Чержовский, — подошел к Цетличке один господин, — вот вам пальто, вот избирательное удостоверение и бюллетень, вот цилиндр. Ступайте уже! Вот вам еще три кроны — берите извозчика и сразу возвращайтесь, переоденетесь учителем. Пан Навек вам даст парик и очки. Тахлик, проводи господина на избирательный участок!
Пан Тахлик взял Цетличку под руку и усадил в экипаж. Затем, когда они подъехали к большому зданию, он повел его по какой-то лестнице и у входа в одно помещение сказал:
— Войдете туда и сдадите сперва удостоверение, а потом вот этот бюллетень… Помните: живете вы на Морани, ваша, фамилия. Калоус, вы служите на заводе Кольбена и вам тридцать пять лет.
Цетличка—Чержовский—Калоус еще заслышал, как рядом другой господин говорил какому-то человеку:
— Главное — не дрейфьте! У вас же очки, никто не узнает, что вы уже были два раза… Теперь ваша фамилия Выскочил.
Пан Тахлик втолкнул Цетличку в помещение избирательного участка и пошел вниз по лестнице.
Цетличка без труда выполнил порученное и быстро смешался с толпой, ибо усмотрел в этом стечении обстоятельств счастливейшую случайность своей жизни…
«И не подумаю возвращаться с пальто и цилиндром, — сказал он себе. — В чем тут дело, мне не очень ясно, но, слава богу, и за это спасибо. Хоть честно заработал!»
Вот как это вышло, что в газете «Народни листы» появилось следующее объявление:
«Господина, по ошибке присвоившего себе в избирательном бюро объединенных национальных партий пальто и цилиндр, просят возвратить их туда же, так как фамилия его известна».
Но Цетличка—Калоус—Чержовский не читает «Народни листы», ибо с тех пор не имел более возможности быть полезным объединенным национальным партиям.
За рецидивизм он опять угодил за решетку, где предается воспоминаниям о том удивительном дне — 19 ноября.
Быть может, однако, к нему подсадят кое-кого из отцов города, которым на вопрос, за что он сидит, Цетличка скажет кратко:
— За что? За Прагу!
И тогда уже будет зависеть от них, услышит ли Цетличка в ответ:
— Мы тоже, дружище!
Господин Густолес, обмениваясь однажды мнениями со своим соседом Кршичкой, сказал:
— Ваша партия — ну и партия! Не успеют какую сволочь снять с виселицы, как он моментально баллотируется по вашему списку!
Господин Кршичка в ответ на это заявил:
— Ничего, господин Густолес, мы еще с вами встретимся!
Наряду с глубокой политической проницательностью, господин Густолес обладал еще большим черным котом, который обычно сидел на пороге его мелочной лавки. Кот сей пользовался любовью всей округи, и население уважало его за жизнерадостность и бодрость духа, что, как известно, уже само по себе составляет полздоровья. Далее этот кот был почитаем за ласковый характер, и никогда в жизни никому даже не могло прийти в голову, что в ближайшем его окружении вдруг объявится недруг этого замечательного животного.
И все же таковой объявился в лице господина Кршички, который после известной нам политической ссоры с господином Густолесом сказал своему восьмилетнему сыну Иозефу:
— Пепик, увидишь черную гадину этого идиота Густолеса, наступи ему на хвост.
Какое дитя не выполнит с радостью столь возвышенное и конфиденциальное поручение?
Пепичек пошел, наступил коту на хвост, а сверх требуемого еще его и оплевал. У одной наблюдавшей за этим старушки сердце чуть не разорвалось от жалости…
А Пепичек удрал.
В первый момент кот не знал, что об этом думать. Но после все взвесил и пришел к выводу, что это было больно — то, что этот мальчишка с ним сделал. А когда он дул на него изо рта воду — это было еще и неприятно.
К вечеру кот уже думал, что это было и оскорбительно…
И кот решил, что впредь с мальчишкой нужно держать ухо востро.
Пепичек за мужественное поведение получил от отца крейцер. Кроме того, ему был обещан еще один, если он будет продолжать в том же духе. Ибо кот, поскольку он принадлежал его политическому противнику, в глазах господина Кршички олицетворял собой всю враждебную политическую партию.
Другими словами, Пепичек наступал на хвост не только коту, но всей противной политической партии, и плевал не только на кота, но на всех политических приверженцев той партии, одному из членов которой принадлежал этот черный кот.
Пепичек ринулся в политическую борьбу бодро-весело.
Кот сидит перед дверью и, кажется, спит. Однако думать так означает глубоко ошибаться. Кот притворяется. Никто не должен ставить ему этого в вину, ибо он не ходил в школу и не знает, что притворяться грешно…
Итак, кот в своей невинности притворяется, а Пепичек наступает ему на хвост и плюет на голову.
Но тут кот вскакивает и кусает Пепичка за ногу.
Войдя в раж, кот с фырканьем взбирается на Пепичка, царапает его когтями, жутко шипит, мяукает. Потом, еще разок кусанув Пепичка за ухо, с него слезает и очень серьезно, задрав хвост трубой, уходит от ревущего мальчугана, чтобы с довольным видом и благодушно урча усесться на пороге лавчонки своего хозяина.
Когда Пепичек, весь зареванный и в крови, пришел домой, господин Кршичка ликующе воскликнул: «Слава богу, наконец-то я тебя накрыл, Густолес!» — и отвел Пепичка в полицейский комиссариат. Полицейский врач осмотрел потерпевшего и составил о его состоянии протокол, а полицейский комиссар отдал приказ кота арестовать и препроводить на ветеринарный осмотр.
Посему двое полицейских отправились за котом и именем закона арестовали его. Но так как кот при этом царапался, фыркал и вообще хотел удрать, не оставалось ничего иного, как послать за специальной корзиной, в которой обыкновенно доставляли пьяниц. Кот был заперт в ящик после того, как совершил открытое насилие, впившись зубами в полицейский мундир, а также нанес конвою оскорбление. Какой же именно смысл заключался в его мяуканье и фырканье, неизвестно.
Итак, кота переправили в ветеринарный отдел сельскохозяйственной секции технических наук. Полицейские же подали о его поведении следующий рапорт:
«Когда мы за ним пришли, он царапался, фыркал и кусался. Поскольку он, значит, отчаянно сопротивлялся, пришлось вызвать корзину для пьяниц и бросить его в кузов. Хотел сорвать с нас револьверы…»
Соответствующий протокол был составлен, подписан и направлен в государственную прокуратуру.
Государственная прокуратура усмотрела в деяниях господина Густолеса недостаточный надзор за животными.
Во-первых, кот не содержался на цепи и был без намордника.
Во-вторых, дело было во время выборов, когда животное может легко заразиться бешенством.
Далее: между господином Кршичкой, отцом сына Иозефа, на которого совершил нападение кот, и господином Густолесом, владельцем черного кота, напавшего на сына господина Кршички, уже в течение длительного времени имело место политическое напряжение. Таким образом, государственная прокуратура считает доказанным, что кот господина Густолеса действовал умышленно, с целью нанести физическое увечье сыну политического противника своего хозяина, что вышеуказанному действительно удалось. Поскольку, согласно действующему австрийскому закону от 8 января 1801 года, котов следует считать лицами слабоумными, за которых всем своим имуществом и жизнью отвечают их владельцы, вся вина падает исключительно на господина Густолеса.
Тем временем в ветеринарном отделе сельскохозяйственной секции технических наук было подвергнуто исследованию душевное и физическое состояние кота, и материалы переданы в государственную прокуратуру.
Заключение гласило:
№ 2145/65
«Г-н Франтишек Густолес.
Исследованный широк в кости и хорошо упитан. Страдает, однако, воспалением надкостницы, так что его укус может быть опасен для жизни.
По этим причинам желательно, чтобы исследованный был уничтожен.
Государственная прокуратура направила этот акт к исполнению в полицейский комиссариат, где его тотчас приобщили к остальным документам по делу Густолеса.
Между тем кот был возвращен господину Густолесу. Каково же было удивление бедной его семьи, когда в пять утра за господином Густолесом пришли четверо полицейских и увели несчастного с собой! В полицейском участке строгий вахмистр не слишком приветливо обратился к задержанному:
— Вы — Франтишек Густолес?
— Так точно, ваша милость!
У одного молоденького полицейского на глазах выступили слезы.
— Дайте сюда дело Франтишка Густолеса и не плачьте мне тут!
Дело принесли.
— Густолес, выслушайте распоряжение наместника от 15 июня 1911 года за номером 75/289:
«По делу Франтишка Густолеса согласно ветеринарному заключению за № 2145/65 утверждается, чтобы упомянутый был безотлагательно уничтожен. Настоящее постановление является окончательным, и на основании § 5 закона о чуме рогатого и прочего скота от 12 февраля 1867 года обжалованию не подлежит.
— Видите, — сказал несчастному полицейский чин, — приговор не обжалуешь! Пишите завещание и не ревите. Все равно вам конец. Вот только из Вены подтвердят приговор и решат, каким способом вас уничтожить.
Хотелось бы мне знать, как господин Густолес выпутался из этой истории?!
О странном прощании старого сэра Арчибальда Торберна
со старым 1728-м годом
На рубеже графств Вестморленд и Даргем, там, где на невысоком холме пролег водораздел речки Эйден и ручья Микльтонского, на скверной дороге, ведущей к Эпльби, высился родовой замок Торбернов. Вообще говоря, уже слово «высился» есть большое преувеличение, а еще большую и к тому же заведомую ложь изрекал в округе всякий, кто произносил слово «замок». В действительности то были причудливые развалины, укрытые кронами старых дубов и сосен; пригодной для жилья осталась лишь башня. Но сэр Арчибальд Торберн вместе со своим слугой дерзко утверждал, что его замок все же высится!
И если в его присутствии кто-нибудь неосмотрительно решался заметить, что эта древняя развалина погребена под ветвями дубов, сэр Арчибальд вне себя от гнева восклицал, что в королевском суде в Лидсе при всем грозном трибунале докажет, что именно тут, под этими дубами, бард в тринадцатом веке сочинял балладу о короле Хорне.
По всему краю было известно, что из-за этого сэр Арчибальд обломал свою палку об голову управляющего королевскими имениями в Волсингене. Известно было также и то, что он утверждал, будто бы получил эту палку от короля Карла II, когда тот после реставрации в 1680 году направлялся на север усмирять мятежных шотландцев. С королем тогда выступило много всякого сброду из Пемброка, Кардинага, Дербингена и графства Чейстерского. Об этих людях пелось:
Там, где Пемброк и Кардинаг,
Там драка и разбой.
Горят дома и дети плачут,
И всюду стон и вой.
Он всем кричит: «Спасайся,
Спасайтесь все, кто может!
С нами орлы из Чейстера,
За ними карнаргонцы,
И хваты дербингенцы
Идут за нами тоже!»
Сам о себе, — полагая, что этим он напустит страху на тех, с кем общался, а равно и на крестьян в деревне под своей резиденцией, — сэр Арчибальд Торберн утверждал, будто бы происходит из Дербингена. Иногда он посылал своего слугу Филетта к сельскому старосте, требуя, дабы тот немедля явился к нему в замок. Слово «замок» внизу, в деревне, слуга Филетт произносил с великим почтением в голосе.
Староста любил ходить к старику, зная, что там его ждет немалая потеха. Торберн всякий раз угрожал, что велит его вздернуть на дубе, под которым Кромвель однажды писал грозное письмо королеве Елизавете. Затем, показывая старосте обломок своей палки, сэр Арчибальд восклицал:
— Понюхай, староста, чем пахнет эта палка; ее мне пожаловал Карл II. А ну, Филетт, вытяни его этой палкой разок по спине!
И Филетт с серьезным видом ударял старосту Гнаса по спине пресловутой палкой, которую некогда собственноручно вырезал своему господину из корневища можжевельника, что рос на противоположном склоне.
— Премного благодарны, ваша милость, — отвечал староста, — я знаю, что вам угодно. Вам нужны лепешки и сало.
— Филетт! — кричал сэр Арчибальд Торберн, извлекая из ножен старую шпагу с обломанным острием. — Проткнуть эту пуританскую собаку сею знаменитой шпагой, которой мои предки изгнали норманнов из Карнарвонского залива?
— Оставьте его, — торжественно ответствовал слуга Филетт, — оставьте его, ваша милость, ваша шпага вам еще понадобится для других, более важных дел.
Это была правда, поскольку на ней, вместо вертела, над огнем разбитого камина в одной из комнат башни они жарили диких лесных кроликов. Кстати сказать, там же эта шпага и лишилась когда-то своего острия.
— Ладно, раз ты просишь, пусть будет по-твоему, оставлю его в живых, — говорил сэр Арчибальд. — Но в наказание за свою дерзость, ты, Гнас, пуританская собака, ты должен доставить в замок целую свинью, а не только кусок сала. Иначе качаться тебе на суку. Самое лучшее, конечно, было бы, если бы я велел всех вас, деревенских, вздернуть! Чтобы вы помнили, что сэр Арчибальд Торберн происходит из Дербингена! — При словах «из Дербингена» голос старика обычно доходил до рыка.
Староста уходил, а сэр Арчибальд брал волынку, усаживался на большую дубовую лавку, служившую ему постелью, и говорил:
— Пой, Филетт!
Барин растягивал меха, и Филетт пел ужасным голосом:
Там, где Пемброк и Кардинаг,
Там драка и разбой.
Горят дома и дети плачут,
И всюду стон и вой.
Он всем кричит: «Спасайся,
Спасайтесь все, кто может!
С нами орлы из Чейстера,
За ними карнаргонцы,
И хваты дербингенцы идут за нами тоже!
За ними карнаргонцы,
И хваты дербингенцы идут за нами тоже!»
После они одевались и отправлялись объедать богатых дворян по соседству… эти бедняги, отроду не обидевшие даже мухи, а единственно по мере своих сил опустошавшие обильные запасы в погребах соседей.
В ту пору, после длительного перерыва, в старой доброй Англии опять славно зажили в дворянских поместьях. С 1660 года, когда Карл II восстановил королевство, физиономии англичан изменились. Пуританство исчезло из повседневности. Религиозная нетерпимость потеряла свою остроту, снова пошла веселая жизнь. Меланхолии как не бывало, и подданные короля не могли нахвалиться, что на дорогах стало спокойно.
Сэр Арчибальд Торберн с Филеттом лучше других могли оценить всю прелесть свершившихся перемен.
Погреба были опять полны, яств всюду в изобилии, а Торберна за его лживость любили во всех графствах в округе.
28 декабря 1728 года сэр Арчибальд Торберн пребывал в отличном расположении духа.
Он гостил в Консетте, в замке своего друга Бернарда, и, потягивая из большого кубка старое вино, слушал рассуждения гостей о том, как они отпразднуют проводы старого и встречу Нового года — праздник, которому ныне, тоже после длительного перерыва, вновь сопутствовали пирушки, полные буйного веселья.
Гости порешили, что наступление Нового 1729 года они отправятся праздновать к графу Альстон-Муру.
Настроение было столь веселым, что сэр Арчибальд Торберн напился.
В такие минуты он обычно начинал хвастаться вдвойне. Кто-то обозвал его бабой, после чего в неописуемом негодовании сэр Арчибальд вместе со слугой Филеттом покинул замок, предварительно вызвав всех присутствующих на дуэль.
Домой они ехали в полном молчании. Приехав, сэр Арчибальд приказал Филетту петь, но только один-единственный стих о том, что
…с нами орлы из Чейстера, за ними карнаргонцы
И хваты дербингенцы идут за нами тоже.
Когда Филетт допел, сэр Арчибальд проговорил:
— Нападем на них… нападем, когда они поедут к графу Альстон-Муру, который за всю свою жизнь никого не сразил!
Добрейший сэр Арчибальд тоже нет.
Утром он сказал Филетту:
— Это мы еще посмотрим, кто из нас баба. Принеси мой старый плащ!
Филетт принес плащ, и сэр Арчибальд приказал ему сделать из воротника две маски.
В ночь с 31 декабря 1728 года на 1 января, которым начинался Новый 1729 год, добрейший сэр Арчибальд Торберн вместе с Филеттом в снегу на опушке леса ждал карету, в которой его друг Бернард должен был проследовать из Консетта в замок Альстон-Мур.
Заслышав топот конских копыт, сэр Арчибальд соскочил с коня и осторожно зарядил пистолет холостым, чтобы, упаси бог, никого не поранить.
— Мы еще посмотрим, кто из нас баба, — сказал он Филетту, — я или они!
Он взобрался в седло, и оба выехали из засады.
Сэру Арчибальду Торберну никогда не везло. Никто ему не верил, что он способен прославиться какой-нибудь лихой проделкой. И вот теперь…
Бедный сэр Арчибальд и его слуга, закрыв лица масками, отважно напали на карету, в которой ехал… нет, не Бернард из Консетта, друг сэра Арчибальда, а королевский камерарий сэр Эдвард Уайт, переправлявший из Перита в Дарлингтон королевскую казну, чтобы спасти ее от шотландцев, вновь надолго затеявших смуту.
Вместе с ним в карете ехало четверо солдат, а за ними вдоль леса галопировал вооруженный эскорт.
Черт знает, где они раздобыли веревку, но все же они сумели ее раздобыть. Королевские солдаты без борьбы связали бедного сэра Арчибальда Торберна и его слугу Филетта и, торжествуя, повезли в Дарлингтон.
Потом, заключив в клетку для преступников, их с месяц возили по Англии, пока не доставили в королевский трибунал в Лондон.
И вот тут-то сэру Арчибальду впервые улыбнулось счастье.
Вместо колесования, его, а с ним вечно заплаканного Филетта и остальных каторжников, отправили на остров Мэн…
И тихими долгими ночами сэр Торберн говаривал Филетту:
— Пой, Филетт!
И Филетт пел:
Там, где Пемброк и Кардинаг,
Там драка и разбой.
Горят дома и дети плачут,
И всюду стон и вой.
Он всем кричит: «Спасайся!
Спасайтесь все, кто может!
С нами орлы из Чейстера, З
а ними карнаргонцы,
И хваты дербингенцы
Идут за нами тоже!»
А когда опять наступил Новый год, сэр Арчибальд Торберн, обращаясь к Филетту, торжественным гласом молвил:
— Сегодня исполняется ровно год, как мы совершили нападение на королевскую казну Его Величества!
Бедняга! Он уже вжился в роль самого знаменитого разбойника в Британии.
Филетт же залился горькими слезами, ибо вспомнил нежный вкус сала, которым славятся свиньи в Северной Англии.
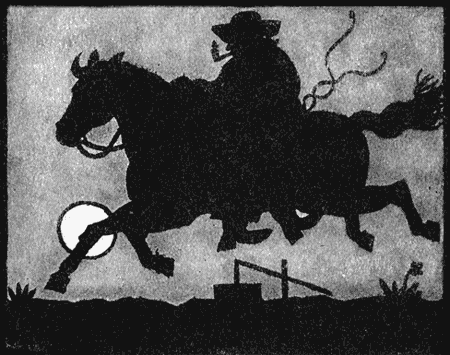
В архивных записях в Большой Каниже значится, что в 1580 году пришли какие-то люди с реки Муры, ударили по тамошнему гарнизону турецкому, — ибо Большая Канижа была пашалыком самого султана, — одолели его и перебили.
В записях стоит далее, что многие из людей тех не имели иного оружия, кроме палок с топориками, и что пленных они увели в свои края, где на славу угостили, показали женщинам и отпустили на свободу.
Вслед за тем возносит летописец к богу жалобу, что пленные те турецкие вернулись в город обратно, и не встретив сопротивления, завладели им и головы невинных городских старейшин отправили в Стольный Белград к визирю.
Мне вспомнились эти старинные записи из канижского архива, когда я сиживал вечерами в междумурских степях, на реке Муре, у больших костров. Костры вширь и вдаль освещали степную траву, а я смотрел на людей с Муры, расположившихся вокруг огня, и слушал их рассказы. Да, таковы хлопцы в Междумурье и по сей день! Голыми руками совершить чудеса мужества только для того, чтобы показать своим женщинам пленников…
Во всяком случае это подтверждает история Юро Копальи и заболянской Гедвики.
Село Заболяны славится красивыми девчатами и, выражаясь не совсем изысканно, самыми лучшими лошадьми. В Междумурье эти две вещи всегда фигурируют рядом. Ведь и в песнях, мелодии которых звучат так же тягуче, как ветер, завывающий в заросших травою степях, юноша из Междумурья непременно хочет иметь красивую девушку и красивого коня. А дальше в песне поется, что девушку он посадил бы на коня и поехал с ней по Междумурыо до самой до Дравы.
Там, за Дравой, парень бы коня продал и купил девушке бусы на шею и расшитую золотыми нитками безрукавку. А сделав это… тут поется что-то очень нехорошее. Сделав это, хлопец бы выкрал своего коня обратно, посадил на него свою девушку и возвратился в Междумурье.
Об этом последнем я вел разговор с одним старым межмурянином.
— Нет, какая же это кража, — заключил межмурянин, — конь-то был его! Ну разве можно у самого себя украсть коня? А что продал он его? Так это же в шутку. Не-не, нас, межмурян, никто не проведет!
Межмурян и в самом деле трудно провести. Всего один еврей-торговец обосновался в Блоте. Но и тот уже через полгода, окончательно разорившись, перебрался к венграм в Кермент, чтобы снова стать на ноги. Этот же торговец утверждает, что не видел девчат красивей блотских. Но это неправда.
Пусть себе каждый говорит, что хочет, а все равно самые красивые девчата заболянские! Спросите-ка любого конского барышника, как ему понравилось в Заболянах. Он вам восторженно опишет, каких замечательных там видел коней, а закончит свой рассказ словами: «А когда такого коня выведет деваха из Заболян, да еще на тебя глянет! — тут вдруг так тепло становится на сердце, что и торговаться забудешь».
Так сказал и сам Польгар, старый, умудренный опытом торговец лошадьми из Большого Вараждина. А уж ему-то следует верить, потому что Польгар исходил все села, сколько их есть на той полосе земли, что тянется вдоль Муры, Дравы и Савы до самой венгерской пушты. И нигде не упускал случая заглянуть девчатам в глаза, и всюду раздавал им яркие разноцветные косынки.
Подтвердит он и то, что говорят о заболянских девчатах, будто их расположение не купишь даже ниткой жемчуга; этим, кстати, и кончается та песня, начало которой мы уже слышали.
Дело, видите ли, в том, что когда наш молодец привез ту красавицу обратно в Междумурье и купил ей белые бусы и расшитую золотыми нитками безрукавку, сказала ему неверная возлюбленная, чтобы шел теперь куда глаза глядят, хоть в Полуденную землю к туркам. Послушался добрый малый, — иначе и быть не могло, — завербовался в солдаты и…
В земле чужой, земле турецкой
Горе он зарыл свое…
Нет больше места на земле, где любить было бы так же трудно, как в Междумурье.
Юро Копалья из Заболян вкусил этого сверх всякой меры, и когда ночью плыл на лодке по бурной реке Муре, в равнину, в степь, по правому берегу летел его отчаянный зов: «Гедвика!» — протяжный-протяжный, чтобы передавал тоску. Юро аккуратно делил его на слоги, чтобы подольше произносить это красивое и дорогое имя, и слог за слогом посылал в ночную тишину: «Гед-ви-к-а-а-а».
И звучало в том зове такое отчаяние, так он стлался по реке и лугам межмурянских степей, что слыхали его даже в часе пути отсюда, на перевозе у Малой Мухны. Перевозчик, заслышав невнятный крик, доносящийся в темноте с севера, непременно крестился и уверял, что опять разошлась Буланя. Селяне порассудительней, заходившие к перевозчику на стаканчик вина, приписывали эти звуки не водяной русалке Булане, а затеявшим между собой драку дрофам.
Как-то ночью случилась беда: потерялся Шолая, подпасок крестьянина Григорича. Тогда уж и те порассудительней начали верить, что Буланя снова вышла на охоту за людскими душами. А крестьянин Крумпотич, вернувшись однажды ночью от паромщика, уверял, будто говорил с Буланей прямо на перевозе, что подтвердил и сам паромщик Михайло. В тот раз Крумпотич выпил у него шесть бутылок вина и вышел на улицу. Немного погодя перевозчик услышал, как Крумпотич во дворе говорит:
— Нет, Буланя, не тяни меня в Муру, сжалься над старым грешником. Говоришь, проводишь меня в Заболяны? Проводи меня, Буланя, моя красавица, проводи старого пса. Ведь сколько я грешил на этом свете, вот и табак сею тайком промежду кукурузой, а в молодости и лошадей воровал. Сказать тебе, моя красавица, у кого? Смотри, Буланя: у Мишки безрукого на хорватской стороне двух коней, у Таврича из База двух коней, у Хемеша, мадьяра проклятого, — только одного, у Пало и Дьюлы по три жеребенка. Не губи, Буланя, красавица моя, душу христианскую, душу грешную. Ходили мы и свиней воровать за Драву, и раз пригнали из-за реки целых восемьдесят. Кто его знает, чьи они были. Во всей округе таких не было. Три месяца сало коптили.
Крумпотича после нашли лежащим на дороге к Блоту, по которой ходили заболянские браконьеры, направляясь в королевские леса в Вараждинской жупании.
Старик говорил, что под конец, после длительной беседы, Буланя ударила его оземь.
Посему не удивительно, что именно Крумпотич предостерегал Юро Копалью, чтобы тот не ходил ночью на Муру рыбачить.
— Ничего, дядюшка, — отвечал на это Копалья, — съедят меня сомы на закуску, мне же будет лучше.
Крумпотич был отцом Гедвики и знал о Юрином горе.
— А что Гедвика, еще не передумала? — спросил он.
— Даже слышать обо мне не хочет, — отвечал несчастный юноша. — Скорее пересохнет Мура, чем смягчится ее сердце.
Они разговаривали на открытой галерее перед домом старика Крумпотича, где на длинных жердях сушились стручки зеленого перца. В эту минуту появилась Гедвика. С длинной плетью в руках, в сапогах, она как раз возвращалась с выгона, где паслись их лошади.
— Опять ты здесь! — накинулась девушка на Юро Копалью и опустилась на лавку.
— Да, моя голубица, — нежно сказал Юро.
— Стяни с меня сапоги! — приказывала Гедвика.
С блаженной улыбкой сделал это Юро, но улыбка быстро сошла с его лица, когда девушка на него закричала:
— А теперь убирайся домой!..
Закинет сети Копалья ночью в Муру и время от времени кричит в ночную тишь: «Гед-ви-каа!» Клич его умолкает вдали, а поблизости раздается лишь голос коростеля, что летит над рекой.
Клич этот опять доносится до самого перевоза, и старик Михайло осеняет себя крестным знамением:
— Ох, разошлась Буланя, разошлась. Снова кого-то в воду затянула.
Сидит Копалья в своей утлой лодчонке, на дне плещутся пойманные рыбины, и слышит с берега приглушенный топот копыт.
«Кто это едет ночью?» — думает про себя Юро, и вдруг с берега раздается знакомый голос Гедвики:
— Эй, Юро, плыви к берегу, проводишь меня домой. Я боюсь.
А потом, конечно, все происходило вот как: Юро шел рядом с Гедвикой, которая ехала верхом и рассказывала ему, как отправилась ночью в село Святой Павел разузнать, что поделывают жандармы-пандуры.
— Знаешь, Юро, — говорит Гедвика, — а ведь этот их вахмистр, он очень красивый.
Больше не было сказано ни слова, а Юро, забравшись дома на чердак, зарылся в сено и расплакался, как старая цыганка, когда ее ведут на суд.
И впрямь уж больно много мук принял он на себя с этой любовью. А ведь всего с месяц назад Юро был почти счастлив.
Она тогда была в ночном, развела костер и жарила сало и кукурузу. Юро сидел рядом, и Гедвика его угощала. И вот тогда девушка обронила, что вроде тоже его любит.
То слово «вроде» Юро пропустил мимо ушей, и его счастье продолжалось, пока горел огонь.
От костра осталось только несколько угольков, озарявших тишину, нарушаемую лишь ржанием конского табуна, когда Гедвика повернулась к Копалье и сказала ему своим сладким голосом:
— Знаешь, Юро, все-таки я тебя не люблю, передумала я. Ужасно ты глупый. Ступай-ка домой.
Об этом думал Юро, лежа на сене. А утром встал, оседлал коня и уехал в Вараждин. Там коня продал Польгару и две недели не казал носа в Заболяны. До села дошли вести, что гуляет Юро в вараждинских корчмах, водит за собой цыганскую музыку, и цыгане, оплакивая Юрину печаль, играют ему венгерскую песню «Нем баном, рагам, нем баном — мегхалом» («Не жалею, дорогая, не жалею, что умру»).
Потом пришла весть, что где-то в Орможе бился Юро со словенцами и что бьется в Птуе с итальянцами, которые там работают на стройке железной дороги.
Сталось с ним то, о чем поется в одной межмурянской песне: бросила парня девушка, стройная, как кукурузный стебель. Вскочил юноша на коня и полетел — сабля в зубах — в Полуденную землю.
Вернулся, а сабля вся в зазубринах. И каждая зазубрина — одна душа, что улетела в рай.
В наше время мужчины в Междумурье, конечно, уже не жаждут крови. Некоторые даже считают, что они больше машут кулаками, чем дерутся. Что ж, во всяком случае они лучше своих соседей, венгерских баши-бузуков, которые при встрече с вами просто так, из озорства, пырнут вас ножом и еще при этом приветливо скажут: «Йо сакат!» — «Спокойной ночи!»
Юро Копалья в Орможе и Птуе пускал в ход свои кулаки. Раздавая направо и налево в маленьких закоптелых корчмах кулачные удары, он глушил свое горе. Когда пил вино из жбана, бормотал себе под нос: «Заорамо наше туге» («Погребем свои желанья»). Звучало это весьма поэтично, но Юро с каждым днем все больше дичал. Так он добрался до Корсуца за Птуем. И тут, в рощице, где росла одна рябина да кизил и куда он забрел отоспаться, его вдруг охватила глубокая тоска.
Такое случается со многими после кутежа, особенно когда пересчитываешь свои гроши. Содержимое пояса, в котором Юро хранил капитал, было плачевным. Пересчитывать, собственно, уже было нечего. Тогда он потянулся, расправил свои плечи и решил трубить отступление. Теперь это был не прежний, охочий до драки Юро Копалья, каким он устремился из своих степей на север. Теперь это был вполне воспитанный молодой человек, который, отступая, каждому встречному вполне учтиво кланялся и даже не пошел на обратном пути через Ормож, потому что те самые словенцы более чем дружелюбно ему сказали: «Ничего, обратно тебе идти мимо». Юро предпочел избрать путь через соседнюю жупанию, а оттуда напрямик через Вараждин направился в родные свои чудесные степи, где такой чистый и ясный воздух. Не то, что в тех местах, которые он покидал… При взгляде на пестрые табуны лошадей и неоглядную зелень он воспрял духом.
Юноша зашел к перевозчику Михайле в Малую Мухну, погладил двух прирученных Михайлой волков, которые, играя, радостно на него кидались, и спросил, что нового.
— В Святом Павле новый вахмистр пандурский.
Господина Фетепа перевели в Кермент. Жаль, красивый был человек, а к нам сюда назначили какого-то ворчливого старикашку. Вчера, когда в сельскую корчму пришли из Большого Павла и началась драка, он уже запретил стрелять из пистолета. А ты, говорят, где-то за Дравой утешал свое сердце драками?
Юро Копалья строптиво повернулся и по межам в кукурузе зашагал в Заболяны. Уже второй раз он слышит, что господин Фетеп — красивый человек. Впервые ему об этом сказала Гедвика, которая ездила ночью в Святой Павел, посмотреть, что делают пандуры, а главное, как поживает их вахмистр, этот красавец-вахмистр!
Теперь господин Фетеп далеко, в десяти часах пути отсюда, даже больше чем в десяти, в целых пятнадцати, в далеком Керменте.
«Что-то мне сдается, — сказал сам себе Юро, — как будто ветер меняется». Для него это, разумеется, имело особое значение. Но, к сожалению, ветер не изменился, потому что Гедвика, встретив Юро у колодца, даже на него не посмотрела, а только сказала куда-то в сторону:
— Наконец-то пожаловал, бездельник.
В эту минуту Юро себя почувствовал как побитая собака, и если бы не усталость от долгой ходьбы и пережитого за последние дни, он бы наверное до утра орошал своими слезами сено на чердаке, не давая ему сохнуть.
Когда на третий день Юро встретился с Гедвикой, все было так же, как в тот раз, когда, доставив ему маленькую радость, она тут же лишила его всех надежд. Как тогда, в ночной мгле потрескивал огонь, освещая лошадей, которых стерегла Гедвика; как тогда, некоторые из них подошли к самому огню.
Первые ее слова были, что она хочет видеть Фетепа.
— Кажется, этот парень с пандурскими усами уж больно сильно запал тебе в душу, — заметил Юро, раскуривая от огня трубку.
Жалобно и с тоской звучал голос Гедвики, когда она ответила:
— Я хочу видеть Фетепа!
Так же кричит маленький ребенок: «Я хочу эту куклу!»
Юро молчал, смотрел в огонь и нервными движениями придвигал к пламени мокрую ветку, какими Мура изо дня в день оторачивает свои берега.
— Ладно, значит ты его увидишь, — надумав, твердо сказал Юро. И ушел к своему табуну, сел на коня и растворился во мраке равнины.
На другой день утром в Керменте, в жандармском участке кто-то спрашивал господина Фетепа, вахмистра. Ему ответили, что вахмистр отправился с обходом вдоль речки Залы от Борошхаза по Мюркаль.
Молодой человек вежливо поблагодарил, сел на коня и уехал.
Один жандарм заметил, что, видимо, это скупщик скота, потому что у него была с собой длинная веревка, чтобы связывать буйволов.
В излучине реки под Борошхазом Юро увидел господина Фетепа, удобно растянувшегося на зеленом берегу в тени вербы. Винтовку и саблю с портупеей он положил рядом и, испытывая блаженный покой, глядел на противоположный берег, где расхаживали и пощелкивали клювами два аиста.
— Добрый день, господин вахмистр, — сказал наездник, соскакивая с коня.
— Здорово, Юро, откуда ты взялся в Керменте?
— По одному делу, господин Фетеп, — учтиво ответил Юро Копалья, — будьте любезны, встаньте, пожалуйста!
Вахмистр машинально встал и, не успев спросить, зачем ему это нужно, сразу все понял. Юро хотел его поудобней связать. Он обмотал Фетепа веревкой, как наматывают нитки на катушку, затем перебросил через коня, укрепил перед собой и сам вскочил в седло.
— Мне хочется оказать услугу одной особе, — приветливо пояснил Юро.
Вахмистр ничего не ответил. Он лежал, словно куль с мукой, и видел под собой убегающую степную землю с пожелтевшими от засухи клочьями травы.
Потом степь кончилась, пошли кукурузные поля, потом опять была степь, и закатывалось солнце.
Наступила темнота. Вахмистру стало совсем невмоготу.
— Переверни меня, — сказал он Копалье.
— Вот-вот будем на месте, господин вахмистр, — почтительно успокаивал его Юро. Они услышали гул реки, потом стали удаляться от нее, издали доносилось только ржание коней. Вахмистр не выдержал и потерял сознание.
Очнувшись, он увидел огонь, возле огня удивленную Гедвику Крумпотич; сам он лежал на земле, точно тюк ваты, и слышал, как Юро, обращаясь к Гедвике, говорит:
— Вот, привез тебе…
И Юро пошел в село, забрался дома на сеновал и, довольный, уснул.
Под утро за ним пришли жандармы.
Когда Юро в тюрьме в Залагержеге отбывал третий месяц из восьми, которые получил за то, что, как он уверял на суде, хотел угодить одной особе, ему сказали, что его ожидает какая-то посетительница.
Юро привели к начальнику тюрьмы. И тут к негодованию всех присутствующих на шею ему бросилась какая-то красивая девушка и стала жарко его целовать, восклицая:
— Юро мой, я тебя и вправду люблю!
Когда же она его отпустила, Юро долго не мог прийти в себя от изумления, потому что это была Гедвика.
Потом он ей подал руку и хотел сказать что-то очень хорошее, но не мог найти слов. Прошло какое-то время, прежде чем юноша нашелся и произнес:
— Гедвика, хорошенько смотри за моим гнедым и за черным жеребенком. Ты же знаешь, они мои, как и твои…
Да, вот какова любовь в Междумурье!
— Вот видите, — благодушно говорил в своей канцелярии кандидат на судебные должности Маржик, обращаясь к Адамцовой, только что отбывшей двухнедельный срок за бродяжничество. — Видите, Адамцова, до чего бы вас довело, если бы вы продолжали с этим Ржахом бродяжить по свету. Вот справка, что вы отбыли наказание. Вы еще молоды и можете исправиться. А теперь мне скажите, в каких вы отношениях с Ржахом?
— Ржах, ваша милость, мой кавалер, — ответила Адамцова.
— Кавалер? Ну, ну, Адамцова, поразмыслите об этом хорошенько, — с серьезным видом молвил господин кандидат, — подумайте, к чему это поведет. Он на вас не женится. Он моложе вас, вам тридцать, а ему двадцать четыре. И потом — подумать только — что это за человек! Раз уже сидел два года за воровство. Поверьте, это будущее не для вас… К вам я был снисходителен. Правда, вы уже имеете три судимости за бродяжничество, но я вас уверяю, что еще ничего не потеряно. Решительно ничего не потеряно! А вот Ржах совсем другое дело. И я таки к нему не имел снисхождения. Вы, Адамцова, сами хорошо об этом знаете. Привели вас обоих вместе. Вы получили две недели, а Ржах — три. Так что, видите, к вам я отнесся снисходительно. И я вам говорю, не имейте с Ржахом ничего общего. Трудитесь, Адамцова, проявите старание, труд человека возвышает. Нынче много работы на полях, люди нужны повсюду, прокормиться вы легко прокормитесь, а еще помните: человек стареет, и если бы вы вот так состарились, стали бы обузой для родного селения, к какому приписаны. А как они будут на вас смотреть? Об этом вы подумали?
— Покорно благодарим, ваша милость. За все… — ответствовала Адамцова.
— Вот видите, — продолжал увещевать господин кандидат, — еще ничего не потеряно, работайте, место вы найдете, вы же из деревни?
— Из Милетиц, ваша милость.
— Видите, значит всю домашнюю работу по крестьянству знаете, а также, скажем, и скот пасти, человеку ни за что не должно быть стыдно… Что вы бродяжничаете, это, правда, большой грех, вроде как порок что ли… но памятуйте, Адамцова, терпенье и труд все перетрут, и иметь желание работать означает все равно что работать, потому что кто работу ищет, тот ее найдет, а ведь вы, здоровая женщина, найдете работу легко. Так что, как я уже сказал, Адамцова, труд человека возвышает, и за работой человек забывает свою нужду. Вот и вы в трудах легко забудете, что некогда было время, когда вы только бродяжничали. И скажете себе: «Господи, что я прежде вытворяла!» Правду я говорю?
— Истинную правду, ваша милость, — закивала Адамцова.
— Ну, ладно, ладно, — сказал господин кандидат. — Хорошо, что у меня сегодня не очень много работы и я могу по-отечески с вами потолковать. Ибо не забывайте, Адамцова, что внушение часто помогает больше, нежели самые строгие меры. Я вам от всей души желаю добра. Не думайте, что я, как другие судейские, довольствуюсь единственно тем, что продиктую приговор. Э-э нет, я исхожу из принципа, что кара, правда, служит средством к исправлению, но ласковое внушение дополняет эту принудительную меру. Вот, как сегодня: не позови я вас, к примеру, а скажи себе: «Ладно, срок свой она отсидела, и делать мне с ней больше нечего», то с моей стороны это было бы очень неправильно.
Послушайте, Адамцова, окиньте взглядом всю свою жизнь. Сегодня, приняв кару, вы уходите из суда, и перед вами открывается новая жизнь, где труд — этот подлинный смысл жизни — есть вал, о который должна разбиться всякая черная мысль. Что бы из вас вышло, Адамцова, если бы вы и дальше гуляли с вашим Ржахом? В один прекрасный день Ржах бы мог склонить вас к воровству; подумать только, Адамцова, — вы сюда попали с человеком, который уже сидел за воровство два года! Вы с ним гуляете, а он подобьет вас на кражу. Подумайте о последствиях, Адамцова! Тут вы сидите не больше двух недель, а там, глядишь, могли бы засесть и на годы. А выйдете из тюрьмы, не устоите перед соблазном, не удержитесь, чтобы снова не посягнуть на чужое добро, поелику в тюрьме ничему хорошему не научитесь. Я это по опыту знаю. Поймите, что этот Ржах может однажды стать вашим злым демоном. А с другой стороны, Адамцова, выйдете из тюрьмы, будете трудиться, и счастье, которого вы до сих пор не познали, обретете в честном труде. И как вас будет радовать, когда собственными руками заработаете кусок хлеба, никто вас не будет презирать, каждый будет на вас смотреть с уважением, вашего прошлого как не бывало, оно как бы вычеркнуто из памяти. Может еще повстречаете мужчину, честного человека, который, подобно вам, зарабатывает кусок хлеба трудом рук своих. Который пожелает дать вам свое имя, соединить свою судьбу с вашей! И вот когда эта цель будет достигнута, тут вы непременно скажете: «А ведь прав был господин кандидат!» И тогда все в жизни вас будет тешить. А то ведь сейчас бродяжничаете с этим Ржахом, побираться приходится, спать иногда хотя бы и в лесу, прятаться от жандармов и бояться судов. Потому еще раз вам советую, Адамцова, не имейте ничего общего с этим Ржахом. Вы уже сегодня выходите на свободу, а Ржах просидит еще неделю. Мой вам совет: забудьте Ржаха, считайте, что это был скверный сон, и бодро, с надеждой на счастливую жизнь, выйдете из здания суда, и трудитесь, да, да, помните латинскую поговорку «Ora et labora», что значит «молись и трудись». И пусть никогда не возвратится ваше прошлое, равно как и это судебное дело пусть никогда не пополнится ни одним обвинительным заключением против вас. Я убежден, что тогда вас все будет радовать, и на честных тружеников, на которых вы нынче не можете глядеть, вы будете взирать как на своих братьев. Вы меня хорошо поняли?
— Да, ваша милость, — ответила Адамцова.
— Ну, видите, — сказал господин кандидат. — Вот это меня радует, когда вижу понимание. Вы свободны, работайте, честное слово, буду рад, коли увижу, что мое внушение не оказалось напрасным. Если у вас есть ко мне какая просьба, доверьтесь, ибо ныне перед вами не судебный следователь. Говорите смело, просите совета. Ведь я и сам рад, когда вижу, что мне доверяют.
— Покорнейше прошу, ваша милость… — подала голос Адамцова.
— Валяйте, говорите, если что возможно, с удовольствием исполню, — подбадривал ее добряк кандидат.
— Ваша милость, оченно прошу вашу милость, не извольте гневаться, — просила Адамцова, — но только если бы вы соизволили дать разрешение оставить меня еще на недельку в холодной, чтобы мне, значит, выйти на волю вместе с Ржахом. Потому мы себе слово дали не покидать друг дружку. Но только не гневайтесь, ваша милость…

Вор Шейба дал запереть себя на ночь в доме № 15. Специалист по чердакам, он намеревался с сегодняшнего дня развернуть свою деятельность в этом квартале побогаче. Прежде Шейба работал в бедном, где весь его доход составили два передника, три нижние юбки и один побитый молью платок. Все это, вместе взятое, суд оценил бы месяцев в шесть, а еврей-старьевщик дал всего крону.
Прислонившись к дверям подвала, Шейба слушал, как дворничиха, прикрутив свет и заперев парадное, идет к себе. Видно, женщина была еще не старой, потому что, идя от парадного к дверям дворницкой, она что-то потихоньку напевала.
Шейба решил, что это к добру. Затем сегодня после обеда он встретил воз сена — тоже хорошая примета. Кроме того, он видел трубочиста и послал ему воздушный поцелуй — и это приносит счастье. Шейба вытащил из кармана бутылку самого простого рому и хлебнул из горлышка. Дешевый ром — это все еще тот бедный квартал. Здесь будет совсем другое дело! До обеда он провел предварительную рекогносцировку и установил, что лестница на второй этаж покрыта ковром. Судя по всему, здесь живут люди зажиточного класса. У них на чердаке наверняка что-нибудь найдется! Скажем, перины или, к примеру, одежда. Шейба запил мечты о счастье изрядным глотком рома и присел на ступеньку. Он устал, потому что в квартале у реки ему сегодня пришлось драпать от полицейских. Весь камуфлет вышел из-за ручной тележки, на которой не было таблички с фамилией владельца и которая без призора стояла на улице. Едва Шейба сделал с тележкой несколько шагов, как ему уже пришлось уносить ноги без нее. Он удрал — и то слава богу —, но теперь чувствовал себя совершенно разбитым. Нет на свете справедливости! В деревне тебя хватают жандармы, в городе — полицейские. Шейба еще раз отхлебнул рому и вздохнул.
В доме царили тьма и покой. В подвале не было ни тепло, ни холодно. Но Шейба, услышав, как его вздох уносится в ночной тиши куда-то чуть ли не на четвертый этаж, затрясся от холода и невольно подумал, что с ним станет, если его поймают. Хоть бы поймали поближе к зиме! Он уже несколько раз зимовал в тюрьмах. В некоторых арестантских домах уже проведено паровое отопление. Тепло, ешь досыта, только выпивки недостает. А что касается курева, так им тоже как-нибудь разживешься.
В подвале подняла возню кошка. У Шейбы чуть было не сорвалось с языка «кис-кис», но он вовремя опомнился. Зачем зря накликать на себя беду?
В доме, наверняка, еще не все спят. Вдруг его услышит дворничиха? Тогда конец! Еще, чего доброго, и бока намнут.
Шейба продолжал вслушиваться: за дверью ходила и мяукала кошка. Потом она забралась на груду угля, который с грохотом посыпался вниз. Вот стерва! Подымет здесь шухер, а прохожие будут думать, что в подвале вор.
Шейбе стало премерзко от мысли, что кому-нибудь могло бы прийти в голову, будто он способен забраться в подвал. Обчистить подвал — это сумеет любой. А вот обчистить чердак?!
От негодования его передернуло — в кармане загремели отмычки. Кошка за дверью перепугалась, и Шейба услышал, как, удирая, она сбросила что-то тяжелое. По дому прокатился гул.
Шейба съежился. Вслушался. Звуки удара отдались во всех уголках и понемногу стихли. В доме не раздалось ни голоса.
Он успокоился и отпил из бутылки. Если его по несчастной случайности загребут, пусть хоть в бутылке ничего не останется. Допить все равно не дадут.
Раздался звонок.
«Звонят дворничихе», — подумал Шейба и опять съежился, словно не желая видеть ничего вокруг.
Из дворницкой упал свет. Зашаркали шлепанцы, зашуршала юбка.
Дворничиха пошла открывать. Шейба даже дышать не решался, — чтобы, неровен час, не выдать себя.
Полоса света, преломляясь о лестничные перила на первом этаже, падала вниз, в подвал, прямо против Шейбы.
— В подвале какой-то шум, — произнес мужской голос на площадке, — будто воры забрались!
— Это все кошки, господин советник, — ответила дворничиха. — Каждый день в подвале шум поднимают. А что на чердаке творят… Гвалт, вроде черти свадьбу справляют!
У Шейбы прямо камень с сердца свалился. Он слышал, как дворничиха ушла к себе, а на третьем этаже загремел ключ в дверях. Под шумок он успел потянуться и отпить еще рому.
Свет пропал, наступила кромешная тьма. Шейба стал размышлять о своем предприятии. Дождавшись позднего вечера, он проберется на чердак, отомкнет его, возьмет все стоящее, дождется утра и, как только отопрут парадное, сразу же смоется. В такую рань полицейские патрули редко ходят по улицам. А уж остальное образуется. Из выручки надо сразу расплатиться за стол и угол: он уже должен за целую неделю. А то люди они бедные, да и знают про него немало такого, что могло бы здорово ему навредить. Будь дело к зиме, он бы им еще простил, а сейчас хочется погулять на воле. Ведь до чего интересно: когда кругом сплошная зелень, совсем неохота садиться!
Шейба настроился на какой-то хлюпкий лад. Снова услышав в погребе кошачье мяуканье, он не совладал с собой и тихо позвал в замочную скважину: «Кис-кис!» Кошка подбежала к двери и замяукала.
Шейба слышал, как она царапалась в дверь, потом села и принялась мурлыкать. Видно, кошке одной было в подвале скучно, и теперь она обрадовалась, что нашлась компания, хоть и отделенная непреодолимой преградой.
«А что, если выпить за ее здоровье?» — думает Шрйба и тут же претворяет эту приятную идею в жизнь.
Внезапно почувствовав себя в большей безопасности, он вытягивает ноги — раздается едва слышный шорох. Чтобы, упаси бог, не забыть, Шейба, не откладывая, снимает ботинки.
Ответственная операция проходит бесшумно. В восторге от успеха он еще раз глотает рому. Ласково поглаживает бутылку. Уже три раза она сопровождала его в таких экспедициях. И когда на чистый доход от них Шейба снова наполнял ее ромом, то всегда испытывал чувство, будто делит с ней свой успех.
Бутылка — его единственная собеседница, с которой можно потолковать во время неимоверно нудного, нескончаемого ожидания в чужих домах, когда неизвестно, что тебе принесет ближайшая минута.
Шейба держит бутылку у рта и по бульканью определяет, что содержимого в ней еще примерно с четверть. Когда из нее уже нельзя будет выжать ни капли, тогда он пойдет наверх, а завтра наполнит бутылку снова и скажет: «Молодцом была, душенька!»
Ром приятно греет Шейбу и уносит в мыслях на чердак. Богатый дом — богатый чердак. Вспомнились чердаки в бедном квартале, — в сторону двери полетел плевок. Два передника, три нижние юбки да платок, побитый молью! Господи, какая голь! А жить чем дальше, тем труднее. Еще, неровен час, подымут цену на водку, тогда хоть совсем в петлю полезай!
Шейба хлебнул еще, и к нему вернулось хорошее настроение. Может, наверху будут перины. Пух пока в цене. Ведь остались всего две вещи, на которые нынче стоит растрачивать свой талант. Телеграфный провод и перины. И совсем неважно, сколько украдешь, за них все одно — суд присяжных. А иначе сколько ради него нужно спереть передников, нижних юбок да побитых молью платков?! Присяжные, они все же лучше, чем простой суд. Простой суд, тот уже вон сколько раз его судил! А когда судят присяжные, оно завсегда почетней. И дружки, опять же, скажут: «Вот молодчина, под присяжных подвели!»
«Выпью-ка за господ присяжных», — мелькает у Шейбы в голове, и он вытягивает из бутылки остаток. Теперь он еще минутку отдохнет и пойдет наверх. Полегоньку, потихоньку, главное, чтоб без шума! С ботинками в руках. Босиком. И чего он на себя злится? Он же тихонько пойдет. Вот еще только минутку подождет, умом пораскинет. А почему бы не прочесть «Отче наш»?.. Помолится и тогда пойдет.
Шейба пробирается на второй этаж. Ботинки держит в руках. Останавливается на каждой ступеньке, потому что излишняя осторожность никогда не мешает. Крадется тихо, медленно. Как кошка… Вот он уже на втором этаже. Вытягивает руку, чтобы нащупать перила, но вместо них натыкается на дверь. Ага, перила должны быть левее. Шейба продолжает искать перила и опять нащупывает рукой дверь. Раздается звонок! Конечно, это он нажал кнопку. У Шейбы отнимаются ноги, он не может двинуться с места. А дверь открывается, чья-то рука хватает его за шиворот и втаскивает в квартиру. В кошмарную тьму.
Шейба слышит грозный женский голос:
— Дыхни на меня!
Шейба дыхнул. Грозная рука все еще держит его за шиворот.
— Так ты уже и ром пьешь? — слышит он грозный скрипучий голос.
— Да, — отвечает Шейба, — на другое у меня денег нет.
— А ты обязательно должен все пропить и под конец лакать ром, ты — председатель судебной коллегии Дорн?
Рука страшной женщины провела по его лицу.
«Ага, — думает Шейба, — это она меня приняла за председателя суда Дорна. Он меня недавно судил».
— Зажгите, пожалуйста, свет, — просит Шейба.
— Это я должна зажечь свет, чтобы прислуга видела, в каком виде ходит домой председатель суда Дорн! — кричит женщина. — Ишь ты! И еще со мной на «вы», изверг, со своей законной женой, которая не спит и ждет тебя с двенадцати часов! Что у тебя в руках?
— Ботинки, мадам, — бормочет, заикаясь, Шейба. Страшная рука снова проводит по его лицу.
— Еще «мадам» меня называет, думает, я уже совсем сумасшедшая. И бороду сбрил, негодяй!
Шейба чувствует под носом руку.
— Фуй, бритый, как арестант… Матерь божья, я же его изувечу! Так вот почему он хотел, чтоб я свет зажгла! Думал, я испугаюсь, негодяй, чувств лишусь, а он в своей комнате запрется!..
Шейба чувствует на своей спине удары кулаков.
— Нет, вы только посмотрите на него! Председатель судебной коллегии, а выглядит, как последний арестант! Что у тебя на голове?
— Кепка.
— Мой ты боже! Так упиться! Оставить где-то цилиндр и купить кепку?! А может ты ее просто унес?
— Унес, — молвит Шейба покаянно.
Новый удар по уху. Женщина с криком выталкивает его за дверь:
— До утра останешься на лестнице! Пусть весь дом знает, что за негодяй председатель суда Дорн!
Женщина напоследок толкает его в спину — Шейба падает, разбивает себе нос. Дверь за ним закрывается.
«Слава тебе господи, — думает Шейба, поднимаясь вверх по лестнице, — все хорошо, что хорошо кончается». Вот только ботинки там остались. Ему кажется, что босые ноги эдак слегка освещают ступеньки.
Шейба тихонько крадется на третий этаж. Слава богу, он уже без шума добрался до первых дверей. Но тут чья-то рука внезапно хватает его за шиворот и втаскивает прямо в эти двери!
Шейба попадает в темноту еще покромешней, чем на втором этаже, безо всякого предисловия получает затрещину, и лишь после этого слышит женский голос:
— Целуй руку!
Шейба целует. Голос строго спрашивает:
— Где твои ботинки?
Шейба молчит. На своих босых ногах он чувствует теплую руку, которую только что целовал.
Тотчас после этого он получает такой удар по спине, что у него из глаз сыплются искры, и слышит:
— Так вот как! Следственному судье доктору Пелашу не стыдно прийти домой к жене босым и пьяным?! Где твоя носки, мерзавец?
Шейба молчит, размышляя. Следственный судья доктор Пелаш вел его дело, когда он засыпался в последний раз.
— Где, говорю, носки, мерзавец? — повторяется тот же вопрос.
— У меня их в жизни не было, — отвечает Шейба.
— Ах так, ты еще голос будешь менять, мерзавец! И даже не знаешь, что мелешь!
Женщина трясет Шейбу, и у него из кармана вываливаются отмычки.
— Что это такое?
— Ключи от чердака, — отвечает вконец убитый Шейба.
Едва договорив, он вылетает на лестницу. Следом летят отмычки и доносится голос:
— Нагрузился до положения риз!
Шейба хочет подняться, но кто-то уже держит его за руки, пинает и кричит:
— Какой ужас! Он подымет переполох на весь дом! Перепился и лезет в соседскую квартиру. Что теперь о тебе будет думать супруга пана доктора!..
И чья-то женская рука затаскивает его в дверь напротив, волочит в переднюю, оттуда в комнату, швыряет на диван, затем в смежной комнате запирает за собой дверь и восклицает:
— Тьфу, увидел бы тебя таким директор! Уж он бы конечно подумал: «Ну и кассир у меня! Хорош!..» Сегодня будешь спать на диване.
Через четверть часа вор Шейба открыл дверь и, пылая словно в жару, помчался прочь от этого злосчастного дома. И по сей день не знает, приснилось ему все это или же случилось наяву.
Газет он тоже не читает. Так откуда же ему знать, в каком доме нашли его ботинки, отмычки и пустую бутылку из-под рома?
— Отец Мамерт, — обратился ко мне однажды аббат Иордан, — святой Юро перестал творить чудеса.
И это была святая правда.
В Бецковский монастырь в качестве самого младшего члена ордена францисканцев я попал как раз тогда, когда в доминиканском монастыре во Фрайштаке у нас появился грозный конкурент.
Я говорю о статуе св. Петрониллы. Ровно через два дня после моего появления среди старых монахов в Бецкове, подле статуи св. Петрониллы в саду доминиканского аббатства во Фрайштаке разверзлась земля, и с тех пор никто более не хотел обращать внимания на нашего доброго старого св. Юро. Вода струилась из-под св. Петрониллы, и все паломники сворачивали на Фрайштак. Глубокая печаль наполняла наши сердца, когда, стоя на монастырской башне, мы смотрели, как крестьяне, собравшись процессией, с хоругвями уходили долиной вдоль зеленого Вага, держа путь на голубые равнины, прочь от нас, во Фрайштак.
А к нам хоть бы одна собака заглянула…
Но не могли же мы останавливать все эти шествия, тянувшиеся от самой Жилины, Ружомберока, из Тренчина и даже из Опавы, и говорить им: «Эх вы, глупые! Во Фрайштаке есть один малый, который до того как податься к доминиканцам, проходил геологические науки. Потому и разверзлась земля под святой Петрониллой, что он велел там выкопать колодец. Оставайтесь-ка вы у нас, дурашки мои золотые, у нас есть св. Юро, а уж он куда как проверенный святой. Вы, конечно, не можете этого помнить, но когда в давние времена куманы отрубили под Бецковом одному священнику голову, и народ с плачем принес ее вместе с телом в костел и положил перед святым Юро, голова — о чудо! — приросла к туловищу, ксендз встал и сказал: „Большое вам спасибо!“ Вот какое чудо сотворил св. Юро. А если вам и этого мало, то ведь вы хорошо знаете, что когда в монастыре однажды занялся пожар, статуя св. Юро сбежала с подставки в костеле, забралась на колокольню, ударила в набат, и монастырь был спасен. А когда сбежались спасители храма, св. Юро как ни в чем не бывало уже опять стоял на своем месте. Золотые вы мои глупышки, во Фрайштаке с вас сдерут втридорога за пузырек простой грязной воды, а у нас вы получите по дешевке нож с надписью „Помни о паломничестве в Бецков“. Предмет это практичный и станет вам всего полгульдена. Ну, а ежели вы страдаете каким-нибудь недугом (неважно, каким), то у нас, опять же, припасены для вас разные члены из воска, и по вполне сходной цене».
(Как мне рассказал настоятель, когда-то, еще в то старое доброе время, к преподобному отцу, торговавшему восковыми конечностями, подходит богомолец: «Страдаю я, говорит, отче, — нога у меня всего одна». Монах дал ему за гульден восковую ногу и заверил калеку, что у него отрастет новая. Через год везут раба божьего на богомолье уже на возу. Когда подъехали к монаху, торговавшему ногами, приподнялся этот добрый человек на подводе — глаза сияют — и кричит: «Чудо, отче, чудо свершилось! Нога-то ни в какую не росла!.. Я уже стал непотребными словами лаяться. А она все ничего. Тогда я перестал молиться, а после этого поезд мне и вторую отдавил, пришлось ее отрезать. Продайте теперь две руки, чтоб хоть их отец небесный мне оставил».)
Но это все только так, промежду прочим. Не могли же мы, в самом деле, открыть им глаза на это мошенничество во Фрайштаке; нам оставалось только горевать. А крестные ходы, минуя наш монастырь, все шли да шли один за другим на юг, и к нам никто не заглядывал.
Была у нас в монастыре большая колбасная мастерская. Говорят, прежде богомольцы из-за наших копченых сосисок даже дрались. Кто покупал пять штук, получал в придачу образок. А кто бы купил сразу сотню, того мы бы записали в поминанье. Чего уж греха таить, в сосиски мы клали самое распоследнее дерьмо. Честно говоря, мои собратья по монастырю против доминиканцев были слабы! Просто не понимали прогресса. Не сумели приманить странников.
Итак, когда святой аббат Иордан, обращаясь ко мне, молвил: «Отец Мамерт, святой Юро перестал творить чудеса», — я только пожал плечами.
— А у нас про воду вам ничего неизвестно?
Я опять пожал плечами. У нас было только немного воды в монастырском колодце; в костеле найти воду было невозможно, потому что он стоял на скале.
Постукивая пальцами по крышке старого дубового стола, настоятель говорил:
— Как же они об этом не подумали?..
Но когда от выпитого вина у него прояснилось лицо, аббат Иордан ударил кулаком по столу и воскликнул:
— Придется святому Юро перебираться к воде. Придется! Ничего не поделаешь…
Старик взял меня за руку, подвел к окну и показал вниз. Внизу Ваг катил свои зеленые волны. Я понял.
— Сегодня ночью мне будет видение! — многозначительно изрек отец Иордан.
Эх, хотелось бы мне тоже увидеть такой замечательный сон, как приснился в ту ночь нашему старенькому аббату Иордану. Райски благоухая, окруженный сиянием, святой Юро ночью пришел к нему в келыо и сказал: «Иордане, Иордане! Не могу глядеть доле, как течет без пользы чудодейственная вода в Ваге. К реке хочу!» Потом же музыку небесную услышал наш аббат Иордан, а святой Юро возвратился обратно на свое подножие в костел.
Снесли мы его к реке. На славу удался праздник!
Из Шастина, даже из-под Ланжгота, что в Моравии, приехали богомольцы на конях.
Теперь у нас была чудодейственная вода. И в каком количестве! Весь Ваг! Всему христианскому миру хватило бы с избытком.
Опять к нам повалили богомольцы целыми процессиями. На берегу мы устроили бассейны. Воду продавали дорого. Кто хотел выкупаться, тоже должен был платить. И, наконец, мы торговали плавками, а без них никого в реку не пускали.
Но тут, будь ты неладен, начался тиф. В Ваге тогда поднялась вода, всюду было полно тины, и люди эту тину покупали в бутылках. То один богомолец умрет, то еще двое… люди теряли веру. Но и это не было бы так ужасно, кабы не внезапная роковая весть…
Только было у нас началось процветание, как вдруг мы узнаем, что в доминиканский монастырь во Фрайштаке возят какие-то машины. Что бы это могло значить? Загадка не замедлила разъясниться.
Доминиканцы наладили во Фрайштаке «производство чудодейственной сельтерской воды — полное отсутствие вредных микробов гарантировано!»
И опять мы остались с носом. И имел наш аббат видение — св. Юро пришел к нему и сказал: «Не нравится мне больше у реки. Когда Ваг выходит из берегов, приходится стоять по колено в воде и по нескольку дней ждать, пока спадет вода. На старое место хочу!»
Я заметил, что подагры боится всякий.
И опять мы загоревали после торжественного переселения святого. Хоть бы какой зряшный остаток странников приманить…
И вот тут-то я вспомнил про граммофон. Органа У нас нет, так может св. Юро запел бы что-нибудь божественное?
— Ладно, отец Мамерт, покупайте эту дьявольскую штуку, — распорядился отец Иордан, — да прихватите что-нибудь светское. Все-таки в монастыре скучновато…
— Слушаю, ваше преподобие. — И я поехал в Вену покупать пластинки и граммофон.
Был опять какой-то большой праздник, и костел битком набит богомольцами, когда я завел граммофон, спрятанный в нише за статуей св. Юро и занавешенный большим ковром.
Черт его знает, о чем я тогда думал, — голова у меня еще трещала после Вены, — но богобоязненные странники вдруг услышали величественный гимн:
«Нор, mei' Mädrle, hop…»[4]
Честное слово, я не вру: аббат Иордан как подкошенный свалился со своего возвышения, обитого по сему торжественному случаю красным плюшем.
Все-таки для него это было слишком…
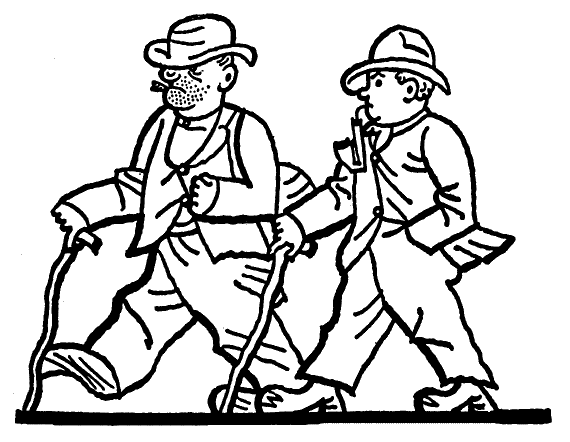
Наша первая встреча была не ахти какой веселой. Я тогда как раз находился под следствием: на одной уличной демонстрации какой-то полицейский по несчастной случайности свалился головой на мою палку.
В пражской Новоместской тюрьме смотритель Говорка, сущий папаша всем арестантам, поместил меня на время предварительного заключения в отделение так называемых разных элементов. Большей частью то были воры-профессионалы.
Об одном из них, по кличке Ганушка, я тогда еще не знал, что он станет моим другом, пока из глубокого сострадания к моей судьбе он не заявил, что, когда в следующий раз будет коридорным, тайком пронесет мне в суповом ведре сигарку. У него были голубые глаза, добродушный взгляд, улыбчивое лицо. А все эти достоинства таковы, что сразу забываешь про дурацкое общество, которое обязательно скажет, что дружить с вором — неприлично.
Ганушка принес мне сигарку. И Ганушка же растрогал меня своею горестной судьбой.
Последнее дело, из-за которого он сейчас здесь торчал, было необычайно трагическим. Ганушка рассказывал нам об этом на нарах своим тихим, печальным голосом, когда все стихало в коридоре, вечерами длинными и тоскливыми.
— В общем, братцы, — рассказывал нам Ганушка, — пришло мне раз в голову, что пора бы опять присмотреть чего-нибудь нового. Неплохо бы, соображаю, переменить товар. А то все перины да перины, по которым я тогда работал, надоели хуже горькой редьки. Дай-ка, думаю, перейду на ботинки. И вот как-то ночью, дело было во вторник, иду я себе по Вацлавской площади, и попадается мне на глаза небольшая такая витринка с ботинками какой-то оптовой фирмы. Ну, посмотрел я по сторонам, оглянулся, снимаю витринку — и ходу! И иду по главным улицам, потому хоть там не встретишь полицейского. Ночью все полицейские в боковых переулках, стоят в подворотнях и спят… Дотащился я с этой витринкой до самого Богдальца, разбиваю стекло и начинаю вытаскивать ботинки. Вынимаю один туфель, замечательно красивый. Примеряю. Оказывается на левую. Вынимаю второй — опять левый, третий — левый. Пресвятая богородица, все левые! Связал я все в узелок и несу одному «ловчиле». Может, купит. А правые сам сделает. Но во Вршовицах меня встретил агент Гатина, и славе моей хана… Думаю, дадут три месяца.
Ганушка вытащил из кармана тряпицу и вытер глаза, свои добрейшие голубые глаза, на которые навернулись слезы. И принялся заунывным голосом дальше рассказывать, как однажды слегка гробанул одного лавочника — упокой, господи, душу его, — и как ему хотели пришить убийство с целью грабежа, но эти двенадцать господ сказали: «Нет!» После этого Ганушка вежливо поцеловал защитнику руку и так же вежливо поблагодарил господ присяжных заседателей.
Ганушка закончил, когда мы уже засыпали. Вдруг подходит ко мне и несет набитую соломой подушку со своей нары.
— Яроушек, — говорит тихонько Ганушка, — вот несу тебе подушку под голову, чтобы повыше было спать. Я-то привык спать просто так, без ничего, а у тебя голова образованная, и не гоже, чтобы мысли в голове мялись.
Тщетно я ему объясняю, что с меня и одной подушки совершенно достаточно. Ганушка настаивает на своем. Он-де, жулик несчастный, может выспаться и на голых камнях. «Или в каменном мешке» (то есть в доме принудительных работ) — пытается скаламбурить другой вор, который еще не спит. А Ганушка улыбается и лезет на свои нары.
Ночью никак не могу заснуть — мешают блохи, и Ганушка меня просит:
— Знаешь что, Яроушек, расскажи мне про индейцев…
Так Ганушка стал моим другом.
Прошло три года. Я бродяжил по Германии и был в Гейлигенгрунде. Иду по липовой аллее, и кто, вы думаете, идет мне навстречу? Ганушка! Собственной персоной.
То была одна из необъяснимых случайностей, удивительнейшая встреча двух знакомцев среди стольких миллионов незнакомых лиц. Оказалось, что Ганушка — пока в Чехии не забудут про одну ограбленную виллу — счел самым для себя разумным, с соблюдением строжайшего инкогнито и с чужой трудовой книжкой в кармане, отправиться в вояж.
Все то время, пока мы с ним разговаривали, он никак не мог спокойно постоять на месте и какой-то тряпицей отгонял от меня мух:
— Липнут они к тебе, Яроушек!
В его глазах я снова увидел прежнюю нежность. Растроганным от волнения голосом, едва не заикаясь, Ганушка говорил:
— До чего же я рад, что мы с тобой вместе попали в Баварию! Ну обожди, теперь пойдет житуха. Постой здесь, я сейчас вернусь!
Я смотрел ему вслед.
Примерно через четверть часа мой друг Ганушка вернулся с зарезанной козой.
— Сволочь такая, — начал он, — деревенщина пузатая, не пустил меня ночевать, а я ему теперь за это козу прирезал. Ты бы этого не сделал, пожалел, а я нет! я нет!
Эти последние слова Ганушка произнес таким добродушным тоном, глаза его излучали такую нежность, как если бы он рассказывал о бог весть какого благородства поступках…
— Козу продадим, — продолжал он, — и купишь себе, Яроушек, ботинки. А то твои уже совсем худые, в них далеко не уйдешь.
К сожалению, когда мы об этом говорили, мимо проходил баварский жандарм. Ганушка поступил как истый джентльмен. На ломаном немецком языке он объяснил жандарму, что меня знать не знает и остановил лишь затем, чтобы попросить милостыню. И по-чешски добавил:
— Не будь дураком, Яроушек, скажи, что это правда.
Но жандарм меня ни о чем не спрашивал и увел с собой одного Ганушку, который печально тащил зарезанную козу.
Я смотрел им вслед, пока они не скрылись — коза, жандарм и мой самоотверженный друг Ганушка.
После этого я долго-долго ничего о нем не слышал. И вот совсем недавно иду по Майзловой улице, и вдруг из одной распивочной выскакивает дружище Ганушка, втаскивает меня внутрь и кричит официантке:
— Подай-ка Яроушку шкалик хлебной с ромом!
В каком он был виде, бедняга! Ганушка открылся мне, что уже давно не подворачивалось под руку ни черта стоящего, что ночует он в какой-то развалюхе, а шпики уже наступают ему на пятки. И что ему уже нечего было надеть на себя, пришлось сходить ночью за Хухле, раздеть там два огородных чучела и таким образом пополнить свой гардероб. Сообразно тому, надо сказать, он и выглядел.
Он был весь драный, точно боевое знамя, которое несут в день трехсотлетия какого-то очень драчливого полка.
Я спросил его, что бы я мог для него сделать. Ганушка ответил, что был бы очень рад, если бы я сводил его в пивную «У Флеков».
Итак, в тот день я привел Ганушку в общество чавкающих чешских чревоугодников, привел туда своего верного друга, горевшего одной страстью, испытывавшего одно-единственное желание — побывать «У Флеков», у истоков чешской политики, в колыбели чешских буржуев.
Я увидел там несколько знакомых лиц, на которых было написано явное непонимание того, что и Ганушки заслуживают подобных радостей. Когда я его привел, они решили, что, наверно, это пари. А потом Ганушка удивил мир, совершив нечто великое.
В то время как эти преуспевающие обыватели совали по грошику в кружку для сбора пожертвований на одежду бедным школьникам, Ганушка вытащил из своих лохмотьев целых десять геллеров, последнее свое достояние, и бросил монету в кружку со словами:
— Пусть их оденутся, бедняжки!
Я хотел, чтобы он шел ночевать ко мне и сказал, что дам ему старый костюм. Ганушке это доставило безмерную радость и, всласть наглядевшись на довольные лица пражан, этот вечно гонимый малый вышел со мной на улицу.
На углу Мысликовой улицы нам повстречались двое, один из них (все тот же агент Гатина) похлопал его по плечу:
— Идемте со мной, Ганушка, мы уже вас ищем из-за маргарина!
Так 27 августа в пол-одиннадцатого ночи я снова потерял своего друга Ганушку.
Сербский поп Богумиров и коза муфтия Исрима
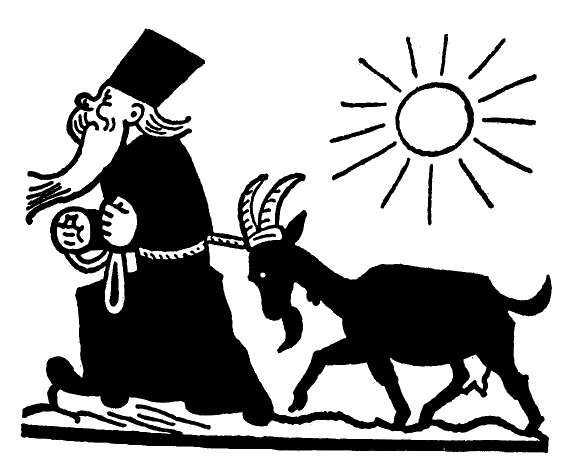
Большой и Малый Караджинац — две соседние деревни. Казалось бы, и тут и там интересы одни, а на самом деле ведь сколько разного! Дело в том, что Малый Караджинац лежал на сербской стороне, а Большой — принадлежал султану. Деревни высоко в горах, и их жители изнурительным трудом старались вырвать у этой гористой пустыни все, что она могла дать. На скалах волновался овес. По горным выступам резво скакали козы.
Когда в Малом Караджинаце продавали коз, их продавали, чтобы уплатить подати своему сербскому королю. В Большом Караджинаце коз продавали на десятину падишаху. В общем одно и то же, только и разницы, что в названии. Православных сажали за недоимки по податям, турок — по десятине.
На храме в Малом Караджинаце желтел покрытый дешевенькой бронзой восьмиконечный крест. И такой же бронзой покрыли полумесяц на мечети в Большом. Бронзу и те, и другие покупали в лавке армянского купца Рекована в недалеком пограничном местечке. Но как гордились и православные, и магометане этой дешевенькой позолотой!
Когда же турки в Большом Караджинаце однажды побелили свою мечеть, православные в Малом тоже выкрасили свою церковь в белый цвет известкой. И как вызывающе она сверкала на сербскую и турецкую стороны своими куполами!
А когда вечером в церкви ударяли во все колокола, муфтий на противоположной стороне пытался с минарета перекричать их звон возгласами, что аллах есть аллах и что аллах велик.
Прокричав положенное, муфтий Исрим спускался вниз, закуривал трубку и отправлялся на беседу с православным попом Богумировым. Встречались они у водопада, отделявшего Оттоманскую империю от Сербского королевства.
Поп Богумиров тоже курил трубочку. Их беседа обычно начиналась с переругивания:
— Ты чего хромаешь, турецкая собака?
— Ну и круги у тебя нынче под глазами, христианская твоя душа проклятущая!
Затем тон становился более спокойным. Аллаха и Вседержителя оттесняли на задний план козы.
Дело в том, что и Исрим, и поп держали коз и любили ими похвастать друг перед другом. В их глазах то были, упаси боже, не просто козы, а козы магометанские и козы христианские, православные.
— Мои козы тучней твоих, муфтий, — торжествовал поп.
— Тучней? Видел ты уже где-нибудь такую красавицу, как моя Мири?! Ну, знаешь, ту… которая вся черная. Вот это красавица, поп! А рога у нее? Как у венгерской коровы.
И это была правда. Козлята, которых она приносила, были один краше другого.
Как утверждал муфтий, глаза у нее прекрасней, чем у Кюлют, дочери старосты. А приходя в совсем неописуемый восторг, Исрим даже говорил о своей любимице, что она — зачарованная гурия из свиты пророка Гавриила.
Вот об этой козе и мечтал поп Богумиров.
Как бы он улучшил с ее помощью свое стадо, которое прыгало сейчас со скалы на скалу, то исчезая за валунами, то вновь появляясь на неуютном сером фоне горных склонов, пощипывая скудную траву и большие заячьи лапки…
Водопад шумел, первые звезды взошли над Балканами.
Наступила минута, когда люди проникаются особой близостью один к другому.
— Послушай, муфтий, — начал поп Богумиров, — твоя коза не такая уж красавица, но мне бы она пригодилась. Моя коза, которую я держал на племя, волею божией сдохла. Господь призвал ее к себе.
Поп перекрестился.
— Аллах велик, — воскликнул муфтий, — но моя коза не продается!
— Послушай, муфтий, — продолжал поп, — твой аллах не такой великий, как православный бог. Творил он где-нибудь чудеса или посылал вам когда чудотворцев? А вот будь на то воля моего господа, я тоже могу превратиться в чудотворца. Ты же так и останешься глупым муфтием, язычником. Повелит отец небесный, и я стану воскрешать мертвых, а ты до самой смерти только и будешь орать с минарета «аллах есть аллах!» и крутиться на месте как овца, когда у нее вертячка!
Муфтий аж поперхнулся.
— Ты — безмозглый гяур, — вскричал он, — наш Магомет, наоборот, не велит воскрешать мертвых! Какой-то странный у вас бог, даже мертвым не дает покоя. Провозгласи торжественно, что не умеешь воскрешать мертвых, и я продам тебе козу.
Задумался поп. С одной стороны, конечно, коза Мири — предмет его вожделений… а с другой, опять же, — брать свои слова обратно перед этим псом, басурманом?
Муфтий спокойно попыхивал своей трубкой. Синеватый дымок вился в тихом воздухе приближающихся сумерек и стлался по скалам. Великая борьба началась в поповской душе. Скотовод бросился в схватку с православием.
— Муфтий Исрим, жалкий, неверующий басурман, — подал, наконец, голос поп, — допускаю, что не умею воскрешать мертвых. Беру свои слова обратно. — Поп перекрестился. — А за сколько же ты отдашь свою козу?
Начался долгий торг. Муфтий заломил за нее две других козы и сто пиастров. Поп давал одну козу и пятьдесят. Наконец он сказал, что пойдет на условия муфтия, но если тот заявит, что его аллах — не аллах.
На сей раз поп довольно попыхивал турецким табаком в своей трубке.
— Аллах — не аллах! — сказал муфтий, ибо сто пиастров — немалые деньги.
Так поп Богумиров откупил у муфтия Исрима его любимицу. На другой день неверующие собаки привели попу козу Мири.
Стоял ясный солнечный день, какими славится осень на Балканах. В такой день, глядя на голубое небо, так и хочется петь.
Горный поток течет сверху от Малого Караджинаца к Большому, чистый и прозрачный, как небосвод, который отражается в нем.
В такой день у человека легко на душе. А особенно легко попу Богумирову…
Он идет и ведет на веревке свою новую козу Мири, гордость своего козьего стада. Он идет с ней от истоков ручья, берущего начало в горном роднике, что бьет из-под земли под вершиной горы Мегадище. И на душе у него легко и весело.
Только что он выкупал ее в роднике, свою козу, которая прежде принадлежала муфтию Исриму. Он столкнул ее в воду и пропел:
— Господи помилуй, господи помилуй!..
Не могла же его коза остаться мусульманкой.

Когда бы мне ни довелось услышать выступление судебного эксперта, я всегда вспоминаю пана Шпалу, эксперта по керосину и крупам.
Все, кто ходил в то же кафе, что и он, не могли его терпеть, потому что пан Шпала относился к ним с нескрываемым презрением, смотрел на них сверху вниз. В его глазах они были этакими ничтожными козявками, ибо ничего не смыслили в керосине. Он их считал за ограниченных, недалеких людей, полуидиотов, ибо они в равной степени ничего не смыслили и в крупах.
Пан Шпала был убежден, что эти люди — совершеннейшие нули, лишние индивиды, над которыми он высится, как Гималаи над достопамятной горой Ржип.
Свое окружение, складывающееся из такого множества невежд, над которыми он сиял точно солнце, пан Шпала переносил с величайшим трудом. Его взгляд был холодным, даже ледяным. Он отлично понимал, что столь выдающаяся личность, стоящая много выше окружающих, не может дружески и приветливо улыбаться всякому, имея в кармане визитные карточки, на которых начертано: «Вацлав Шпала, судебный эксперт по керосину и крупам, коммерции советник и…»
Ну что значит какая-то там наука или искусство по сравнению с керосином и крупами?!
Когда в зале суда пан Шпала излагал свое компетентное заключение, его голос звучал восторженно, вдохновенно:
— Представленный на мою экспертизу керосин являет собой бесцветную, прозрачную жидкость, отдающую на языке горьким вкусом нефти.
После этого я смог уяснить себе причину меланхолии, таящейся в его взгляде. Когда во имя справедливости приходится лизать керосин…
А с каким подъемом громогласно швырял он в зал заключение на крупы:
— Представленная на мою экспертизу крупа была наощупь жирной, что можно объяснить недостаточной ее сушкой. При более тщательном рассмотрении мною установлено, что крупа была дробленой и мелкой, сиречь преднамеренно испорченной.
Вот каков был пан Шпала. Позже, когда у него уже начались провалы в памяти, давая в один прекрасный день заключение о крупе, уважаемый эксперт на суде заявил:
— Представленная на мою экспертизу крупа являет собой бесцветную прозрачную жидкость, отдающую на языке горьким вкусом нефти.
Господа судьи, разумеется, ничего не заметили и вынесли обвиняемому приговор за фальсификацию съестных припасов.
А пан Шпала терял память чем дальше, тем разительней, и последнее данное им заключение гласило:
— Означенная крупа не была в запломбированных бутылях, а также не имела надписи «Для освещения».
Другим судебным экспертом, которого я хорошо знал, был пан Гавел. Провидению было угодно, дабы он стал судебным экспертом в области кинологии, то есть, другими словами, принадлежал к числу специалистов, которые, что называется, на собаках собаку съели. Этот господин относился к разряду так называемых пророчествующих, ясновидящих экспертов, что к вящему удивлению всех собравшихся в лучшем виде продемонстрировал в Беле-под-Бездезом. История началась со ссоры двух соседей, которые перекидывались в картишки, и у одного из них, по несчастной случайности, из рукава вывалилась карта.
После этого все и всяческие отношения между ними были прерваны, и размолвка зашла так далеко, что один сосед пристрелил на своем участке собаку другого — как раз того незадачливого игрока. Потерпевший показывал, что цена собаке была свыше трехсот крон, и спустя три года после этого события пана Гавла пригласили, чтобы в качестве судебного эксперта он дал свое компетентное заключение. Пан Гавел приехал на суд и первым делом распорядился выкопать собачьи кости. Потребовалось немало времени, чтобы найти, где эта собака была зарыта. Мигом осмотрев остатки костей, судебный эксперт заявил:
— Собака была крупной породы, чистокровный сенбернар, белый с подпалинами, и, как я вижу, по кличке…
— Благодарю вас, — перебил его судья, — это уже стоит в протоколе.
Конечно, не все судебные эксперты такие энтузиасты. Один эксперт по поджогам, что называется, шутливо заявил на суде:
— Я не могу с полной ответственностью утверждать, что обследованная рига была подожжена якобы путем обливания соломы керосином, поскольку, как было установлено, на месте происшествия не было обнаружено бутылки из-под керосина, во-вторых, было установлено, что в риге никакой соломы не хранилось, а в-третьих, как я слышал, в нее ударила молния.
Словом, таковы эксперты, которые ни за какие коврижки не хотят молчать, но, наоборот, почитают своим долгом как можно больше наговорить господам судьям и уважаемой публике.
При разборе одного дела судом присяжных заседателей эксперт по почеркам доказывал, что обвиняемый наверное подписал вексель, потому что у буквы «б» — круглое брюшко.
— У вас тоже круглое брюшко, но вы же не «б»! — воскликнул в ответ обвиняемый, чем еще более усугубил свою вину в глазах присяжных заседателей.
Таким образом, очень часто возникают споры между судебными экспертами с одной стороны, и подсудимыми и их защитниками — с другой.
Долг адвоката, видимо, заключается в том, чтобы всегда подвергать сомнению серьезность отзывов экспертизы. Множество подобного рода ошибок было обнаружено при экспертизе графической. Защитникам тут легко. Например, они могут сослаться на нашумевший венский процесс 1897 года: лишь через два года после того, как обвиняемый был осужден, добровольно явился с повинной преступник, показавший, что это он писал письмо, из-за которого один человек был невинно приговорен к двадцати годам тюрьмы. Это было дело об убийстве. Жертву письмом заманили на место преступления, и все эксперты, проводившие разбор почерка, в один голос заявили, что письмо написал невинно осужденный.
Один защитник усомнился в обоснованности выводов специалистов по графической экспертизе со следующей точки зрения.
В настоящее время во всех учебных заведениях, особенно коммерческих, введена единая система письма. У пятидесяти с лишним процентов людей одинаковые почерки. Кроме того, доказано, что у двадцати процентов людей вообще нет своего выработавшегося почерка, что они пишут раз так, а раз — эдак.
Один судебный эксперт по почеркам заявил, что некий документ писала молоденькая девушка в возбужденном состоянии. В действительности его написал ее дедушка.
Недавно в одном суде случился ляпсус. Специалиста по графической экспертизе пригласили по делу, в котором фигурировало письмо, напечатанное на пишущей машинке.
Что бедняге оставалось делать? Памятуя о присяге, эксперт показал, что письмо отпечатано на машинке, систему которой он не может распознать, а также, что ему неизвестно, умеет ли подсудимый писать на машинке.
(Суд поверил обвиняемому, что он не умеет писать на машинке, поскольку тот окончил Чешско-славянское коммерческое училище.)
Интересными бывают заключения судебных врачей. От их выводов в девяноста процентах случаев зависит судьба обвиняемого.
Весьма странно поэтому выглядит, когда один и тот же судебно-медицинский эксперт в заключении говорит: «Подозрительным представляется необычайное спокойствие обвиняемого»; а через две недели, по другому делу: «Подозрительной представляется необычайная взволнованность обвиняемого»!
Бывает, однако, приходится слышать такое, что у публики от ужаса волосы встают дыбом.
Я сам знаю одного судебного врача, который выглядит весьма благодушно; тем не менее, давая недавно заключение, этот человек сказал:
— По собственному опыту знаю, что после удара топором не каждый валится сразу…

I
Утреннее солнце только-только вышло из тумана, лениво перекатывающегося по равнине, и едва успело позолотить купол нижедомбровского костела, а Миха Гамо, самый богатый хозяин в Мурском округе,[5] уже шел узкой дорожкой над крутым берегом стремительной Муры. То и дело Миха останавливался и вперял свой взор в рокочущие, бурно несущиеся под обрывом воды, словно в этой мутной воде, уносящей с собой ил и глину, искал ответ на мучивший его вопрос: «Кому же это вчера вечером в корчме у перевоза он пообещал в жены свою дочь Матешу?» Река Мура ревела монотонную песню вздувшихся вод, а Миха Гамо, в недоумении мотая головой, осторожно ступал по круче и — хотя утренний холодок еще не прошел — уже стирал пот, обильно выступавший у него на лбу от обуревавших беднягу мыслей. Пожалуй, еще ни разу в жизни ему не приходилось шевелить мозгами так, как сейчас, когда он шагал по этой дорожке.
Миха помнит, что позавчера на хорватскую сторону, в Лудбрег, погнал продавать десять лошадей и взял с собой трех своих работников — Крумовика, Растика и Касицу. Удачно расторговавшись, Миха Гамо вчера пополудни вместе с работниками заехал в корчму подле мурского перевоза. Миха хорошо знает, что в трактире было многолюдно. Матео Лучик, корчмарь проклятый, подает вино, несет рыбу, сготовленную с красным перцем, вино приходится по вкусу…
— А не пропить ли нам, хлопцы, жеребенка, что всю дорогу так ржал? — обратился хозяин к работникам.
— Что ж, благослови господи, — молвили хлопцы.
И велит Миха Гамо подать «запитой жбан», который с дырочками по верхнему краю: если его нагнуть, вино, вместо в рот, течет на пол. Не всякий умеет пить из такого жбана. Одно его ухо в виде трубочки, другое — тоже. Одно отверстие нужно заткнуть пальцем, а вино тянуть из второго. Но зато какой смак пить вино из такого глиняного «запитого жбана»! Льется оно быстро, приятно, а тепло по телу разливается медленно. Выпьешь, наполнишь и подашь соседу. Тот выпьет, нальет, — и пьет третий. Глаза начинают блестеть. Вдруг все, кто сидит вокруг «запитого жбана», затягивают песню… А Матео Лучик, корчмарь проклятый, все носит да носит вино, то, которое с холмов за Вараждином.
— Ну, какой я хозяин? — спрашивает Гамо.
— Хороший хозяин, — отвечают Крумовик, Растик и Касица, и пьют за его здоровье. А вместе с ними пьет крестьянин Леков, а также Опатрник, Келин и другие — бог знает, кто там был еще! За столом знакомые лица, пьешь с ними без разбору, но кто это был, не помнишь. Расцелуешься с кем-нибудь, и не знаешь, с кем побратался. Перед глазами все вертится то в одну, то в другую сторону, ноги как-то странно тяжелеют, а ты сидишь и весело мурлычешь себе под нос: «Дой, дой, дой-дум-дой, дум-дум…»
И ведешь странные разговоры… И почему-то божишься, и даешь такую страшную клятву, что Матео Лучик осеняет себя крестным знамением! А ты клянешься, что отдашь единственную дочь Матешу кому-то в жены. Кому-то, с кем ты только что побратался, и о ком, когда проспишься, не знаешь, кто это был, откуда явился, пришел ли с тобой, либо в корчме уже сидел, а может пришел позже или…
Не знаешь, был ли то Крумовик, Растик, а может третий работник — Касица, кривой на один глаз. Не помнишь никого, и только знаешь, что божился, что давал ужасную клятву, бога живого призывал в свидетели, да кажется и крест целовал, и от всех потребовал засвидетельствовать твою страшную клятву…
Дойдя в рассуждениях до этого места, несчастный отец сокрушенно опустился в траву на берегу и стал думать, как быть дальше?
На душе у Гамо было так тяжко, что он едва не заплакал. Но к счастью, вовремя вспомнив про своего патрона святого Миху, горемыка вознес к нему молитву, умоляя вложить добрый совет в его непутевую, глупую и безрассудную голову.
Помолившись, Гамо уставился в желтые воды разлившейся Муры, стал смотреть, как кипят водовороты, как волны подмывают берег и швыряют на него клочья грязной пены.
И тут, когда Миха зажмурился, ему почудилось, будто святой шепчет ему на ухо: «Незаметно порасспроси своих работников, что и как вчера было».
— Спасибо тебе, святой Михо, — набожно произнес крестьянин. — Ежели твой совет окажется хорош, вставлю твой образ в новую раму, а раму отдам позолотить, святой Михо!
Поднялся горемычный и пошел берегом к своей плавучей мельнице, где его работники мололи кукурузу. Но чем ближе подходил к двум баркам, привязанным цепями к берегу, с большим мельничным колесом между барками, чем громче доносился до его ушей мельничный перестук и сиповатое пение работников, тем медленнее переставлял ноги Миха Гамо.
— А вдруг я посулил дочку Крумовику или Растику, либо одноглазому Касице?
Хозяин перешел мостик и с бьющимся сердцем вступил в маленькую мукомольню.
— Добар дан, хлопцы, бог в помощь!
— И тебе добар дан, хозяин!
— Ну как, ребята, не болит после вчерашнего голова?
— Не болит, хозяин. А твое здоровьице?
— Бог ми дал здраве, Крумовик. Пришел посмотреть, как идет помол. Много мучицы из новой кукурузы?
— Сыплется с божьей помощью…
Миха Гамо уселся на мешок и несмело спросил:
— А что, хлопцы, не говорил я часом у Матео Лучика чего негожего?
Работники в смущении замялись.
— Да как тебе сказать, — серьезно начал Растик, самый старший, — что-то не припомним. Вот только Матешу кому-то обещал в жены. Ведь это вино — чертово зелье, как говорит наш священник! — делает чудеса и туманит голову… Но вот кому ты ее посулил, того не знаем. Толкуем тут об этом промеж собой и никак не вспомним. И клятву давал, даже страшно вспомнить какую! Правду я говорю, Касица?
— Хорошо так, по-христиански ты начал божиться, хозяин, — вздохнув, заговорил одноглазый Касица. — «У име отца и сына и светего духа, я, Миха Гамо, клянусь…» А потом нечистым поклялся и алых чертей помянул… совсем как ксендз на проповеди.
— И дикого кабана, — печально добавил Крумовик и перекрестился. — «Пусть, говоришь, дикий кабан своим нечистым рылом выроет мое тело…» Правда, Касица? «И да не будет мне на том свете покоя, пускай молния сожжет мой двор, вода затопит поля, воронье выклюет очи, пусть лишусь одного за другим всех членов, пусть волки отгрызут мои уши, и сгниют мои внутренности. Помереть мне без святого причастия, и пускай черт через навозную кучу протащит мою душу в геенну огненную, где буду гореть во веки веков…»
— «И помогай мне в том бог отец, бог сын и дух святой», — сказал ты… А вот кому ты дал такую клятву, того мы не знаем, все в голове смешалось… — закончил Растик.
II
Печальный воротился Миха Гамо к себе домой. Обед уже на столе, от капусты поднимается пар, вкусно пахнет тушеная баранина, но хозяин ни к чему не притрагивается, только постукивает пальцами по лавке.
— Ох-хо-хо, Матеша, — вздыхает Гамо, — на старости лет твой отец совсем сошел с ума… Вчера вечером в корчме у Лучика неизвестно кому посулил тебя в жены и связал себя страшной клятвою. А теперь даже не знаю, кто этот человек и откуда пришел. Так-то бывает с пьяницами. Схожу-ка вечером к Матео Лучику, может он будет знать…
— Ну, и что из этого, — через силу улыбнулась Матеша, — ешь, тушеная баранина быстро стынет…
III
Встретить в Помурье некрасивую девушку не так-то просто. Ведь недаром, хоть это и не очень изысканно, на хорватской стороне говорится: «В Помурье купи коня и девушку себе сосватай».
А самые красивые девчата во всем Помурье, говорят, в селе Нижний Домбров. Какой же тогда должна была быть Матеша Гамо, коли о ней шла молва, будто она в Нижнем Домброве — первая красавица?
И хлопцы в Помурье красивые, сильные, статные. «Конь из Междумурья хорошо ходит в упряжке, а помурянский хлопец в драке стоит троих!» — утверждают, опять же, на хорватской стороне.
А самым красивым парнем в Нижнем Домброве был Власий Сочибабик. По вечерам, когда деревенские хлопцы сиживали с девчатами у ворот под шелковицами, Власий ходил взад и вперед по деревне и не смотрел ни на одну лавочку. Только на ту, где сидела Матеша Гамо.
А когда вечерами парни с песнями гуляли по селу, Матеша Гамо не слышала никого. Только звонкий голос Сочибабика. Но если со своей сестрой Драгункой Власий уже поделился тем, что любит Матешу, то до сих пор еще ничего не сказал об этом самой Матеше, хотя, правда, от Драгунки ей уже было обо всем известно.
Потому-то и кручинилась Матеша, что Сочибабик до сих пор не пришел к ним и не сказал Михе Гамо, что любит его дочь, которая знала, что отец принес бы вина, угостил Сочибабика, а потом позвал бы Матешу и объявил:
— Вот что, Матеша, пришел Сочибабик и, как велит честной обычай, просит тебя в жены. И я, твой отец, тебя спрашиваю: хочешь выйти за Сочибабика?
— Хочу, — ответила бы Матеша.
Потом бы все поцеловали крест и за счастливый исход сватовства поставили в церкви свечку.
А через неделю пришел бы отец Власия сосед Филипп с дядей Стражбой.
— Кум мой и сосед, — начал бы Филипп, — идем мы к тебе выпить чарку и по-хорошему спросить: не передумал ли ты, часом, выдать свою дочь Матешу за моего сына?
— Не передумал, — сказал бы Гамо, — добро пожаловать! Выпьем по чарке и съедим белую курочку…
Матеша бы изжарила белую курицу, съела ее сердце — чтобы быть счастливой в замужестве, — и теперь настал бы черед старого Сочибабика и дядьки Стражбы поставить в церкви большую свечку, на которой свечник из города красиво напишет: «Матеша Гамо, Власий Сочибабик — бог дай здоровье!» Свечи будут гореть с утра до вечера целую неделю, а когда догорят, священник позовет Матешу и Власия к себе в дом, где их уже будут ждать Миха Гамо с отцом жениха Филиппом, дядюшка Стражба и нотариус Палим Врашень. Будут составлять свадебный контракт и сговариваться, какие поля и сколько голов скота даст отец Сочибабику на обзаведение, а Миха Гамо дочери в приданое.
Подпишут контракт, выпьют на радостях доброго вина и тут же заплатят священнику за «оповьедение», оглашение свадьбы.
— Мда… — скажет ксендз, — не грех бы, соседи, немного и накинуть…
Прибавят достойному отцу. Потом первое, второе, третье оглашение, а там и свадьба недалеко…
От таких мыслей Матеша не выдержала и заплакала. Ах, какой глупый Сочибабик! Все ходит да ходит вечерами, слова не скажет, только многозначительно улыбается, когда проходит мимо…
Пополудни Матеша Гамо отправилась на перевоз к Матео Лучику.
— Матео Лучик, милый крестный, сослужи мне большую службу…
Матео уже старик, а сердце все равно взыграет, когда рядом красивая дивчина…
— Чего же ты хочешь, голубица Матеша?
— Матео, милый, батюшка вчера выпивал у тебя. А кто тут был с ним еще?
— Ваши работники, Матеша. Потом крестьяне Леков, Опатрник, Келин и другие, и все были пьяные. Еще сидел…
— А Сочибабика не было, милый Лучик?
— Не было, голубица. Сидели Леков, Опатрник, Келин…
— Ах, Матео, Матео, век буду бога за тебя молить! Только скажи вечером батюшке, что был здесь Власий Сочибабик, и ему он обещал меня в жены. И скрепил свое слово клятвой!
— Хорошо, голубица Матеша, сделаю, как велишь, только поцелуй старика Матео… Так, голубица. Иди и не терзайся боле, Матео Лучик всегда держит слово.
Бежит голубица Матеша по проселку, спешит домой, с легким сердцем глядит на людей, собирающих крупные кукурузные початки, и весело напевает…
IV
Вечером Миха Гамо сел на лавку перед корчмой у перевоза, раскурил трубку, прихлопнул у себя на носу пару назойливых комаров и повел с Матео Лучиком такой разговор:
— Так что, Матео, доволен вчерашним?
— Доволен, Михо. А ты?
— А я, Матео, недоволен. Согрешил я. — Гамо вздохнул и продолжал: — Пьешь и не знаешь, что говоришь…
— Зато Сочибабик будет доволен, Михо!
— Причем тут Сочибабик, с чего ты его приплел, Матео? Ведь я толкую о том, что вчера нагрешил и что все мы грешники окаянные…
— Эх, Михо, Михо, да разве ты не помнишь, как поклялся Сочибабику, что отдашь ему Матешу?
Гамо встал и крепко обнял корчмаря:
— Тяжелое бремя свалилось с моей души! Сочибабик — добрый хлопец, а его отец Филипп — мой добрый сосед, с ним мы уже не раз братались. Никто не помнил, кому я клятвенно обещал свою Матешу. Касица, Растик, Крумовик, Леков, Опатрник, Келин — все впали в грех и упились, чисто нехристи. И я вместе с ними… Я уж совсем было подумал: а не затесался ли промеж нас нечистый, и ему, черту проклятому с черной кровью, посулил ты, Михо, отдать Матешу?.. Разве не слыхать в Междумурье, что нечистая сила нет-нет да и объявится среди крещеных? Помню, покойница мать когда-то сказывала, как ее отец — царство ему небесное — раз поехал в Вараждин покупать коровенок. Купил и вечером идет восвояси. Да, а накупил-то одних черных. Гонит их себе по дороге и вдруг где-то за Лудбрегом чует — в воздухе запахло серой. Ни зги не видно, а коровы нежданно-негаданно начинают светиться. Шерсть блестит, махнут хвостом — молнии сыплются, словом, обратились коровки в леших — Матео перекрестился, — превратились в страшных чертей, в злых духов, сплясали чардаш вокруг бедняги и сгинули в дубняке. Дед до смерти перепугался и пошел домой без коровенок. Только всю дорогу слышал в лесу голоса: «Мачада, мачада, мачада». Говорят, больше всего чертей родится в трясинах вдоль Муры и Дравы… А вот люди почему-то болтали, что-де старый проиграл их в карты. Живешь и не знаешь, не доведется ли встретить беса либо злого духа… Это меня и мучило! А ну, Матео, неси бутылку вина, смоем страх и выпьем за здоровье Сочибабика…
И попивает Миха Гамо с Лучиком. Он уже развеселился и обещает корчмарю, что на свадьбе его Матеши будут пить только Лучиково вино, то, которое с холмов за Вараждином. А пустые бутылки гость разбивает об дерево… На счастье! Миха швыряет бутылку, а что приносят осколки? Осколки приносят счастье, предвещают, что будущее будет добрым и счастливым…
Прокричав об этом во мрак ночи, Миха в темноте отправляется домой. Но сбивается с дороги. Вместо в поля, подается тропкой вдоль Муры. Тропа узкая, а Миха на ней чардаш пляшет. Вспугивает дроф, что спят в камыше на болоте, и те с криками пробуждаются.
Большая птица дрофа пролетает поблизости и задевает Миху крылом. Луна не светит, дорога погружена в темноту, ни воды не видно, ни островерхих камышей. Дурная примета…
Миха выходит из камышовых зарослей и идет по крутому берегу. Внизу отбивают такт воды Муры, и Миха все танцует и танцует чардаш: «Эй-гоп-гоп, гоп-гоп-гоп!» Вот он лихо топнул над самым обрывом… — берег обрывается, и затягивает Мура богатого хозяина, тонет Миха, в ушах гул, в мозгу последняя мысль, что нечистая сила завлекла его… Так Матео Лучик чуть-чуть не стал самым последним, кто еще видел Миху Гамо в живых.
V
В Вараждине, в одной из тюремных камер при тамошнем суде, лежат пятеро юных бродяг, пятеро вечных скитальцев, которых похватали в Вараждинской жупании жандармы пандуры и сельские стражники.
Близится вечер. Молодые бродяги лежат на нарах и рассказывают друг другу про свои странствия.
— Тяжело приходится нашему брату в Хорватии, — говорит один. — За Загребом крестьянам самим нечего есть. А из Загреба идешь через горы, там и крестьян-то нету. Одни скалы, вот как эти стены голые. Еле-еле перебиваешься…
— То ли дело в Далмации, — заметил второй, — туда нужно путь держать. В погребах повсюду вино. Далматинцы тебя угостят, итальянцы напоят пьяным. Или иди в Крайну. В Крайне тоже добрый народ. Накормят дорожного человека и денег дадут.
— У Постойны хорошо просить милостыню, — сказал малорослый оборванец, — стоишь себе, люди подходят и уже знают, что идешь по белу свету, и подают…
— Эх, ребятки, — тихо заговорил старый бродяга, который до сих пор не проронил ни слова, — и чего вас только по чужим дальним краям носит? За Муру отправляйтесь, в Междумурье. Вот где дорожных людей встречают!.. Иду я раз, а там перевоз через Муру, при нем корчма. Вхожу. Подносят мне вина, пью с крестьянами из «запитого жбана», будто я им ровня. И тут ко мне подходит один богатый хозяин, в летах уже, звать Михой, обнимает и обещает, что отдаст мне в жены свою дочку. А свое обещание скрепляет клятвой, такою страшной клятвой, что у меня от ужаса волосы встали дыбом. Побожился богородицей, отцом, сыном и святым духом… Так-то, ребята, вот до чего славно на тамошних дорогах!
— Чего ж ты там, старый, не остался?
— При крещении выпал я у крестного из рук, и с тех пор на меня валится несчастье за несчастьем. Утром выхожу из корчмы, а навстречу жандарм. «Пошли-ка вместе, веселей будет», — говорит проклятый, чтоб отца его с матерью убило!.. И ведет меня в город, из города гонят по этапу через Драву, а из Лудбрега сюда в жупанию, в Вараждин… А в Междумурье непременно ступайте, ребята. Угостят вас на славу, посулят дочерей в жены и поклянутся страшной клятвою.
VI
Матеша Гамо в тревоге мечется по двору, места себе найти не может. Поздний вечер, а отец все нейдет. «Упаси бог, задержался батюшка, и пошел выпивши вдоль Муры, — думает она в крайнем беспокойстве. — Берег крутой, обрывистый, того и гляди обвалится — батюшка тяжелый…»
— Эй, Растик, — кричит девушка, — возьми два фонаря, пойдем встречать батюшку, нашего хозяина!
Сонный Растик, ворча, зажигает фонари, и оба выходят в ночь.
— Скажи мне, Растик, — просит Матеша, — ты когда-нибудь слыхал про разбойников-водяных?
— Слыхал еще в малолетстве. Начнет, бывало, бабка вечером рассказывать, а мы, несмышленыши, давай реветь. Как эти водяные, страшные разбойники, схоронившись под берегом, людей подстерегают. Идешь по берегу, а эта нечисть, охрани нас богородица, тихонько пересвистывается… Кто тот свист услышит, пускай прочтет задом наперед «Верую». Потому, если не помолишься, быть тебе добычей этой злой разбойничьей силы… Когда они свищут, берег ходуном ходит и обваливается. И не заметишь, как подведут тебя к самому краю, а там свалишься в воду, прямо в омут. А омут, он тоже живая злая сила. Это крутятся в воде души грешные, души утопленников. Схватит тебя такая грешная душа, а коли и сам грешен, вытрясет из тебя река душу, и утонешь. А кто в жизни не согрешит? Мало таких, что бог смилуется и пошлет им ангела-хранителя. Да и то пока прилетит ангел, надо самому одолеть дьявола, задержать водоворот… а тем временем сорвется с языка непотребное слово, и господь от тебя отвратится, не поможет… Правда, бывают в воде невинные души детей малых, которые утонут. Если повезет и проглотишь с водой такую детскую душеньку, то божий младенец замолвит за тебя словечко. Хуже, ежели с водой проглотишь душу самоубийцы. Самоубийце нет покою, душа его в тебе мечется, швырнет тебя на берег, оглушит, увязнешь в водяных травах и пропадешь, совсем пропадешь, не выберешься…
— А что водяники, Растик?
— Те у нас не водятся, Матеша. Быстрина водяникам не впрок. В быстрой воде они тощают и теряют силу. Если водяник народится из кала самоубийцы, «самомора», то на Муре обратится в чайку и улетит на болота в Полуденную землю. А то на Балатон…
— Подай мне один фонарь, Растик, мы уже подле мельницы, сяду в лодку, поплыву вдоль берега, может быть батюшка, наш хозяин, вздумал ворочаться над Мурой, честь ей и хвала… А ты, Растик, иди через кукурузное поле, может статься, хозяин пошел той дорогой. Поплыву на перевоз, к Матео Лучику. Коли батюшка там, встретимся у Лучика.
Матеша отвязала лодку, укрепила на носу фонарь, с плеском опустились в воду весла, и пошла лодка по Муре — честь ей и хвала, как сказала Матеша. Ибо это очень плохо — прогневить реку…
И вот плывет Матеша в ночь, плывет в темноту, лишь на несколько метров освещаемую фонарем. Лучи света, бормотание воды, плеск весел тревожат сон береговых ласточек, которые, испуганно выпархивая из гнезд на высоком берегу, своим писком разрывают ночную тишину.
Матеша гребет подле самого берега, сворачивает за излучину реки и вдруг видит…
Видит фонарь на носу другой лодки, слышит, как по воде ударяют весла.
Неужели кто из домбровских выехал на рыбалку?
Матеша подплывает ближе, уже видит лодку, слышит чьи-то вздохи… Лодки уже почти повстречались. И тут в тишине реки со встречной лодки раздается:
— Дай бог здоровья, Матеша!
— И тебе тоже, Сочибабик! — отвечает Матеша.
Оказывается, это Сочибабик вздыхает в лодке, Власий Сочибабик, добрый хлопец, сын соседа Филиппа…
— Куда так поздно, Матеша?
— Батюшка пошел под вечер к Матео Лучику, а мне вдруг стало страшно — где он? Места не могу себе найти. Растик пошел ему навстречу через поле, а я поплыла к перевозу вдоль берега.
Лодки уже плывут рядом.
— А ты куда собрался на ночь глядя? Может рыбачить? Что-то я сети не вижу…
— Эх, пропащая моя жизнь, — вздыхает Сочибабик. — Вот ведь и сон уже дома не идет. Все лежу, думаю-думаю, а потом вышел, отвязал лодку и поплыл, куда понесло течением. Нету мне счастья, Матеша! Так, значит, твой батюшка, слыхать по деревне, вчера У Лучика тебя просватал? И сам не знает, кому. Говорят, даже клятву дал…
Лодка Сочибабика скользнула вперед.
— Обожди, не греби! — кричит Матеша. — Я тебя плохо слышу.
Лодки поплыли рядом.
— Отчего ты, говоришь, такой несчастный, Сочибабик?
Сочибабик горько вздохнул и в раздумье заговорил:
— Девчат у нас полно, и красивых. Но ты, Матеша, самая красивая! Эх, лучше бы мне утопиться!
— Опять ты меня обогнал. Почему тебе лучше утопиться?
— Посулил тебя батюшка кому-то в жены…
Сочибабик взмахнул веслами, и Матеше пришлось приналечь, чтобы догнать беднягу.
— А ты не думай об этом — да не греби ты так — не думай об этом… да не греби, тебе говорят! Это в корчме только так, языки чесали. Доволен теперь, Сочибабик?..
Сочибабик вздохнул и едва слышно спросил:
— А за меня тебя отдадут? — И опять уплыл далеко вперед.
— Да обождешь ты меня или нет?! — кричит Матеша. — Перестань грести, дай ответить!
Опять лодки поравнялись. Сочибабик побледнел, сидит, не говорит ни слова, ждет ответа.
— Так что, Матеша, станешь моей женой?
— Стану с помощью божьей, Сочибабик… Ой, перевернешь лодку! Нагнись самую малость, и я нагнусь, Власий… когда хочешь поцеловаться.
С тихими всплесками весла загребают воду, и плывет в двух лодках счастливая пара — Матеша и Власий. Течение несет их, а они говорят о том, как любят друг дружку… Но что это за звуки вдруг доносятся откуда-то с берега? Уханье, притопывание… «Эй-гоп-гоп, гоп-гоп-гоп!» Вроде, кто-то пляшет чардаш.
Все ближе и ближе звуки.
— Батюшка идет! — восклицает Матеша. — Бог его от всякого зла охрани, святой Миха заступись!
— Эй-гоп-гоп, гоп-гоп-гоп! — И вдруг слышно, как обрывается берег, что-то тяжелое в ночной тишине грузно рухнуло в воду…
Быстрее ветра летят к тому месту обе лодки. И вот уже видно: в воде барахтается Миха Гамо, мечется, точно проглотил душу самоубийцы. Закрутило его в том самом месте, где роятся души грешных утопленников, завертел Миху омут, но Сочибабик своей сильной рукой уже вытаскивает его из воды. И что же видит Матеша, догнав Сочибабикову лодку? Батюшка весь мокрый лежит в лодке, и Власий его откачивает.
Лодки бесшумно плывут к перевозу… На зов выбегает Матео Лучик, безжизненного Миху выносят на берег, с берега несут в горницу. За ними идет Матеша, заламывает руки и причитает. В горнице Миху опускают на пол, на грудь кладут крест, потом приносят святую воду, окропляют ему виски, в рот вливают глоток водки. И… оживает Миха, медленно раскрывает веки. Тогда крест, положенный на грудь, придвигают ближе к горлу. И Миха слабым голосом спрашивает: «Где я?» Теперь прикладывают крест ко лбу, чтобы в голове у несчастного пришли в порядок мысли… Вот уже Миха приподнимается, обводит окружающих взглядом. Увидел Лучика, глянул на Матешу, заметил Сочибабика и в слезы: «Ах, я остолоп окаянный, пьяница треклятый, оставил бы Матешу без отца, а Сочибабика без тестя…» Матеша крепко держит Власия за руку и шепчет:
— Слышишь, Власий?
Плачет Миха, и сквозь всхлипывания спрашивает, не видали ли, мол, на реке голубой огонек, чертово знамение, иль не слыхали таинственных голосов: «Мачада, мачада, мачада?»
— Не слыхали.
— Хвала святому Михе, — возрадовался Гамо, — ушел я все же от нечистой силы.
А вот и Растик подошел, вынырнул из темноты.
Услышал, что тут приключилось, и тоже в слезы. Плачет и рассказывает, что в поле, по дороге сюда, у него внезапно погас фонарь — а ведь ветерка ни-ни, даже самого слабого. И с вышины раздалось: «Джву-у-у джву-у-у».
Ишь, как расходились злые духи!
А Матео божится, что когда после ухода Михи он спустил с цепи пса, тот трижды тяжело и протяжно взвыл в сторону реки…
Страшно выходить в такую жуткую ночь, и все остаются у Лучика ночевать. Кому же хочется угодить к злым духам на расправу? Матеша уже уснула в каморке, а мужики еще сидят в горнице и толкуют. Заходит речь о клятве. Дивится Сочибабик, когда Миха рассказывает, что-де ему, Власию, он дал клятву. Но Матео Лучик подтверждает, да и Растик припоминает, что именно Сочибабику Миха обещал Матешу. Крестится Власий: ведь в тот вечер он сидел на берегу и удил рыбу. А коли был на берегу, значит не мог быть здесь…
Чудны дела твои, о господи! Ужель Междумурье избрали таинственные силы своим игрищем? Но все же к ним, к этим таинственным силам, вознес Власий Сочибабик краткую благодарственную молитву, когда с мыслью о Матеше засыпал на столе в корчме у Матео Лучика…
VII
По случаю своего избавления от посягательств нечистой силы Миха Гамо отслужил благодарственный молебен.
«Сущие язычники», — молвил про себя приходский священник, пряча в ларец полученные за молебен деньги и улыбаясь, как, пожалуй, улыбается всякий достойный и честной отец в Междумурье в предвкушении свадьбы в семье богатого мужика. Уже догорела толстая свеча с именами Матеши и Сочибабика, уже было первое «оповьедение»: священник объявил о предстоящей свадьбе, а нотариус Палим Врашень дал свидетелям подписать свадебный контракт, начинающийся словами: «Во Христе-боге верный Гамо…»
Целую четверть часа понадобилось Михе, чтобы поставить свою подпись. Сознавая всю важность вершимого, он решил особо постараться, но растерялся и букву х вообще не смог вспомнить ни за что на свете, потом еле-еле вывел м малое, которому прибавил пару лишних ножек, а напоследок, желая все это исправить и смущенный тем, что на него глядит столько народу, так надавил на перо, что чернила растеклись по всему контракту и, вместо имени и фамилии, Миха намалевал небольшое озерцо.
Наконец Миха поставил три крестика, и свидетели — дядюшка Стражба и другие — последовали его примеру, призывая все время святого духа, дабы тот помог им в этом непомерно тяжком и важном деле. И святой дух внял их мольбам. Аккуратные ровные крестики, означающие по порядку подписи Стражбы, Лекова, Опатрника, а также Власиева отца Филиппа, выстроились в ряд под контрактом. И нотариус Палим Врашень, как лицо официальное и верный друг, засвидетельствовал их своей рукой внизу под документом.
До самой смерти Миха останется главою рода, а после его кончины все унаследует Матеша. До самой Михиной смерти молодые будут жить в доме Сочибабиков, а с Гамова хозяйства получать проценты, установленные раз и навсегда, независимо от того, сколько уродится, больше ли хлеба будет ссыпано в закрома или скота выращено, чем летось. Сочибабиков отец тоже до самой смерти будет старейшиной своего рода и свою «кущу» уступает Власию лишь из отцовской любви, а не то что отказываясь от старшинства в роду. Как помрет старый Сочибабик, главою семьи станет Власий, и увековечит светлую память родителя, воздвигнув на дороге из Нижнего Домброва в Верхний часовенку во имя святого Филиппа Иерейского — исповедника, который, будучи рожден во Флоренции, восьми лет отроду вместе с ослом провалился в подвал и божьим промыслом спасен от увечья и смерти…
А после Гамовой кончины Матеша соорудит часовенку во имя отцова патрона святого Михи, архангела, ангела второго чина; и стоять той часовенке на дороге к перевозу. А коли сына родит Матеша, да будет ему имя Миха…
— Ты меня послушай, — сказал Миха своему соседу Филиппу, когда тот перед составлением контракта изъявил желание, чтобы ребенка нарекли Филиппом, — святому Филиппу честь и хвала, но святой Миха посильнее святитель: самого черта вытурил из рая…
Второй раз огласил священник свадьбу, огласил и в третий. И вот уже идут жених и невеста к нотариусу, где их запишут в книгу браков Венгерского Королевства, а нотариус сочетает по гражданскому обряду…[6]
После гражданского бракосочетания идут в костел, пригоршнями разбрасывая по дороге горох.
У нотариуса Миха Гамо выпил два литра вина и теперь плачет от умиления. Сестра Сочибабика Драгунка ведет невесту. А та, в сапожках, набитых листьями подорожника — чтобы быть в семейной жизни согласию, — медленно ступает по дороге и все оглядывается назад, на Сочибабика. Веселого и радостного, его по старому доброму обычаю ведут в костел за руки дружки…
Глянь-ка, там, напротив, играется пестрый, в три цвета котенок, мух ловит. Добрый, очень добрый знак!
— Славный котенок, — всхлипывает дядюшка Стражба, не менее растроганный, чем счастливый отец Миха, — мышонка бы ему кинуть…
Учитель Вовик ожидает с музыкантами на хорах. Свадебный кортеж входит в костел. Зазвучал орган, загудел контрабас, заплакала скрипка, раскатился дробью барабан… нескладная получается музыка, — кто в лес, кто по дрова, — но хватает за душу, как положено в церкви.
Миху так и подмывает бежать на хоры, обнять учителя Вовика. Да понимает, что не гоже, что надо обождать, пока не завершатся обряды.
Достойный отец поднимается на кафедру и читает евангелие: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
— Бог отдал сына своего единородного, — восклицает священник, — и ты, Михо, отдаешь единственное дитя свое и прощаешься с ним!
Миха, растроганный сравнением, льет слезы и громко плачет, а тем временем ксендз продолжает говорить, что очень счастлив должен быть Миха, ибо его дочь выходит за доброго парня, за славного парня, за Власия Сочибабика.
Гладко говорит священник, хоть порой и умолкает на мгновение. Верно вспоминает про пятьдесят гульденов, что блестят у него в ларце, пятьдесят гульденов за свадебные обряды. А может, умолкая, предвкушает в думах, какие блюда будут подавать на свадьбе и какое вино.
Истекло полчаса, и священник кончает тем, с чего начал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
На хорах, учуяв аромат свадебного пиршества, музыканты играют что есть мочи.
Святая месса. Прислуживающие не поспевают за преподобным отцом, глотают слова, и вместо «vobiscum»[7] звучит только «кум», потом уже «ум», а под конец и вовсе одно «м».
«Ite, missa est!»[8] — то была единственная фраза, которую духовный отец — да простит ему бог прегрешения — произнес целиком. Прислужники вместо «Deo gracias!»[9] нетерпеливо отвечают резким «драс», и на них обрушивается грозный взгляд священника.
Глаза всех присутствующих — а церковь набита битком — устремлены на Сочибабика и Матешу, преклонивших колени перед алтарем. Вовик тем временем перекидывается несколькими словами с работником Растиком и таинственным голосом сообщает музыкантам, что на столе сегодня будет даже олений окорок!
И уже раздается в безмолвной тишине Матешино «да», звучное и ясное. А из толпы гостей, собравшихся на свадьбу, вырывается глубокий голос растроганного Михи: «Да, да, да!»
На хорах весело играют музыканты, из костела повалили любопытные, свадебные гости поспешают…
Власий ведет Матешу, за ними музыканты, а перед костелом их встречает новая музыка. Сам папаша Бурга, старый цыган, ждет со своими цимбалистами свадебный кортеж. Цыгане заступают дорогу и играют песни. А там, у сельского правления, пять хлопцев на конях, в одной руке старые сабли, в другой — полыхающие факелы. Скачут галопом, саблями размахивают, выкрикивают что-то непонятное…
Требуют с жениха выкуп — в память о турецком владычестве, когда в десяти часах пути отсюда, в Большой Каниже, сто лет назад развевалось зеленое знамя и сверкал полумесяц канижского пашалыка, когда орды турецкие рыскали по всему краю, по всему Мурскому округу и налагали на свадебных гостей контрибуцию.
Жених платит парням по золотому. Подходят стрелки во главе с «жупаном» и просят денег на порох. И они получают положенное.
А вот уже идет навстречу старуха Григориха, повивальная бабка, и в плясе трижды обходит вокруг новобрачных, чтобы у них были дети. В это время молодые стрелки — аж уши закладывает — палят из пистолетов и ружей, чтобы дети были сильными, статными и удалыми, никого и ничего не боялись.
Цыгане и другие музыканты играют, свадебный кортеж прибавляет шагу и сворачивает за деревню. Разве пиршество будет не в селе? Нет, не в селе. У Матео Лучика справляют свадьбу, там Миха дал клятву, что выдаст Матешу за Сочибабика. А коли старый Гамо не преступил клятвы, то там же быть и веселью.
Половина деревни идет пировать. Матео Лучик встречает гостей на полпути. Сам он тоже привел с хорватской стороны цыган-музыкантов.
Теперь играют три музыки, дорога проходит незаметно, и вот уже гости у Матео, и только теперь видят, как хитроумно трактирщик все устроил.
Ряд длинных, под белыми скатертями столов стоит на зеленой лужайке, в тени деревьев помурянского леса.
Под большими противнями виднеется огонь, припасен сырой хворост, чтобы вечером, когда налетят комары, отогнать их едким дымом…
VIII
Такого свадебного пира давно не помнил никто в Междумурье!
Две зажаренные целиком воловьи туши ждут, когда их разрежут, кур съедено целыми десятками, четыре оленьих окорока пришлись по вкусу гостям и музыкантам. Шницели из дрофьего мяса, мягкие кукурузные лепешки с абрикосовым повидлом. Все, что можно изжарить, испечь, потушить…
И красное вараждинское вино пьют гости. Прольешь литр, никто и не заметит — вино течет рекой…
Раздается пение, гремит музыка, трава истоптана, гости отплясывают чардаш.
Миха притопывает, плачет, смеется. Стражба притопывает и плачет.
А что Келин, Опатрник, Леков, Касица, Растик, Крумовик и другие? А приходский священник, учитель Вовик и нотариус Палим Врашень? Все пьют, едят, ремешки отпускают, разговаривают. Все друг другу ровня.
А Матео Лучик, тот в это время толкует у перевоза с четырьмя молодыми бродягами.
— В Вараждине, в аресте, — говорит один из них, их глава и предводитель, — рассказал нам старый бродяга, будто в Междумурье хорошо встречают нашего брата. Даже дочерей обещают в жены, как ему посулил однажды некий Миха. Но старик занемог в тюрьме. «Вижу, братцы, — сказал он нам, — что помру и Муры не увижу. Ступайте в Междумурье, разыщите Миху и передайту ему поклон от старого бродяжки, с которым он пил из „запитого“ жбана и ему же обещал свою дочку. В чем и поклялся».
Матео Лучик покачал головой и заговорил так:
— Эхе-хе-хе, ребятушки, не дело Михе про то поминать, выпил он тогда лишнего и согрешил. Лучше помалкивайте, ребята. А вот пришли вы в добрый час: как раз свадьбу играем. Закусите с нами, чем бог послал, выпьете, про пути-дороги расскажите. Но про то, коли крещеные, — ни слова!..
Так и не передали ребята слова старого бродяги… Пили, ели, объелись, упились со всеми прочими, кроме Матеши, Сочибабика, ксендза и нотариуса Палима.
А когда ночью Сочибабик вел в родительский дом свою Матешу, один-единственный пьяненький цыган увязался за ними и пиликал всю дорогу. Остальных порастеряли, посеяли… Которых сон свалил на меже, которых в лесу помурянском. А то скатились под столы, где оленьи, дрофьи, куриные, воловьи кости. Где лужи вина, понемногу впитываясь в землю, окрашивали ее в кровавый цвет, словно тут было великое побоище, которого, вопреки всем традициям, слава богу не случилось…
IX
На другой день утром Матео Лучик сидит у перевоза и считает, сколько доходу принесла ему клятва Михи Гамо. Считает-считает и блаженно улыбается, потому что мало-помалу исполнится его заветная мечта: сколотить небольшой капиталец и уехать в родные места над Которской бухтой. Ибо Матео далматинец.
Купит он себе усадебку, будет хозяйствовать, поглядывать на скалы и море в бухте Которской, вспоминать годы, прожитые на берегу Муры в корчме у перевоза, посмеиваться над силой нечистою и чувствовать на щеке единственный поцелуй красавицы Матеши, при воспоминании о котором его дедовское сердце так и взыграет…
Загадочное исчезновение пророка Ильи
Слушается в коллегии уголовного суда в Израиле
(спор о праве гражданском)
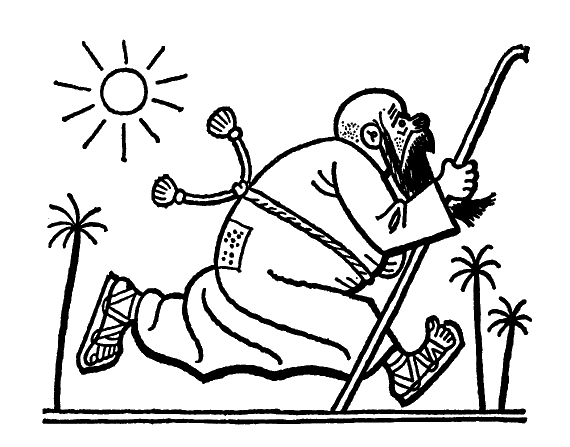
В городе Халате в Сирии недавно обнаружили свиток папируса, расшифровка которого была сопряжена с немалыми трудностями. Тем не менее, это все же удалось сделать, и цивилизованный мир обогатился еще одной жемчужиной древней письменности.
По-видимому, свиток представляет собой судебный отчет из газеты, выходившей в Израиле во времена царя Ахава. Его полный текст публикуется ниже:
«Читатели нашей газеты, разумеется, еще помнят о загадочном исчезновении пророка Ильи, который последний раз был замечен в школе пророков в Галгале, где в десять утра съел на завтрак кусок ослиной колбасы. К трем часам он дошел до Вифлеема и там встретился с Елисеем. Как утверждает Елисей, пророк Илья был в веселом расположении духа и по дороге весьма приятно беседовал с поселянами, трудившимися в поле. Так они дошли до самого Иерихона и вместе спускались к Иордану, чтобы к вечеру достичь Израиля. До города еще примерно оставалось около двух часов пути, когда путники подошли к большому лесу, излюбленному месту загородных прогулок тамошних жителей. На небольшой лесной полянке играло и резвилось несколько мальчиков из недалекой деревни Банбофа. Увидев г-на пророка Илью, который, как это явствует из снимка, опубликованного в позапрошлом номере, был лыс, дети подняли крик: „Плешивый, плешивый!“ Тогда, по показаниям школьников Иегу и Набота, пророк Илья свистнул, и из лесной чащи немедля вышли два медведя, которые растерзали и разорвали восьмерых расшалившихся мальчиков, а затем убежали обратно в лес. Пророк же, видя последствия своего необдуманного поступка, скрылся, и по сей день не был задержан. Его сообщник Елисей, заключенный под стражу, уверяет, будто пророк Илья вознесся на огненной колеснице на небо, что представляется, однако, пустой отговоркой, исключительно преследующей цель навести органы сыска на неправильный след.
Отцы растерзанных и разорванных школьников, требуя возмещения причиненного ущерба, незамедлительно подали на пророка Илью исковую жалобу. И состоявшееся вчера судебное разбирательство убедило нас в том, что их главная цель — выколотить из случившегося капитал. Все истцы были евреи, а потому не приходится удивляться, что процесс они рассматривают как форменное золотое дно для себя. Пророку Илье принадлежит дом № 247 в Израиле и дом № 8 в Вифлееме. Суд согласился с адвокатами потерпевших, и ввиду отсутствия ответчика заочно конфисковал его имущество, чтобы возместить ущерб, определению размеров которого и было посвящено вчерашнее заседание.
Мы не намерены принимать ту или иную сторону, но все же думается, что главная вина падает на головы самих несчастных жертв этого прискорбного события. В силу своего более чем поверхностного воспитания дети нынче не почитают заслуженных людей. Зачитываются одними полицейскими романами, в которых потоками течет кровь, посещают театральные спектакли, которые тоже отнюдь не в силах влить благородство в их души. Да и кинематографы вносят в это свою заметную лепту. Честные деятели народные, к каковым относился и загадочно пропавший пророк Илья, неизвестны нашей молодежи. Доколе же наша молодежь будет увлекаться порнографическими открытками, вместо которых ей уже давно следовало бы рассматривать фотографии выдающихся мужей? Будь это так, та большая трагедия, которая разыгралась у Банбофы, стала бы, конечно, невозможной. Предварительным следствием установлено, что упомянутые медведи были совершенно ручными и тоже принадлежали г-ну пророку Илье, который когда-то странствовал с ними по всей Палестине. Вступив затем на стезю пророка, он из благодарности отпустил их на свободу в лесу близ Банбофы (предварительно, конечно, заручившись согласием уважаемого Всепалестинского комитета). Итак, загадка пока не могла быть полностью раскрыта, поскольку главный свидетель и обвиняемый пророк Илья отсутствует. Были распространены слухи, будто бы он покончил с собой и утопился в Мертвом море. По поводу этого мы можем единственно повторить то, что уже писали ранее, а именно, что все эти слухи слишком смехотворны, ибо плотность Мертвого моря в четыре раза превышает плотность морской воды, и утонуть в нем он бы, следовательно, просто-напросто не смог. Ведь на поверхности Мертвого моря можно весьма удобно выспаться! Более вероятно, что г-н пророк Илья бежал в Финикию, откуда непременно вскоре приятно поразит нас одной из тех содержательных и увлекательных политических передовиц, которые всегда пользуются таким успехом у наших читателей.
Заседание суда открылось около восьми утра. Первым со своими притязаниями выступил г-н Метцелес, мальчик которого был растерзан медведями.
— Во сколько вы оцениваете причиненный вам ущерб?
— Боже праведный, что значит — во сколько? Это такой ущерб, что я уже никогда не стану на ноги! Ведь мой Арон был такой хороший мальчик, и на нем было двое штанов, — а!.. что я говорю — четверо штанов, четыре жилетки, пять пиджаков, в каждом кармане были часы, и всего этого, боже праведный, нет! Парня нет, штанов нет, жилеток нет, пиджаков нет, часов тоже нет!
— Послушайте, господин Метцелес, не могло же в тот роковой день на нем быть столько всего надето?!
— Боже праведный, как это так — не могло?! На нем было еще больше! Восемь штанов, восемь жилеток, восемь пиджаков, в каждом кармане часы, цепочка и золотая монета, то есть, господа судьи, три золотые монеты!
— Послушайте, господин Метцелес, сдается, вы изрядно хватаете через край. Скажите-ка нам начистоту, как было дело.
— Я хватаю через край?! Иегова свидетель, что я говорю такую же правду, как чисты ваши сердца. Боже праведный, вы видите, я плачу, я плачу… Дело было так. Арон говорит: «Папочка, дорогой мой папочка, я иду немножко пройтись». А я его так любил, так любил, и было прохладно, и поэтому я ему говорю: «Арон, надень еще одни штаны, одну жилетку, один пиджак, и вот тебе двое часов, чтобы ты знал, когда вернуться домой».
— А зачем двое?
— Боже праведный, одни он сунул в карман жилетки, а когда надел вторую, эти вторые сунул в нее, чтобы не надо было расстегиваться. Тут приходит мамочка, дорогая наша мамочка, и говорит: «Арон, на улице прохладно, надень еще одни штаны, одну жилетку и пиджак, и часы еще одни, чтобы тебе не надо было расстегиваться». Потом пришла бабушка и сказала: «Арон, надень еще одни штаны, одну жилетку и один пиджак, и возьми вот эти мои часы, чтобы знать, который час». После этого пришел брат, один брат, второй брат, третий брат, четвертый брат.
Председатель (иронически):
— А что сестры?
— Слава тебе господи, сестры у него были тоже, одна сестра, вторая, третья, четвертая, пятая, потом он еще имел один дядя, второй дядя, третий дядя и целых три тети, и все ему сказали: «Надень еще одни штаны», — ой? что я говорю! — сказали: «Надень двое штанов, две жилетки, два пиджака и часы». И Арон всех послушался: папочку, мамочку, дедушку, бабушку, четырех братьев и пять сестер, трех дядьев и трех теток. Итого, господа судьи: девятнадцать штанов, девятнадцать жилеток, девятнадцать пиджаков, девятнадцать часов и девятнадцать золотых монет. Иегова праведный, они его сожрали с этим со всем, и теперь я нищий, совсем нищий, и требую поэтому, чтобы возместить убыток, одну тонну серебра за эти вещи, за испуг — вторую тонну, за это несчастье — третью, за горе и печаль — четвертую, за эти слезы — пятую и за то, что я потерял кормильца, — шестую.
— Позвольте, позвольте, разве такой мальчуган мог быть вашим кормильцем?
— Боже праведный, это же кормилец, раз он кормит отца. Если бы не он, я бы не мог требовать шести тонн серебра! Так потерял я, боже праведный, кормильца, или нет?!
Суд отложил рассмотрение дела на неопределенный срок».
Да будут реабилитированы животные!
Уважаемое собрание, друзья, чехи, земляки!
Воистину примечательно, что в Чехии нашлась партия, у которой достало решимости выступить с новой программой, один из пунктов которой гласит: «Да будут, наконец, реабилитированы животные!» Ибо доселе отношение к животным было таково, что все они обычно пользовались дурною славой.
Возьмем, к примеру, хотя бы свинью. С незапамятных времен представление о свиньях неразрывно связывалось с грязью. Если кого обзывали «свинья», то почти всегда подразумевали «грязная». Существовали даже целые народы, бойкотировавшие свиней! Евреи, например. Моисей утверждал, будто бы употребление свинины в пищу может повлечь за собой заболевание половыми болезнями. И надо сказать, что во времена Моисея именно это многим евреям служило отговоркой. Лишь под влиянием христианства, отменявшего все иудейские законы, употребление свинины расширилось, и католическая церковь, дабы доказать Моисееву неправоту, даже смогла ввести свиные пиршества.
И все же, несмотря ни на что, свинью принято считать существом нечистоплотным, потому что она валяется в грязи. Позвольте, но ведь бальнеологи это рекомендуют и людям! Возьмем хотя бы Пиштяны и пиштянские грязи. В этих грязях для ради своего здоровья валяется даже аристократия, а ведь никому не придет в голову назвать такого аристократа свиньей! Да и доктор Кучера, рекомендующий это лечение, тоже вам не свинья… И все же свиньи, послужившие страждущему человечеству столь блестящим примером, окружены презрением, и их имя, особенно ныне, во время выборов, служит в качестве ругательства, которым один противник честит другого, коли желает назвать того бесчестным. А доводилось вам, уважаемые избиратели, когда-нибудь видеть бесчестную свинью?
Не кажется ли вам, что этакий чистенький кабанчик в витрине мясной лавки есть существо поистине неуязвимого характера? Даже после смерти он улыбается тем, кто его съест. Хотелось бы мне знать, что бы делали на его месте вы!
И точно так же, как со свиньями, обстоит дело и с другими животными, которые служат людям на пользу, а кандидатам в депутаты — для брани. Тем из вас, которые часто посещают собрания избирателей, видимо, уже не раз приходилось слышать выкрики: «Заткнитесь вы, скотина!» Сей возглас, опять-таки, обесчещивает определенный вид животных. Говоря так, я отнюдь не имею в виду кандидатов в депутаты, но, наоборот, хочу подчеркнуть, что подобный выкрик, по сути дела, восхваляет того кандидата, которому был адресован. Потому что такая скотина, вол, например, стоит гораздо дороже, чем кандидат. Такой вол весит семьсот кило, тогда как кандидат не потянет и восьмидесяти. Если продать вола, то за него вы получите четыре сотни, а за кандидата вам не дадут и ломаного гроша!
Приходилось также слышать, как на политическом собрании кандидату крикнули: «Собака!» Назови кто-нибудь так меня, я бы еще поблагодарил человека, почтившего меня именем благороднейшей из тварей, и обещал бы, следуя по стопам этого животного, в зубах носить из Вены все их требования.
В общем, общественность способна единственно на то, чтобы систематически оскорблять животных; скромным и добрым собакам дают имена разных монархов. Так, собаку молочника, которая терпеливо и безропотно таскает тележку с продуктами, почему-то называют Нероном. Маленькую таксу, которая в жизни никому не причиняла вреда и никого не тиранит, называют Цезарем.
О собаках говорят с наибольшим презрением, потому что ими обзывают людей. А ведь в то же время мы видим, что на службе безопасности под названием собак сыскных они ныне оказывают неоценимые услуги всему человечеству.
Итак, животных было бы желательно реабилитировать. По крайней мере в лице этих наиболее разумных представителей всего животного царства… Будет также очень хорошо, когда всякий, оскорбивший сыскную собаку, будет привлекаться к ответственности как за оскорбление должностных лиц.
Так не пожалеем же сил, чтобы в будущем животных считали за существа, к которым каждая политическая партия должна относиться с известным уважением, а не то, чтобы прибегать к их именам для разнузданной агитации в ходе настоящей избирательной кампании.
Дело о подкупе практиканта Бахуры

Практикант пражского магистрата Бахура был молодой неискушенный человек, ничего не ведавший о том, что в городской управе его подстерегают тысячи опасностей. Что нужно обладать поистине твердым характером, чтобы не поддаться искушению и не оказаться замешанным в какой-нибудь скандальной истории со взятками — вкупе с начальством или без оного.
Практикант Бахура не ведал, что гидра маммоны подкарауливает нежные души практикантов городской управы, чтобы проглотить их точь-в-точь так же, как уже были проглочены до них почтенные седины многих отцов города.
Все крупные скандалы, разразившиеся в связи с подкупами магистратских чиновников и столь сильно всколыхнувшие общественное мнение,[10] не выдерживают даже самого отдаленного сравнения с делом практиканта Бахуры.
Позорно запятнав себя взяточничеством, Бахура, точно Иуда, скитается нынче где-то по свету. Ибо чистое знамя ратуши было вновь повергнуто Бахурой в грязь и кал, и даже более того — этим последним им было замарано.
Но чтобы вникнуть в это дело, начать сию грязную историю придется с Малой Страны.
На Малой Стране, в лабиринте улочек в стиле глубокой старины, находится пивная пана Шедивого.
Пан Шедивый был простодушнейшим человеком старой закваски, который, невзирая на постановления пражского магистрата, может быть уже целые десятилетия выводил воздушный шланг от пивного насоса прямо в писсуар.
Посетители никогда не жаловались, потому как пиво было ядреное, а в писсуаре всегда стояла темнота.
Писсуар сей, играющий в деле о подкупе практиканта Бахуры немаловажную роль, не имел окна, которое выходило бы в узкую вентиляционную шахту. Не имел отверстия, которое бросало бы хоть самую малость света божьего в это унылое, отсыревшее помещение, чтобы сделать его чуточку светлей и приятней.
Однако те, кто хаживал к пану Шедивому пропустить кружку-другую пива, были довольны. Консервативная Малая Страна в своем каменном оцепенении не протестовала.
Но настали времена, когда биение новой жизни захлестнуло, наконец, и писсуар пана Шедивого.
Строительная комиссия обнаружила оба вопиющих упущения: воздушный шланг, выходящий в писсуар (дело незамедлительно передано санитарной комиссии), и писсуар без освещения, без продушин для воздуха.
Вот при каких обстоятельствах практикант Бахура в качестве протоколиста строительной комиссии впервые встретился с паном Шедивым.
Уничтожающим взглядом следил юный протоколист за всеми движениями и жестами хозяина пивной, который резко и даже агрессивно настаивал на своем: что-де всей высокочтимой комиссии еще и на свете не было, когда тут, в этом закутке, уже справляли малую нужду, и что это всех всегда устраивало. Никакого света для этого не надобно, главное, чтоб была сточная канавка, этого вполне достаточно. И дверь, опять же, имеется, а это довольно большой проем для воздуха.
— Только вы полегче… полегче на поворотах, — увещевали его члены комиссии, — а то еще нанесете оскорбление должностным лицам… Может, выдумаете, это бог весть какая сласть — ходить по писсуарам?
Пану Шедивому было предписано пробить стенку и сделать в писсуаре окно. А поскольку для этого требуется частично перестроить помещение, к питейному заведению относящееся, то владелец последнего обязан представить планы и прошение, дабы пробить эту стенку ему было дозволено.
Все это происходило в первой половине дня, а уже во второй явилась санитарная комиссия, которая и предписала пану Шедивому через проем, что будет пробит в стенке, вывести воздушный шланг в узкий колодец вентиляционной шахты.
От всего этого старик Шедивый едва не тронулся. Пробить стенку надо — так ему предписано. Но, с другой стороны, нужно составить план и подать прошение, чтобы ему это разрешили. А воздушный шланг для вящей гигиены вывести туда, куда выходят окна всех уборных в доме!
Всю ночь Шедивый не спал. А наутро отправился к каменщику, чтобы тот сделал план, как устроить окно. Затем посредством одного профессионального составителя ходатайств из Градчан подал прошение, дабы планы сии, писсуара касающиеся, в кратчайший срок достоуважаемым магистратом были утверждены и ему пробить окно в писсуаре было дозволено. Он же за это скромным своим и нравственным на старости лет поведением отблагодарить обязуется…
Прошло три недели, ответа на прошение все не было.
Трактирщик Шедивый собственнолично отправился в магистрат попросить ускорить решение. В строительном отделе он застал одного практиканта Бахуру, поскольку остальные уже с девяти перекусывали в ресторане «У Корынтов», что расположен напротив. Сейчас как раз пробило двенадцать.
— Что вам угодно? — исполненным достоинства голосом вопросил практикант Бахура.
— Я, молодой человек, насчет своего писсуара, Шедивого писсуар, с Малой Страны, может изволите помнить?..
— Да-с, помню, помню, — великодушно ответил Бахура. — Как-будто помню… И чего же вы, собственно, добиваетесь?
— Да вот три недели уже прошло. Не грех бы и ускорить. И клиенты, опять же, ждут не дождутся, когда окно будет. Тешатся, точно дети малые… А-то ведь у нас тишь да гладь. Потому это целое событие.
Бахура вспомнил, что прошение Шедивого уже давно рассмотрено и решено положительно, а теперь лежит вон там в ящике. Только отправить старику ответ. Но начальник ему велел:
— Не посылайте еще. Такой трактирщик может и обождать. Таких людей магистрат должен держать в ежовых рукавицах! Так-то…
И после краткого молчания Бахура серьезно произнес:
— Ну-с, посмотрим, посмотрим, что для вас можно будет сделать…
Спустя две недели трактирщик Шедивый зашел туда опять, и Бахура ему снова весьма серьезно и напыщенно ответил:
— Ну-с, посмотрим, посмотрим, что для вас можно будет сделать…
Примерно через неделю после их последнего разговора Бахура совершенно приватно шел по Франтишковой набережной. На свидание с барышней, коей было весьма приятно, что за ней ухаживает молодой человек из городской управы.
Чудесный теплый ясный день клонился к вечеру.
Бахура остановился у киоска с сельтерской, выпил стакан с малиновым сиропом, второй — с лимонным, и пошел дальше, весь в сладких мечтах о своей барышне, с которой вот-вот должен был встретиться.
Градчаны на горизонте, Петршинский холм, утопающий в зелени, цветущие каштаны на Стрелецком острове… Но тут посреди всего этого великолепия у Бахуры вдруг разболелся живот. Перед уходом из дому он съел стакан йогурта, национального блюда побежденных в недавней войне болгар, и вот теперь сельтерская с сиропом малиновым и с сиропом лимонным довершала в лабиринте кишок магистратского практиканта неумолимый и совершенно неизбежный процесс.
На набережной против Градчан стоит в парке маленький домик. Совсем малюсенький, но куда важнее других окольных домов. («Иногда стены маленькой избушки надежнее твердыни Жижки», — всегда вспоминаю я, когда прохожу мимо этого терема-теремка).
На домике две буквы. Со стороны набережной можно разобрать «М»; со стороны детской площадки, что в парке на набережной, виднеется более деликатно «Ж».
Аки лев ринулся Бахура внутрь! Как изнывающий от жажды араб бросается в оазисе к источнику, как призывная комиссия налетает на рекрутов…
— Кабинку второго класса или, может, прикажете первый?
— Второй, — скромно, но быстро ответил Бахура.
Посмотрев на него, старушка сказала:
— А ведь я вас, молодой человек, откуда-то знаю, — и вырвав талончик из книжечки, протянула его Бахуре.
Но тут он, опустив руку в карман, в ужасе воскликнул:
— Этого не может быть! Я ведь думал, у меня еще есть двугривенный!
Бабка снова окинула его взглядом и медленно — чем еще более усугубила ужасное положение практиканта — сказала:
— А знаете, откуда я вас знаю? Я вас видела у брата моего, трактирщика Шедивого с Малой Страны. Я была дома, когда вы изволили у нас быть с комиссией насчет писсуара. Берите, берите талончик. За вами не пропадет.
Бахура влетел в уютную кабинку, а когда после счастливый и веселый выходил оттуда, бабка сказала ему вдогонку:
— Вы уж не забудьте, молодой человек. Пусть там брата уважат насчет сортира.
Назавтра, ни о чем больше не спрашивая начальника, Бахура отправил пану Шедивому положительный ответ и утвержденные планы. И облегченно вздохнул.
Каждый день около девяти утра господин магистратский советник Станек заходил в то маленькое зданьице на Франтишковой набережной, где практикант Бахура совершил гнусное преступление, дав себя подкупить. Господин советник навещал бабку, чтобы побеседовать с ней и проинформироваться о мнении общественности относительно того, как отцы города ведут вверенное им хозяйство. Ибо бабка из общественной уборной была для него гласом народа; такая уж была у него слабость.
— Эхе-хе-хе, сударь, теперь и самый маленький за взяткой тянется, — разговорилась старушка. — А уж эти магистратские… Пустишь его даром того… опорожниться, сразу тебе на руку играет. Как брату моему…
И старушенция, не опуская никаких подробностей, поведала господину советнику гнусную историю о том, как был подкуплен практикант Бахура.
Теперь на месте Бахуры уже другой практикант. А Бахура по окончании дисциплинарного расследования, когда ему было доказано лихоимство по делу трактирщика Шедивого, из магистрата был уволен.
Ныне он, точно Иуда, скитается где-то по Европе. В последний раз его видели в Гамбурге, когда Бахура уж что-то больно подозрительно смотрел в черные воды канала.
Кто-то заслышал его бормотание:
— Хоть бы абонемент дали на весь год… Эх-ма, мелких жуликов всегда вешают…
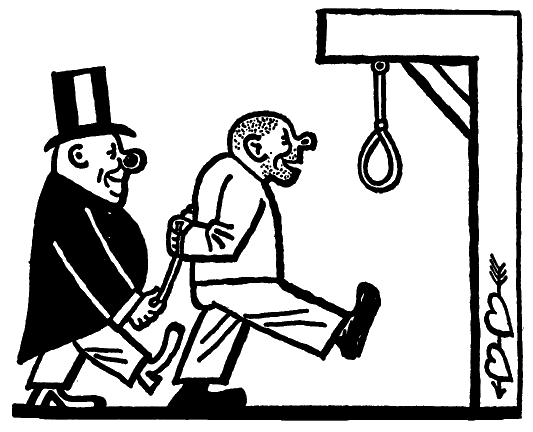
Интересно, что люди нуждаются в житейских советах самого разнообразного свойства и что большинство из них не думает самостоятельно, а ждет чьего-нибудь совета со стороны. Позвольте и мне преподать вам несколько житейских советов. Увидите, что если вы примете их, жизнь непременно вас будет радовать.
I
Радуй и радуйся!
Если на вашу долю не выпало ничего отрадного и нет у вас ни больших, ни малых радостей, то, чтобы не разучиться радоваться, вы найдете замену собственной радости в радости других. Если на ком-нибудь новая шляпа или новое платье, то этого человека должно поздравить, даже если вы его видите в первый раз. Подойдите к нему на улице, представьтесь и идите с ним рядом, неустанно выражая свою радость по поводу того, как ему идет эта обновка. Если он будет выказывать недовольство, поставьте ему на вид, что с его стороны это просто хамство — препятствовать вам от всего сердца радоваться вместе с ним. Радоваться надо всему: цветам, голубому небу, облачкам, витринам, улыбкам прохожих, и эту радость передавать другим. Останавливайте на улице всех подряд и говорите им:
— С вашего разрешения, сударь (или сударыня), как хорошо сегодня греет и светит солнышко!
— Смею вас заверить, почтеннейший, что я испытываю чудовищную радость оттого, что вон там по крыше лезет кошка…
— Позвольте вам представиться, глубокоуважаемый, и сообщить, что сегодня утром я встретил одного господина с замечательно красивой бородой, белой, как молоко. Его борода доставила мне неподдельную радость, которой я и спешу поделиться с вами.
Если вас затащат в парадное и наденут смирительную рубашку, вы должны смотреть на тех, кто это будет делать, как можно приветливей — чтобы не испортить им радость.
II
Не смейтесь чужой беде!
Очень часто нам приходится быть свидетелями чужой беды. В таких случаях надо проявлять чуткость. Если, к примеру, на ваших глазах человек попал под трамвай и ему отхватило обе ноги, то не следует над ним насмехаться и спрашивать, как он теперь будет играть в футбол! Остерегайтесь отпускать насмешливые замечания. Если грузовик отрежет кому-нибудь голову, то ее нельзя брать в руки и прикидывать, сколько она потянет. Правда, для человека тонкой натуры такая отрезанная голова подчас оказывается испытанием не из легких. Однако попробуйте все же выдержать и воздержаться от жестоких замечаний. Страдания ваших сограждан никогда не должны вас смешить! Увидев, что кто-нибудь тонет и при этом корчит гримасы, не смейте хохотать до упаду. А не в силах удержаться — лучше уйдите. Не смейтесь над пострадавшим! Если горит театр, оставьте все замечания при себе. Взаправдашний интеллигент не смеется над вздутой рожей человека, у которого болят зубы, не проезжается на счет похорон или железнодорожной катастрофы.
III
Не суйтесь ночью в комнату для прислуги!
Коли вы женаты, можете быть уверены, что ни одна жена не простит, увидев, как вы ночью ломитесь в каморку к вашей прислуге. Необходимо всегда иметь про запас какое-нибудь объяснение, которому, впрочем, ни одна жена все равно не поверит. Отговариваться тем, что вы-де решили посмотреть, чем занята служанка, — явный идиотизм. Говорить, что вы спутали каморку для прислуги с собственной спальней, — проявление кретинизма. Оправдываться, что вы лунатик, — означает, что у вас размягчение мозга. Самое лучшее оправдание, на мой взгляд, — это заявить, что вы забыли у нее в комнате носовой платок!
IV
Не сквернословьте!
Грубое ругательство очень часто ранит. Помните, что бранным словом можно оскорбить человека. Слова вроде «осел» или «корова» не следовало бы употреблять в разговоре. Существующие взгляды на эффект ругательств не во всем правильны. Не думайте, что если вы кого-нибудь обзываете в глаза идиотом, то тот, к кому вы адресуетесь, непременно пропустит ваши слова мимо ушей и оставит их без ответа. Правда, есть люди, которых в жизни столько крыли последними словами, что они уже и впрямь стали толстокожими, как бегемот. Но это редкие исключения. Это касается только депутатов, политиков и других общественных деятелей. Большинство из них привыкло к ругани в парламенте. Мы же должны помнить, что жизнь — это не Национальное собрание, где без ругани немыслимы политические дебаты. Ступить на стезю словесного хамства вне парламента — означает обнаружить невысокий уровень своего интеллекта. Кроме этого, следует честно признать, что ругательства, которыми мы пользуемся, нередко содержат изрядную толику безвкусицы. Обычно мы довольствуемся самым что ни на есть похабным ругательством, ляпаем, что попало, не задумываясь над тем, что ведь и в ругани может быть определенное изящество, что и отборными выражениями можно передать очень многое. Зачем, в самом деле, обязательно прибегать к выражениям, вроде: «Вы глупы как пробка!», если это можно обойти, сказав: «Сдается мне, что вы тоже учите овцу носить поноску!» Вот почему я рекомендую избегать грубых ругательств и больше говорить афоризмами, которыми тоже можно выразить немало. Афоризмы ранят не столь болезненно, отвечать на них трудно, и победа в перебранке остается за вами. Сказать кому-нибудь: «Убирайся подобру-поздорову!» — это отнюдь не столь изысканно, как воспользоваться словами мыслителя Томаса Карлейля: «Самое для вас выгодное — не казать носу в пределах нашей солнечной системы, а где-нибудь в другом месте присмотреть себе планетку с запашком».
Правда, некоторым очень трудно отвыкнуть от привычки ругаться. В таком случае попробуйте нечто наподобие лечения мышьяковыми пилюльками: начав с тридцати, сведите число ругательств к одному в день.
V
Не ходите по белу свету с унылой и неприветливой миной!
Помни об этом каждый, фотографам не было бы надобности нам напоминать, что нужно приветливо смотреть в объектив. Следует отдавать себе отчет в том, что не может быть ничего отвратней, нежели смотреть волком, когда тебя преследуют несчастья. Если во всем усматривать только веселую сторону, обязательно будешь счастлив и не обозлишься, даже когда твоя жена сбежит с другим. Потеряв состояние, смейся до колик. Если тебя ведут на виселицу, рассказывай священнику анекдоты, смейся и сохраняй полное спокойствие.
Свое счастье нужно пестовать, что позволит в конце концов обрести то чувство спокойной уверенности, когда человек улыбается всему свету, и его сердце исполнено приветливости и радушия.
VI
Не покупайте зайца в мешке!
Заяц вовсе не такое трусливое создание, как мы привыкли об этом читать. Будучи раздражен, он кусается, царапается, фыркает и вообще оказывает сопротивление. Поэтому, покупая зайца в мешке, соблюдайте максимальную осмотрительность, чтобы он не искусал вас, когда вы будете его оттуда вынимать. Заячьи зубы могут оказаться опасными для человека. Кроме того, запихивание зайцев в мешок являет собой истязание животных, не говоря уже о том, что вас могут обжулить и вместо зайца сунуть в мешок кота.
VII
Чем больше говорят тебе, тем меньше говори сам
Если, к примеру, папаша взрослой дочери, за которой ты ухаживаешь, обрушив на твою голову шквал слов, пытается принудить тебя к помолвке, немедленно вспомни, что серьезный коммерсант никогда чрезмерно не распространяется. Не забывай, какой огромный ущерб ты сам себе нанесешь скоропалительным решением, принятым только под влиянием трепа этого болтуна. Бери свою шляпу и, не говоря ни слова, уходи, чтобы больше никогда не возвращаться. Смотри на такого трепача, навязывающего тебе свою дочь, с невозмутимым спокойствием. Чем больше распространяется папаша, тем меньше говори сам.
Подобным же образом веди себя и по отношению к жене. Пускай она говорит, пока не устанет и не растратит всю энергию. Ты же тем временем ходи по комнате и насвистывай мотивчик из какой-нибудь оперетки. Не дай увлечь себя потоком слов своей жены. Оставь ее, пусть атакует, она уморится. Не говори ничего. Когда это осточертеет тебе до тошноты, поступи, как в первом случае: возьми шляпу и уйди.
На суде много не говори. Помни, что многие угодили за решетку именно потому, что говорили без меры.
VIII
Не спеши выполнить решение, принятое в гневе!
Есть люди, которые с крайней легкостью впадают в гнев. Далеко не каждый способен сдержать себя, когда ему на голову падает с подоконника цветочный горшок, или если ему по ошибке плеснут в лицо серной кислотой, или обломают об него палку. Помните, что немедленно подумать о возмездии — еще не значит получить удовлетворение, и что очень важно не горячиться. Например, вам нечаянно наступит на ногу какой-нибудь атлет. В своем безрассудстве вы хотите сразу же ему отплатить… в итоге на этом свете от вас останется мокрое место.
Во что бы то ни стало удержи свою руку, не будь жестоким. Помни, что очень нехорошо думать: «Я его убью», — а еще хуже обстоятельно готовиться к проведению своего замысла в жизнь. Всегда имей в виду, что наша юстиция и органы безопасности на такой высоте, что так или иначе тебя поймают и засадят в холодную.
IX
Не рассказывай друзьям о своих домашних неурядицах!
«Знаете, пан профессор вчера был пьян и его избили в трактире, а когда он пришел домой, жена его не пустила в квартиру, и он до утра провалялся на лестнице? Он сам мне сегодня рассказывал об этом», — поделился со мной добрый друг профессора Я не удержался, рассказал дальше, и в два счета об этом узнал весь город.
Да, да, друзья мои, вот к чему это приводит, когда рассказываешь о своих домашних неурядицах приятелям. Никогда этого не делайте, храните гробовое молчание о том, что с вами было вчера. Только так вы избежите того, чего не избежал упомянутый профессор.
X
Не помогай, покуда просящий о помощи в состоянии помочь себе сам
Я знавал человека, который, играя в карты, одалживал деньги партнеру, игравшему против него, и потом несказанно удивлялся, когда оказывался в проигрыше, хотя перед тем выигрывал.
* * *
Советов, как жить, — великое множество. Приведенные нами — лишь небольшой образчик того, что советовать можно сколько угодно, не боясь когда-либо исчерпать себя. Это поистине бездонный кладезь премудрости, в которой жизнь предстает перед нами со своей весьма серьезной стороны. Каждый хочет, чтобы его наставляли и им руководили. Человека нужно за шиворот притянуть к печатному слову и заставить читать житейские советы. Главное — побольше изобретательности в преподносимых советах. И тогда можно спокойно считать, что мы прожили жизнь не напрасно, но тысячам людей посоветовали, как жить.
Опыт безалкогольной вечеринки, или Забава по-американски
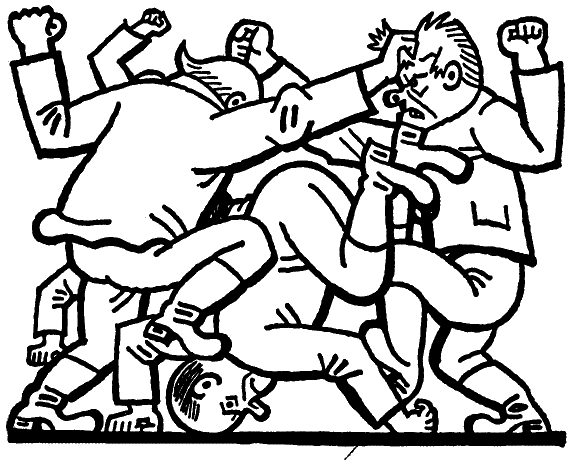
I
Самый печальный урок того, к чему приводит пьянство, преподал нам Хам, небезызвестная личность из библии, представшая перед судом истории за преступную безнравственность в поведении, допущенную по отношению к отцу своему Ною.
Известен также случай с пьяным священником в Интерлакене, отправившимся служить мессу в одной исподней рубашке, да еще с моим приятелем Славиком, который с пьяных глаз съел живьем в дрезденском зоопарке молодую ядовитую кобру, этакое прелестное юное змеиное создание.
Эти и подобные им случаи принудили человечество задуматься над пагубными последствиями потребления алкоголя. Америкой сделан в этом направлении первый шаг. Введя сухой закон, она показала всему миру, как во имя обхода этого закона, налагающего запрет на все спиртное, развивать человеческую изобретательность и находчивость.
Сформировалась так называемая трезвенность отчаяния, когда под давлением сухого закона люди, сроду ничего не пившие, становятся выпивохами, а хозяева салунов и баров — мошенниками.
«Виски и бренди!» — вот девиз, который приводит нынче в брожение всю Америку, ширясь от Нью-Йорка до Сан-Франциско, от Канады до самой Мексики.
На этом огромном пространстве несколько миллионов джентльменов в миллионах баров ежедневно ждут, когда к ним подойдет хозяин бара, вольет в раскрытый рот стопочку виски и тут же получит деньги. Потому что именно так теперь это делается в Америке. Из-за полицейских шпиков в бутылках больше не подают, ибо это вещественное доказательство, такая бутылка, если, неровен час, ее конфискуют.
Просто джентльмен раскрывает хлебало, и ему вливают прямо в глотку.
У нас в Чехии ни Христианская ассоциация молодых людей, ни Армия спасения недалеко уйдут со своей навязчивой идеей, будто бы сухой закон — это лучшее, чем можно облагодетельствовать человечество.
Введение сухого закона приводит к росту преступности, потому что уже на сегодняшний день за недозволенную торговлю водкой в Америке сидит в тюрьмах свыше семидесяти тысяч человек; так что по уголовной статистике Америка уже сейчас вышла на первое место.
У нас же алкоголизм — исторический, опирающийся на многочисленные привилегии, пожалованные нашими королями, которые повелевали городам — пиво варить, а подданным — оное пить. А прославленная певица Дестинова, так та недавно вообще приобрела во владение целую винокурню.
Куда тут «христианским молодым людям», мало каши ели! Как у нас нынче делается?.. Если пиво восьмиградусное, каждую кружку крепят тремя-четырьмя стопками. Кружка десятиградусного пива крепится двумя, а двенадцатиградусного — одной рюмкой.
А все эти брошюрки Христианской ассоциации о вреде пьянства… Так ведь от них же проку, как от козла молока, коли в газетных объявлениях рекламируются напитки, без обману семидесятиградусные, и к тому же с такими многообещающими названиями, как «Стенолаз» или «Вырви глаз».
II
Нельзя сказать, чтобы город, где был поставлен первый опыт безалкогольной вечеринки и забав по-американски, был, упаси боже, более беспутным, нежели другие города республики. Местные алкоголики ни в чем не отставали от своих собратьев из других городов, и, как в любом другом месте, на пятерых трезвых там тоже приходился один пьяный и на трех жителей — бутылка водки ежесуточно. По ночам, как повсюду в других городах с таким же населением, здесь тоже обычно находили дюжину упившихся да двое или трое днем валялись на тротуарах. Нельзя также сказать, чтобы ночью в том городе больше, чем где бы то ни было в другом месте, разорялись на улицах или учиняли больше дебошей. От случая к случаю кто-нибудь об кого-нибудь обламывал трость да раз в год кто-нибудь кого-нибудь спьяну вспарывал ножиком. Вот, пожалуй, и все.
Поэтому в городе вызвала настоящий фурор одна дама, которая после смерти мужа вернулась из Америки к своим пенатам. Мадам взбудоражила всю местную общественность, предложив устроить в ресторане господина Вашаты безалкогольную вечеринку и увеселение по-американски.
Бедному пану Вашате пришлось раздобыть сто двадцать стульев и восемьдесят чашек для чая, который будут готовить американка и жена железнодорожного обер-ревизора (надо сказать, что эта дама весьма быстро загорелась безалкогольной вечеринкой, потому что не было, пожалуй, ни дня, чтобы господин обер-ревизор не пришел ночью домой не то чтобы пьяным, но навеселе).
Супруг американской дамы был одним из пионеров движения за трезвенность в Алабаме и главным проповедником какой-то религиозной секты.
Афиши, отпечатанные по ее заказу, были в траурной рамке, вроде похоронных извещений, и имели следующий текст:
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ УВЕСЕЛЕНИЕ
ВЕЧЕРИНКА ПО-АМЕРИКАНСКИ БЕЗ АЛКОГОЛЯ!
Избегайте пьяниц!
Алкоголь унижает подобие божие до образа скотского!
9 апреля вы весело проведете время без алкоголя в ресторане г-на Вашаты!
Начало в 7 час. вечера.
Программа:
Вступительное слово пани Пиккноун, уроженки нашего города.
Разные игры.
Бесплатно подается чай.
Приходите все, убедитесь на собственном опыте, что лучше: веселиться со спиртными напитками или без них!
Когда содержание афиши стало известно населению, в городе буквально разразилась буря. Наиболее точное свое выражение это недовольство получило, очевидно, в заявлении старого лесничего пана Поливки, пребывающего ныне на покое:
— Такой вечеринке в трактире не место! Пусть убираются со своим чаем куда-нибудь на лужайку.
Капельмейстер Воржех зашел еще дальше, провозгласив в трактире «У вокзала»:
— Я туда пойду, но надерусь до положения риз!
Такого же мнения придерживалась масса других граждан.
Над безалкогольной вечеринкой нависли тяжелые черные тучи.
III
Пани Пиккноун весьма тщательно составила краткую вступительную речь, которая вызвала в ресторане пана Вашаты неописуемое волнение. Безалкогольная вечеринка привлекла множество публики — одних старых пропойц в сопровождении своих жен, которые пришли посмотреть, как это подействует на мужей.
Пани Пиккноун еще хорошо помнила, как ее покойный супруг громил в Алабаме этих старых сукиных сынов с Запада, умоляя их отречься от виски и лучше держаться библии.
Свою речь, изобилующую американизмами, пани Пиккноун к тому же сдабривала смачными ругательствами. Самым мягким из сказанного ею было, когда ораторша всякого, кто выпивает, назвала мерзкой сволочью. В этом месте половина присутствующих жен, ткнув своих мужей в бок, дружно сказали:
— Вот видишь, я тебе уже давно говорила…
Пани Пиккноун привела также несколько примеров из жизни пьяниц в Америке, беспутной жизни которых был положен конец на электрическом стуле.
Несколько слушателей попыталось было испариться из зала, чтобы что-нибудь пропустить в буфете. Однако в дверях они были остановлены супругой железнодорожного обер-ревизора, стоявшей на страже у выхода. Правда, это нисколько не помогло, потому что некоторые господа сиганули из зала через окошко, попали в сад, оттуда в кухню, а уже оттуда — в буфет.
Пани Пиккноун закончила свою краткую речь как раз к моменту, когда все мужчины уже успели поочередно совершить эту вылазку. Затем устроительница вечера объявила, что теперь начинается программа. Игры. Сперва она ознакомит собравшихся с правилами, а потом по ее сигналу можно начинать. Для сигнализации пани Пиккноун достала из кармана свисток, каким пользуются судьи на футбольных матчах.
Первой игрой была следующая: дамы образуют внешний круг, господа — внутренний. Оба круга движутся в противоложных направлениях, и дамы и господа по ходу дела подают друг другу руки. Пока строили оба круга и приводили их в движение, двум участникам игр удалось так упиться, что когда эта махина тронулась, они, протягивая партнершам руки, свалились на пол и были уведены своими женами в буфет.
Движение в защиту трезвенности принесло, однако, свои плоды, ибо во время коротких перерывов между отдельными играми нужно было вознаградить себя за предшествующее воздержание. Участники вечеринки вливали в себя спиртное темпами, невиданными доселе в истории города. Пока дело дошло до следующей игры, один господин, выпивавший в лучшем случае не более четырех кружек пива в день, успел вылакать полбутылки крепчайшего шнапсу и по пьяной лавочке едва не поджег во дворе свиной хлев, когда днем с горящей спичкой искал вход в зал.
Вторая американская игра была очень потешной. На столе в тарелке лежало десять горошин. Задача состояла в следующем: поддеть горошины кончиком столового ножа и отнести в другой конец зала, на колени пани Пиккноун.
Те, кто уже был слегка на взводе, весело развлекались. Они подходили к столу и делали отчаянные попытки удержать на ноже хоть одну горошину. Наконец пан Пексидер, который надрызгался, пожалуй, больше всех, спьяну тайком поплевал на нож, а потому легко подобрал с тарелки все десять горошин и отнес их в другой конец зала на колени пани Пиккноун, об юбку которой затем благовоспитанно этот нож вытер.
Во время короткого перерыва, когда супруга обер-ревизора обносила дам чаем с кусочком кекса, — и то, и другое пожертвовала самоотверженная устроительница празднества, — мужчины битком набились в буфет ресторана, неукоснительно следуя оптимистическому лозунгу, выброшенному паном Пексидером:
— Теперича трахнем!
Взгляды всех излучали радость, празднество нравилось чем дальше, тем больше, и поэтому следующий номер программы американских игр был встречен великим ликованием.
Итак, когда все — за исключением тех, которые уже вообще не могли оторваться от стола, потому что у них подламывались коленки, — опять собрались в зале, пани Пиккноун засвистела в свой судейский свисток, как свистят на футболе при «офсайде», и громогласно скомандовала:
— Все мужчины вон!
В ответ раздался дикий рев, выражающий искреннюю благодарность.
Присутствующим дамам, когда господа покинули зал, были розданы номера от одного до сотни. Дама, которой достался самый маленький номер, должна была влезть в мешок, который завязали и водрузили на стол посреди зала. После этого пригласили изрядно разошедшихся мужчин, и даму стали торговать с аукциона. Начался торг скромно — с двадцати геллеров. В конце концов даму в мешке купил отставной лесничий, взвинтивший ей цену до десяти крон шестидесяти геллеров. Оказалось, что за эту незначительную сумму лесничий в отставке выиграл полумертвую от страха старушку, бабушку почтмейстерши, которая сопровождала внучку и получила номер один — на потеху всем дамам.
Отставной лесничий пришел в такое неистовство, что сначала побледнел, потом побагровел, вынул из жилетного кармана часы, сунул их в карман брюк, снял пиджак и жилет, затем все это снова облачил на себя и угрожающе произнес:
— Вот тебе бабушка и Юрьев день!
Все с напряжением ожидали, что последует дальше, но не последовало ничего.
Пан Поливка, лесничий в отставке, презрительно сплюнул и, обронив: «Шантрапа», с гордым видом проследовал в буфет, где, обращаясь к пану Вашате, снова повторил свое прежнее заявление:
— Такой вечеринке в трактире не место! Пусть убираются со своим чаем куда-нибудь на лужайку.
Человек, едва не поджегший свиной хлев, пришел от этого происшествия в такой восторг, что, заикаясь, сообщил своей жене, которая крепко держала его за руку, чтобы он не упал:
— Те-те-перь то-только ви-ви-жу, к-к-как это з-здо-здо-рово б-быть т-т-трез-вен-ни-ни-ком!
На что его супруга заметила с горечью:
— Вот уж не думала, что доживу с тобой до такого срама! Да еще на людях…
В эту минуту пани Пиккноун снова дала сигнал офсайда и своим грубым мужским голосом скомандовала:
— Все дамы вон!
Однако с дамами, совершенно естественно, зал покинула и половина мужчин, — чтобы воспользоваться перерывом для столь желанного, еще более близкого ознакомления с широким ассортиментом спиртных напитков в ресторане пана Вашаты.
Пани Пиккноун осталась в зале с остатком мужчин одна.
Сия достойная дама, будучи в неописуемом восторге от своей антиалкогольной идеи, все это время пребывала в полном неведении относительно того, что происходит вокруг. Окруженная мужчинами, эта идеальная женщина заметила, что творится что-то неладное, лишь тогда, когда в зал снова ворвался отставной лесничий Поливка с капельмейстером Воржехом, в свое время заявившим в трактире «У вокзала»:
— Я туда пойду, но надерусь до положения риз!
Пани Пиккноун как раз собиралась дать указания, как продавать с аукциона мужчин, когда эта пара — Поливка и Воржех — обнявшись, словно рекруты, за шею и выписывая ногами невообразимые кренделя, приблизилась к ней. При этом оба — так, что дрожали оконные стекла, — горланили слова старинной песни:
Как мы в Яромерж попали,
Там нам с ходу ужин дали…
Тра-ра-ра-рара, тра-ра-ра-ра…
Не успев опомниться, пани Пиккноун вдруг очутилась верхом на коленях у пана Поливки, который, качая ее, припевал:
Гоп-гоп… гой!
Все покрылось мглой,
Умрешь, пойду к другой…
В это время капельмейстер Воржех щипал ее за щеку, вытащил у нее из прически шпильку и стал ковырять у себя в зубах. Потом она почувствовала, как кто-то влил ей в рот водки, а еще кто-то принялся щипать коленку…
Потом вошли дамы, вышибли всех вон и разнесли зал в пух. Как на танцульке в день престольного праздника…
IV
Пан Вашата, вопреки убытку, понесенному им в конце предыдущей главы, публично заявляет, что ухудшившееся положение дел в питейных заведениях можно поправить единственно путем устройства безалкогольных вечеринок и забав по-американски.
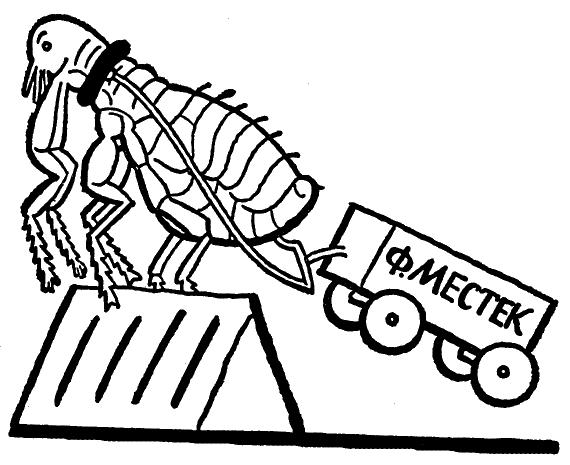
Мы сидели с покойным Местеком в парке на Карловой площади.
У Местека, владельца блошиного цирка, было весьма удрученное настроение, потому что он пришел к выводу, что блохи уже не поддаются дрессировке. Дело в том, что недавно его блошиный цирк постигла катастрофа. Какой-то пьяный господин, одержимый навязчивой идеей, что все это сплошной обман, проник в балаган и, даже не попытавшись убедиться в своей правоте, тростью разнес коробку с цирком на куски. Дрессированные блохи очутились на воле, освободившись от обязанности таскать за собой микроскопические бумажные колясочки. На дне коробки остался расплюснутый труп блошиного самца, первоклассного артиста, который был душой цирка. Местек нежно звал его Франтишек. Труп артиста был опознан под увеличительным стеклом по тому, что у него не хватало одной ноги. Впрочем, это уже относится к профессиональным секретам цирка. Таким артистом отрывают ноги, чтобы они не прыгали чересчур высоко и тем самым не нарушали стройного шествия в блошином цирке.
У бездыханного трупа артиста осталась одна-единственная блоха с перебитыми ногами и опрокинутой коляской, в которую она была впряжена.
— Я думал, ее вылечу, — вздохнул Местек, — но ничего не вышло. Пепина хирела, и, в конце концов, ее пришлось раздавить.
Местек начал рассказывать о взаимной любви Пепины и Франтишка, о том, с каким восторгом всегда смотрела маленькая блошка, как танцует ее друг-артист.
— Никогда в жизни, — говорил Местек, — не видать мне больше таких интеллигентных созданий. Выродились нынче блохи. Какие-то стали непонятливые. А может это новая блошиная порода… Недавно я купил у сторожа из богадельни целый пузырек блох, но все оказались никудышными. Были у меня блохи из полицейской дирекции, из нескольких сиротских приютов, блохи из пансиона «Счастливая обитель», блохи из исправительного дома, из разных казарм, блохи из ломбардов, из нескольких гостиниц, из Каролинума и Клементинума, блохи из женской гимназии и Производственной ассоциации, из Эмаузского монастыря. И все оказались бездарными. Нашлись, правда, две-три, которых можно было бы назвать одаренными. Но жуткие лентяйки. Карьера их не привлекала. Они сбежали, пренебрегши большой и лучезарной славой, которая их ожидала. Новое поколение блох никогда не сможет похвастаться ни таким Франтишком, ни Пепиной. Достоинства их нельзя передать в нескольких словах, их можно только почитать, ими можно восторгаться…
Мы снова впали в меланхолию, и перед нашим мысленным взором встало триумфальное турне с блошиным цирком по Чехии и Моравии, с недолгими гастролями в Венгрии, откуда нас выставили мадьярские жандармы, усмотревшие в блошином цирке скрытую панславистскую пропаганду.
Кое-где в Моравии нам совало палки в колеса духовенство.
Приходский священник в Гельштыне, когда я посетил его, чтобы пригласить на представление блошиного цирка, сказал:
— Я не могу рекомендовать своей пастве посещение вашего заведения, которое не может принести вам благословения господня, поскольку дрессировка блох противоречит человеческому естеству. В средние века в монастырях, как пишет аббат Ансельмус, блохи, кусая по ночам монахов и не давая им спать, принуждали их бодрствовать и денно и нощно славить творца.
— Следует ли вас понимать так, что блох вы считаете за священных животных? — спросил я. — В таком случае смею вас заверить, что в нашем цирке выступают потомки тех блох, которые кусали младенца Христа в родном хлеву в Вифлееме.
Мы подрались, и я его обработал по всем правилам бокса. Но в конечном счете нам все равно пришлось убраться в горы, так как священник науськал на нас весь край, вплоть до самого Валашска.
Местек прервал безмолвные воспоминания:
— Если быть предприимчивым и набраться терпения, то обязательно возьмешь верх над людской глупостью. Главное знать, с какого конца ухватиться. Неважно, нарисовал ли ты, скажем, утку или что-нибудь еще; важно другое — убедить людей, которые пришли на нее посмотреть, что это не утка, а ягуар. А не выгорит одно дело, должно выгореть второе, третье.
— Люди — страшные олухи, — продолжал развивать свою философию Местек, — чем больший вздор, чепуху, явную глупость им предложить, тем больше народу раскошелится, чтобы ее увидеть. Жаждет народ нового, и все тут… Как вы считаете?
— По-моему, очень мало людей мыслит самостоятельно, — сказал я. — У кого свой определенный взгляд на вещи, тот такие штуки смотреть не ходит. А в наш балаган набивалась публика, которая верила, что увидит все, что мы им обещали показать. Помните нашу летучую мышь, которую мы поймали за Прагой, а выдавали за летающую ящерицу из Австралии? И все безотказно гнали свои двугривенные, чтобы ее увидеть. Или помните, как народ дрался из-за билетов, чтобы увидеть молодого удава, который задушил английского вице-короля в Индии? А это был, всего-навсего, малюсенький уж. А помните, сколько было народу, когда Пепичек Ванек из Коширж представлял орангутанга с острова Борнео?
— Ох и сволочь же был, — заметил Местек, — еще бы мне его не помнить! Перед последним представлением затребовал с нас двадцать крон. Что, дескать, за пятнадцать крон и стол изображать орангутанга не станет. А ведь зарабатывал, стервец, хорошие деньги на фруктах и конфетах, которые ему люди кидали в клетку. Складывал все в уголок, а вечером, когда балаган закрывался, ходил продавать торговке напротив. Потому я и не хотел ему прибавить. А он взбеленился и в самый разгар представления как затянет: «На Радлицкой мостовой». Ох, и паника поднялась! Тогда нас выслали из Табора. Мумию английского короля Ричарда III мы все же сумели лучше провернуть. А ведь это всего была свернутая овчина… Целых полгода прошло, пока это дело не лопнуло. Вы тогда замечательно складно перед этой овчиной объявляли:
«Почтеннейшая публика! Перед вами один из самых страшных и величайших извергов, которые когда-либо восседали на королевском троне. Этот король-подлец, физическое уродство которого превратило его в кошмарное чудовище и страшилище, купавшееся в крови бесчисленного множества своих жертв и коварством и кровожадностью своей повергавшее в ужас самого Шекспира, этот королевский выродок был высушен, каковым ныне в виде мумии, сиречь законсервированным, предлагается вниманию почтенной публики…»
— Потом этого Ричарда III, — напомнил я, — у нас конфисковал один окружной начальник.
— Но из этого явствует, — мудрствовал далее Местек, — что на свете нет ничего невозможного. Бьюсь об заклад, что добрая половина человечества кормится жульничеством всякого вида и свойства. Сейчас для нас самое важное — придумать что-нибудь новенькое, что показать публике. Преподнести ей, так сказать, небольшой сюрпризик. И так заморочить голову, чтобы каждый сам нам делал рекламу. Показать им что-нибудь…
— Да бросьте вы это свое «показать да показать», — произнес я, чертя палкой на песке. — Зачем это «показать». Надо идти дальше. Вы меня понимаете? Ничего публике не показывать!
— Хоть какой зряшный камешек… — жалобно откликнулся Местек, — я всегда что-нибудь показывал.
— Никаких камешков! — сказал я решительно. — Это идиотизм. Старая школа. Я вам говорю, мы вообще ничего не будем публике показывать! В этом-то и будет вся соль. В этом будет наш сюрприз. Вот вы говорите «хоть бы камешек», как это делалось прежде. А как это делалось? Объявлялось: «Этот камень с Марса». Публика уходила под впечатлением, что что-то видела. Сюрприза никакого! Но когда она не увидит совсем ничего, вот тогда впечатление будет полным, с сюрпризом. Смотрите! — Я вычертил на песке план. — Балаган будет круглый, просторный. Без окон, без дыр в крыше. Темень должна быть кромешная. Два входа, оба занавешены. Один спереди, через который публика входит. Второй служит выходом, это задний. Огромные анонсы: «Невиданно — неслыханно! Сюрприз, который не забывается! Только для взрослых мужчин! Женщины и дети не допускаются! Солдаты платят половину!»
Публику мы пускаем по одному, через короткие промежутки. Я перед балаганом зазываю народ и продаю билеты. Вы — внутри, в полной темноте. Как только кто-нибудь входит в балаган, вы, не говоря ни слова, хватаете его за штаны и за шиворот и выкидываете через задний выход на улицу. Небольшая доступная плата за вход, и вы увидите, что никому не будет жалко отдать за это пару монет. Ручаюсь, что люди желают один другому всяческих пакостей и еще сами нам будут делать рекламу и подбивать своих ближних, чтобы те тоже увидели «сюрприз, который не забывается», что это потрясающая штука! Наш аттракцион будет давить на психику!
Некоторое время Местек колебался. Но не сам принцип нового развлекательного предприятия поверг его в сомнение. Ничуть не бывало. Местек, наоборот, хотел его еще более усовершенствовать.
— А недурно бы, — предложил он, поразмыслив, — огреть еще при этом каждого по спине плеткой… Сюрприз был бы еще больше!
Против этого я категорически возражал. Это будет нас только задерживать. Вся процедура должна проходить с молниеносной быстротой. Человек входит в темноту и, не успев опомниться, тут же вылетает вон. В этом вся соль, настоящий сюрприз, а не суррогат. Дело совершенно реальное! Мы не обещаем ничего такого, чего не можем предоставить. Обещаем аттракцион и даем аттракцион. Никто не смеет нас упрекнуть в обмане.
Наше «реальное дело» привлекло к себе колоссальный интерес. Сперва мы разбили свой балаган в Бенешове, где для этого были все условия: гарнизон, любопытная публика. Я заказал афиши, отвечающие надписям на балагане:
Пикантно!
Только для взрослых мужчин!
Грандиозный сюрприз!
Никогда в жизни не забудете наше заведение!
Без надувательства! С ручательством!
Доступная плата за вход — всего 20 геллеров, анонсы, загадочность таинственного пикантного аттракциона только для взрослых мужчин, — все это, как магнитом, притянуло к нашему балагану широкие массы взрослых мужского пола, штатских и военных. В толпе можно было видеть шестнадцатилетних подростков, полных решимости на вопрос, сколько им лет, ответить «сорок» или даже «пятьдесят». Лишь бы попасть на аттракцион!
Мы начали в шесть. Первым был какой-то толстый господин, который ждал уже с пяти часов, чтобы с быстротой молнии пролететь через наш балаган и вновь очутиться на свежем воздухе с другой стороны.
Я слышал, как он говорил публике:
— Это просто потрясающе! Пойдите посмотрите.
Я не обманулся в психологии толпы. Те, которых уже вышвырнули, нам делали грандиозную рекламу. Через мускулистые руки Местека за полтора часа прошло несколько сот взрослых мужчин. Некоторые давали себя выбросить даже по два, по три раза, а потом снова возвращались в балаган и опять попадали в мускулистые руки Местека. На всех лицах была радость, довольство. Я заметил, как многие приводили своих знакомых, от всего сердца им желая, чтобы они тоже испытали на собственной шкуре «грандиозный сюрприз».
Куда черту не с руки собственной персоной, он непременно подсунет окружного начальника. Сей чин появился после половины восьмого.
— Разрешение имеется? — спросил он у входа.
— Прошу дальше, — пригласил я.
В темноте балагана между окружным начальником и Местеком завязалась короткая схватка. Окружной начальник, сознавая всю важность занимаемой им должности, оказал таинственным силам «грандиозного сюрприза» отчаянное сопротивление, но в конце концов тоже вылетел в ликующую толпу.
Потом явились жандармы, опечатали наш балаган, а нас отвели в суд. За оскорбление должностного лица и публичное насилие.
— Сколько жить буду, «реальных дел» знать не желаю, — проговорил Местек, когда мы удобно устроились на нарах. — Отныне кормлюсь одними обманами.

1
Нездоровая мораль (англ.).
2
Скотина, свинья (нем.)
3
Грубы, но добродушны (нем., диалект).
4
«Гоп-гоп, моя красотка, гоп моя…»
5
Мурский округ (Помурье), по-венгерски Муракёз или Муравидек, территория вдоль реки Муры, населенная венгерскими вендами. На западе граничит со Штирией, на севере с Вашским комитатом, на юге — с Хорватией, где река Драва образует ее естественную границу. (Прим. автора)
6
Несколько лет назад в Венгрии был принят закон о гражданских браках; поэтому каждый обязан сначала зарегистрироваться у нотариуса, и лишь потом, если пожелает, может венчаться в церкви. (Прим. автора).
7
Pax vobiscum — мир вам (лат.)
8
Изыдите, служба окончена! (лат.)
9
Благодарим господа! (лат.)
10
Автор не имеет в виду, «Общественное мнение», журнал, редактируемый г-ном Шашком.