Книга: Любовь в эпоху перемен
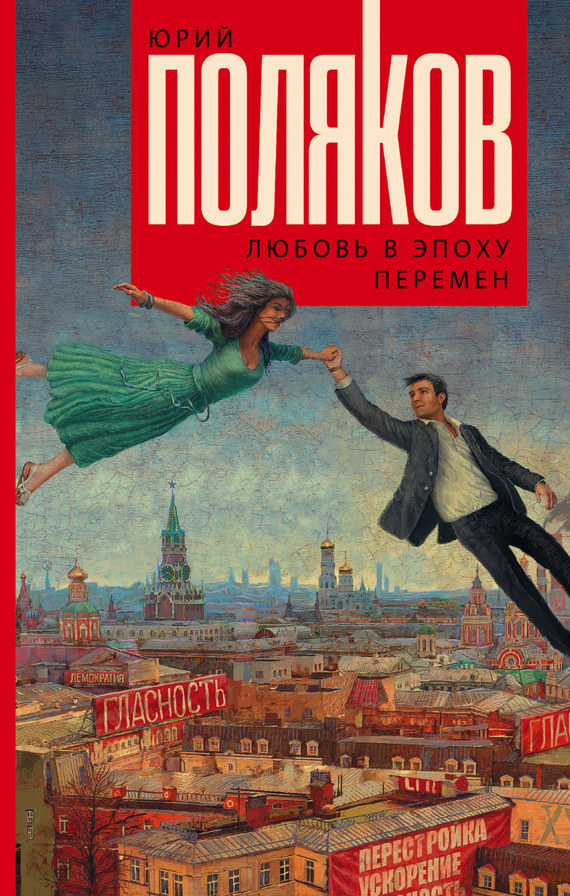
Любовь в эпоху перемен
Мелькнула женщина за облетевшей сливой,
Плач флейты яшмовой затих на берегу.
Туман над озером горчит, как дым пожара.
Грустна любовь в эпоху перемен…
Дымы над широкими трубами Битцевской ТЭЦ были похожи на толстые витые колонны, подпирающие тучное небо. Москву замело и заморозило. Такого марта не помнил никто, только старик-охранник на проходной твердил, что схожая природная невидаль случилась в канун беды.
– Какой беды?
– Убийства.
– Какого убийства?
– Сталина.
– А кто ж его убил?
– Ясно кто. Евреи.
«Вот народ! Ты с ним про погоду, а он с тобой про Сталина и евреев!»
Гена Скорятин, седой апоплексический импозант, стоял у приоткрытого окна и опасливо курил, как подросток, заскочивший на перемене в школьный туалет – «дернуть» по-быстрому, пока не застукала Фаза. «Немка» Фаина Федоровна Заубер обладала уникальным нюхом на табачный дым. Фантастическим! Она могла спокойно заполнять сидя за столом классный журнал, но вдруг ее ноздри хищно вздрагивали, лицо вспыхивало карательным румянцем, а немаловажный зад резво отрывался от стула, и Фаза тяжким командорским шагом безошибочно направлялась к тому «мальчиковому» туалету, где творился смертный грех табакокурения. Сказав: «Ни на кого не смотрю!» – она крепко брала преступника за ухо и тащила через всю школу во двор, проветриться. О, это был путь позора! Под ногами путалась глумливая малышня, гоготали издали жестокие дружки, успевшие спрятать свои окурки, но главное – обидно хихикали ровесницы, чьи форменные юбочки день ото дня становились все короче, а ноги все длиннее! К тому же, ухо раздувалось, как ватрушка, и долго потом болело.
Скорятин пощупал мочку, вспоминая стальные пальцы Фазы, и выпустил в приоткрытое окно струйку дыма. Отсюда, с шестого этажа, из редакторского кабинета, было видно, как прохожие, подняв воротники, спешат меж сугробов домой, к теплу, а за ними гонится, извиваясь, поземка. Метель залепила снегом даже огни светофоров. Машины, сгрудившись на перекрестке в безнадежном заторе, жалобно и разноголосо сигналили. На белых лобовых стеклах мятущиеся «дворники» едва успевали выскабливать удивленные полукружия. Толстый регулировщик, стянутый портупеей, как готовая к переезду подушка, размахивал полосатым жезлом и, казалось, дирижировал воем автомобилей.
Сделав последнюю долгую затяжку, Скорятин выбросил окурок, и тот затерялся в косо летящих белых хлопьях.
«Дожил, ёкарный бабай! В собственном кабинете уже и покурить нельзя. Как в школе! Запретили! И кто? Заходырка. Сволочь, тащит все, что под руку идет!»
Но бесился он не из-за воровства, которое стало в Отечестве чем-то вроде обмена веществ в организме. Казалось, перестань люди воровать, брать взятки, откатывать – все сразу остановится, замрет: заводы не будут дымить, поезда стучать по рельсам, самолеты не смогут взлетать и садиться, банки торговать деньгами, а танки вращать башнями, целясь во врага. Казалось, без воровства исчезнет смысл существования, ибо на честные деньги жить неинтересно и утомительно. Злился он по другой причине: Заходырка стала лезть в его дела – нагло и нахраписто. Вот и сегодня, едва поздоровавшись, голосом следователя спросила: «А где же ваша статья?» – «Твое-то какое дело? Твое дело, коза, по калькулятору маникюром щелкать и ноги задирать!»
А статья вышла отменная. Одно название чего стоит – «Клептократия»! После многих лет разлуки вдохновение ворвалось в остывшее Генино сердце, как буйная старшеклассница в спальню пенсионера. На следующий день утром он перечитал сочиненное в ночной лихорадке и вместо привычного срама за неодолимую приблизительность слов почувствовал сладкое стеснение в горле – верный признак удачи. Но публиковать нельзя! Ни в коем случае! Кио – жуткий человек. Отобьет голову одним щелчком. И не печатать тоже нельзя. Хозяин требует: скорей, скорей, скорей! Хорошо ему: сидит, хорёк, в Ницце, купается в Средиземном море, гуляет по Английской набережной, заказывает по Интернету тёлок и трахается, как тропическая землеройка. Одно слово: Кошмарик!
Скорятин прижал воспаленный лоб к стеклу, почувствовал ледяной ожог и, посвежев, вернулся к столу, заваленному бумагами. Чего там только не было: рабочие полосы, депеши из инстанций, приглашения на приемы и презентации, «трудные» тексты, письма читателей, готовые материалы, отпечатанные на «собаках». Сверху лежал ксерокс чудодейственной мужской диеты «Простоед», выловленной в Интернете заботливой Алисой. Из-под «Простоеда» торчал конверт с билетами на премьеру «Ревизора» в театре имени Таирова. Обозреватель «Мымры» Сеня Карасик был на прогоне и радостно доложил, что это лучшая работа гениального Йонаса Жмудинаса – мастер от души поквитался не только за ужасы советской оккупации, но и за все обиды Великого княжества Литовского.
Гена задумался: спектакль – удобный случай. Надо же наконец вывести Алису в люди, показать и поглядеть, как на нее посмотрят. Бог даст, обойдется: Марину давно уже не зовут в приличные места, знают, что напьется и набезобразничает. Со времен, когда она была молода и красива, у нее осталось веселое чувство вседозволенности. Может и драку устроить из ревности, но вероятность встречи жены и любовницы ничтожно мала. Стоит рискнуть. В последние дни ему часто приходила мысль о тектоническом переустройстве жизни. Однако выведя женщину из сумрака спальни, можно ее не узнать. Ошибиться нельзя: старость надо встретить с удобной, нежной, надежной подругой. Разводиться и делиться совсем не обязательно: вон сенатор Буханов, когда к себе на Кипр летает, полсамолета бронирует под свой гарем с детишками, говорит: «Отдыхать надо по-семейному!»
Скорятин спрятал конверт в боковой карман, решив спуститься к Алисе сразу после планерки. В предчувствии близкого свидания тело замечталось, а пожилые гормоны затомили сердце несоразмерными желаниями, не зря же Гене раз в три месяца вкалывали молодильный тестостерон. Скоро снова идти: шарик-то сдувается. Такая вот романтическая химия…
Он сел в кожаное кресло «босс» и, чтобы отвлечься, взял со стола свежий номер журнала «Денди-ревю». Ну охломоны! На глянцевой обложке был изображен президент в виде Карабаса Барабаса с пышной накладной бородой. В правой руке гарант сжимал плетку с тремя хвостами, на которых теснились слова: «Цензура», «Нечестные выборы», «Политзаключенные». Левой дергал за веревочки, на них корчились неприятные марионетки, напоминавшие лидеров парламентских партий. А на дереве сидел бесстрашный Буратино, означавший, надо полагать, внесистемную оппозицию. Приставив растопыренные пальцы к шнобелю, деревянный человечек дерзко дразнил разгневанного суверена, одетого в пижаму дзюдоиста.
«И ведь не боятся же!» – покачал головой главный редактор и щелкнул пальцем по рыжему замшевому носу песцового снеговичка, стоявшего рядом с монитором.
Потянувшись до хруста в суставах, он взялся за почту, разобранную секретаршей: письма были вынуты из конвертов и прикреплены к ним степлером, чтобы не перепутались. Когда-то, давным-давно, больше всего на свете журналисты боялись попасть под страшное постановление ЦК КПСС «О работе с письмами трудящихся»: за не отправленный вовремя ответ ничтожному жалобщику можно было схлопотать выговор и даже вылететь с работы. Нынче хоть все письма, не читая, сваливай в мусор – никто не заметит, всем наплевать. Прежде начальство все-таки интересовалось: о чем там, внизу, попискивает прижатый тоталитаризмом народец? Пресса была чем-то вроде смотрового окошечка в камеру заключенных. Теперь никому ничего не надо, кроме денег, теперь, блин, демократия: не нравится власть – не выбирай. Она сама себя выберет. На то и урны. Поэтому пресса почти разнадобилась – держат так, для приличия, чтобы на переговорах западные умники не доставали.
Однако Геннадий Павлович сохранил старый советский обычай начинать рабочий день с редакционной почты, читал, писал резолюции, направлял в отделы, хоть знал наперед: если сотрудники и ответят авторам, то с вежливым хамством. Сделать с этим ничего нельзя. Время такое. Память о том, что сам он по молодости поучаствовал в сотворении нынешнего несуразного мира, жила в его душе подобно давнему постыдному, но незабываемо яркому блуду. Скорятин вместе с Мариной, семилетним Борькой и трехлетней Викой стоял в 1991-м в живом кольце, заслоняя Белый дом, прижимая к груди бутылку с вонючим «коктейлем Молотова» и готовясь к подвигу, но танки не приехали.
«А может, остаться сегодня у Алисы? – возмечтал Гена. – Виталик, вроде, на сборах… Нет… Ласская снова запьет…»
В первом письме ветеран лесной промышленности из Сыктывкара с подходящей фамилией Сердюк возмущался вырубками зеленого богатства и предлагал организовать «вооруженные народные дружины для защиты деревянного золота от беспредела».
«А что? Правильно!» – подумал Скорятин.
Ему самому иной раз хотелось, выходя из дому, прихватить шестизарядный «винчестер», подаренный акционерами к пятидесятилетию. Народ стал нервным, драчливым: если похмельный мужик в магазине лез без очереди, его давно уже никто не останавливал и не совестил – зарежет. Были случаи. А кавказская пацанва превратила соседнюю общагу в аул и совсем обнаглела: затащили в подвал и всю ночь поганили школьницу, возвращавшуюся из балетного класса. Сначала, как говорится, чем могли, а потом, ублюдки, пуантами. Милиция связываться не хотела – под окнами визгливые горные тетки орали, что только проститутки ходят на улицу вечером без родственных мужчин. Скорятин позвонил начальнику отделения по фамилии Гантулаев, погрозил публикацией. Дело завели. Тогда приехали белобородые аксакалы с дарами. Дело закрыли. Гена вскипел, но ему объяснили: «терпилы» сами забрали заявление и теперь меняют квартиру – улучшаются.
«Кстати, а что у нас с шестой полосой?» – спохватился главный редактор.
Там под рубрикой «Социология для бедных» с колес шла статья знаменитого правозащитника Адама Королева. Называлась она «Гимн понаехавшим». Автор был когда-то знаменитым диссидентом, сидел, стучал, митинговал, призывал раздавить гадину, но устал и затворился в санатории. Зато его сынок, редкий балбес, крутил бизнес с кавказцами, и старичка попросили тряхнуть либеральной стариной. Точнее, позвонил из Ниццы Кошмарик (он теперь, видите ли, кавказскую карту разыгрывает!) и приказал: «Нужна статья о том, что Россия без мигрантов погибнет!» «Зачем?» – удивился Гена. «Много знаешь – мало получаешь! – хохотнул хозяин. – И готовь бомбу про Кио!» Под ником Кио в телефонных разговорах проходил кремлевский скорохват Дронов. Скорятин еле отыскал Адама в Рогашках, долго уламывал, сулил тройной гонорар, убеждал, взывая к политкорректности. Убедил. Однако статья вышла не про то, как полезны «понаехавшие», а про то, какой ужас начнется, если русские сорвутся с цепи.
Гене страшно захотелось набрать Алисин телефон, но он удержался. Пусть попереживает, погадает, почему не зашел утром? Как говорил покойный тесть, женщина – существо ожидающее. Мужчина – ожидаемое.
Главный редактор развернулся во вращающемся кресле и посмотрел на стену: там между двумя большими фотографиями висели оттиски полос. На левом снимке Ельцин, воздев беспалую руку, вещал с танка. В толпе можно было узнать молодого Скорятина, худого и ярого. Рядом стояли гордый Исидор и пьяный Шаронов. Правая фотография запечатлела великую тройку: Сталина, Черчилля и Рузвельта на Ялтинской конференции. Вожди читали «Мымру». Шутейный фотомонтаж к юбилею подарили коллеги из «Огонька». От одного снимка к другому протянулась рейка с пронумерованными гвоздиками. На них накалывали сверстанные полосы – и можно было одним взглядом оценить готовность выпуска. Шестой гвоздик пустовал.
«Не сдали полосу, мерзавцы!» – Гена сердито нажал клавишу селектора, оставшегося еще с советских времен. Аппарат давно устарел, несколько раз ломался, но его чинили, хотя стоило это дороже, чем установить японскую систему связи.
Секретарша не отзывалась.
«Где ее черти носят! Не редакция, а Гуляй-поле какое-то!» – выругался он и вдавил клавишу с надписью: «Жора».
– О величайший, слушаю и повинуюсь! – сквозь шипение ответил всегда веселый Дочкин.
– Что там с шестой?
– Ты гений! – ответил Жора.
– Да ладно… – Гена улыбнулся с чемпионским смущением.
– Гений! Не спорь, о скромнейший из скромных! Аристофан Свифтович Салтыков-Щедрин! «Клептократия»! Убиться веником! Это та-а-ак рванет!
– Ты никому не показывал?
– Ну ты спросил! Могила. В номер?
– Повременим.
– Прав, прав, о дальновиднейший! А знаешь, какой сегодня день?
– Какой?
– Двадцать четыре года, как умер Танкист.
– Неужели двадцать четыре?
– Да, Гена, да! «Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи…»
– Надо помянуть.
– Когда? – оживился Жора.
– Пока не знаю.
– Жду команды, о златоперый! Водка стынет в жилах.
– А что там с шестой? Бред Адама поставили?
– Стоит.
– А где полоса?
– Сун Цзы Ло держит.
– Почему?
– Правит «Мумию на вынос!».
– Поторопи! Не люблю я пустые гвоздики в понедельник. Помнишь, как Танкист говорил?
– Помню: сам погибай, а газету выпускай.
Конечно, теперь, когда все делается на компьютере и, нажав кнопку, можно увидеть на экране любую полосу, рейка, гвоздики, правленые оттиски выглядят глупым приветом из прошлого, из эпохи незабвенного Танкиста. Скорятин зажмурился: ах, какое было время! От клацающего линотипа он бегом нес теплый набор, завернутый во влажную гранку, метранпажу, клал на оцинкованный стол и умолял:
– Семёныч, быстрее, график срываем!
Семёныч, толстый, степенный мужик, неторопливо вытирал ветошью руки, испачканные типографской краской, разворачивал гранку и качал головой при виде бесчисленных «вожжей», тянувшихся от зачеркнутых неверных слов к правильным, выведенным на полях четким подчерком.
– Над стилем работаешь, Паустовский? Ну-ну…
Метранпаж ослаблял винты талера, вынимал из набора, поддев шилом, ошибочные строчки, вставлял новые, вбивая их на место деревянной рукояткой, и прокатывал свежий оттиск. Через минуту Гена уже мчался по коридору, гремя полосой, в корректорскую. Женщины возмущались: продукты, купленные в обеденный перерыв, были сложены в сумки, оставалось дождаться радостной вести, что номер подписан, – и домой, к мужьям, к детям. А тут такое! Они, как куры, набрасывались на текст, «строчили» – читая на пару и сверяя правку. Не найдя ошибок, подписывали полосу.
Дальше путь лежал к уполномоченному Главлита, которого звали по старинке цензором. Он-то и допускал полосу к печати – залитовывал. Замечательное время! Все было просто и ясно: ты хочешь сказать правду, а кто-то наверху тебе не велит. Значит, или ты его обманешь, перехитришь, обведешь, словно нападающий защитника, или он заткнет тебе рот, и ты напишешь неправду, а наутро твое вранье прочитают миллионы доверчивых подписчиков. Конечно, на самом деле все было сложней и тоньше. Власть напоминала тяжелого и подозрительного больного. Чтобы убедить его в необходимости укола, приходилось хитрить, заходить с разных сторон, даже порой соглашаться, будто он совершенно здоров, а потом, улучив момент, – воткнуть шприц. Обманутый хроник вопит, но уже поздно, поздно: струйка правды расточилась по гнилой крови. Если удавалось, друзья гордились тобой, а женщины смотрели восхищенно-влажными глазами. Если не удавалось, что ж – друзья скорбели, а женщины смотрели сочувственно-влажными глазами. Ах, какое было время!
…Уполномоченный Главлита, молодой смешливый парень, сидел в отдельном кабинете без таблички. На стене – большая карта нерушимого СССР и вырезанный из журнала портрет старины Хэма в знаменитом шкиперском свитере. На столе – стопка непонятных справочников без надписей на корешках. В углу – сейф для особо секретных инструкций. Цензор всегда работал, как бухгалтер, в нарукавниках – свежие оттиски пачкали одежду. Он откладывал новый роман Хейли или Стругацких, просматривал полосу, приветливо кивая каждый раз, когда видел, что его замечания учтены и текст исправлен. Потом улыбался и хитро смотрел на стажера:
– Значит, говоришь, самое тяжелое – поднять нашу легкую промышленность? Лихо! А вот это просто клёво: «Кресло дается чиновнику, чтобы работать головой, а не отдыхать ягодицами!» И название отличное – «Ситец – тоже броня!». Сам придумал?
– Сам.
– Опасный ты парень! Ладно, не бойся – оставляю. Может, из тебя Юрий Трифонов выйдет. Будут доценты изучать раннего Скорятина, и меня, цербера бумажного, добрым словом вспомнят. А это еще что такое?
На лице цензора возникло выражение детской плаксивой обиды:
– Ну сколько раз повторять: нет никакого Кустанайского танкового завода. Ну нет его! Есть Кустанайский завод сельскохозяйственных машин. Исправляй! Не залитую.
– Корректура домой ушла… – побледнел от ужаса будущий Трифонов.
– Догоняй теток!
В тот вечер номер подписали на час позже. Вот тогда-то Гена впервые и попал на ковер в кабинет Танкиста. Преступление было очевидно: на пятнадцати гвоздиках висели подписанные полосы, и только под одним зияла пустота. А виновником этой страшной пустоты был он, Скорятин. Главный смерил злодея долгим тяжелым взглядом, отчего Гена невольно встал по стойке «смирно».
– А если бы газету в окопах ждали? – спросил Танкист прокуренным скрипучим голосом. – Молчишь? М-да… Выгнать тебя к чертовой матери с волчьим билетом, и плевать, что за тебя, дурака, хорошие люди просили.
– Иван Поликарпович…
– Молчать! Не выгоню. Мозгам своим скажи спасибо. Я в журналистике сорок лет, фронт прошел, а мне и в голову ни разу не пришло, что дефицит тряпья – то же самое, что нехватка брони на Курской дуге. Разгромом попахивает. Молодец ты, хоть и разгильдяй! В последний раз прощаю. Иди! Стой! Начальник в кресле не только головой работает, но и задницей. Сам узнаешь. Сгинь с глаз моих, обормот!
За Гену просил тесть, заведовавший в Художественном фонде закупкой свежей живописи, а дочь главного оказалась, как на грех, художницей – «авангардурой». Так он сам выражался в узком кругу. Танкист относился к мазне единственного ребенка точно к обидной болезни, вроде диареи. А что поделаешь – кровиночка.
Иван Поликарпович Диденко (в редакционном обиходе – Танкист или Дед) редактировал «Мымру» лет двадцать. Фронтовой корреспондент, разъезжавший на броне танков чаще, чем на редакционной «эмке», он умудрился даже затесаться в одну из групп, посланных вывесить на рейхстаге знамя Победы. Но отряд накрыли минометным огнем, и задание они не выполнили. Когда-то Дед гремел очерками о послевоенной Кубани, сильно отличавшимися от сытой и веселой жизни киношных казаков. Он даже сидел в следственном изоляторе, пока разобрались, вернули партбилет и вставили за казенный счет железные зубы. Свой первый серьезный пост, и не где-нибудь, а в «Правде», Танкист получил после того, как хорошенько «протащил» безродных космополитов в краевой газете. Вся читающая страна повторяла тогда его каламбур: «Борьба с “космополипами” требует скальпеля!» Он долго работал заведующим отделом в главной партийной газете, а потом ему доверили самостоятельное дело – новый еженедельник «Мир и мы», созданный в самом конце «оттепели» при Обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами, чтобы продемонстрировать «определенным кругам на Западе», что в Советском Союзе тоже есть беспартийная, даже свободная печать. Диденко вызвал сам Суслов и сказал:
– Давай-ка посмелей, но без партизанщины. Не подведи!
Не подвел: газету делал лихо, дерзко, с выдумкой, но без карманного интеллигентского кукиша. Острые материалы обязательно согласовывал на Старой площади. Впрочем, это не спасло его от инфаркта и двух выговоров – с занесением и без занесения. Однако в те времена, когда Скорятин после журфака, по протекции тестя (сначала Гену распределили в «Тургайскую правду»), пришел в «Мымру», Ивана Поликарповича редко звали Танкистом, чаще Дедом. Он превратился в усталого, обрюзгшего старика с одышкой и синими губами сердечника. Обычно вечером, в четверг, Дед сидел над готовыми полосами, мрачно рассматривал визы корректуры, ведущего редактора, штамп Главлита и никак не решался подписать выпуск «в свет», напоминая сапера, тяжко склонившегося над миной неведомой конструкции. А утром, придя, как всегда, к девяти, он пил чай с баранками и косился на «вертушку» – телефон цвета слоновой кости с латунным советским гербом на диске. Партийное начальство начинало рабочий день с чтения главных газет: «Правды», «Известий», «Совраски», «Комсомолки», «Труда»… До «Мымры» руки доходили часам к одиннадцати. Как раз в это время Дед просил секретаршу, служившую с ним, кажется, еще в «Красной Кубани»:
– Зинаида, накапай валерьяночки!
Когда стрелки, малая и большая, сходились на двенадцати, его морщинистое лицо веселело, а в начале первого, поняв окончательно, что роковых ошибок в номере не обнаружено, Дед, потирая руки, собирал редколлегию, чтобы поощрить, пожурить и поставить коллективу новые задачи. Ну а если все-таки, очень редко, «вертушка» звонила, он осторожно брал трубку, слушал нагоняй, багровея, никогда не спорил, отвечал по-военному: «Виноват», «Не повторится», «Учту», «Так точно!» Но никогда не выдавал на расправу сотрудника, допустившего прокол или неположенное своемыслие. Лишь потом, отдышавшись, приняв седуксен, Диденко вызывал «вредителя», ставил по стойке «смирно» и воспитывал крупнокалиберным окопным матом. Чаще всего попадало Скорятину, которого так и тянуло к разоблачениям и запретным темам. Наругавшись, Танкист брался за сердце и говорил уже спокойно, почти жалобно:
– Гена, не надо! Зачем?
– Но это же правда!
– Да нет никакой правды! Правда – то, от чего жить хочется. А когда от правды впору удавиться, это не правда…
– А что же это, Иван Поликарпович?
– Сам когда-нибудь поймешь… Ладно, иди! В последний раз прощаю.
Сколько их было, «последних прощений», – не сосчитать…
Сняли Танкиста вскоре после прихода Горбачева. Тогда многих погнали. Убрали, не дожидаясь оплошности, как полагалось прежде, при застое, просто вызвали на Старую площадь и освободили. От оскорбительной внезапности Дед слег с инфарктом и в редакции больше никогда не появлялся, а его немногочисленные вещи, включая макет «тридцатьчетверки», вывозила Зиночка – нерасписанная жена вдового шефа. Это обстоятельство они почему-то тщательно скрывали, хотя даже студенту, пришедшему в «Мымру» на практику, первым делом докладывали:
– С Зинаидой Антоновной повежливей. ППЖ!
– Что?
– Походно-полевая жена.
На пенсии они наконец расписались. Диденко выздоровел, поднялся, кто-то даже видел его 9-го мая у Большого театра в орденах и медалях. Умер он неожиданно: гулял во дворе и слушал по приемнику, висевшему на груди, трансляцию Съезда народных депутатов. Когда Зинаида, увидев в окно неладное, прибежала к рухнувшему в сугроб мужу, из транзистора молотил всезнайка Собчак, бодрый, как распорядитель утренней гимнастики.
Шабельский, сменивший Деда, велел убрать из редакции все напоминавшее о временах Танкиста, в том числе и рейку с номерами. Но когда Скорятин стал главным, он распорядился вернуть гвоздики. Зачем? Ну, во-первых, так привычнее. В старости не поспеваешь за торопливой новизной, которая кажется лавиной нелепостей и ошибок, и хочется чего-то давнего, знакомого, привычного. Кроме того, рейка с гвоздиками казалась ему признаком власти, как, скажем, скипетр или горностаевая мантия монарха.
Гена снова нажал кнопку – секретарша не откликалась.
«Вот сучка!»
Тогда он вызвал по селектору своего первого заместителя Сун-Цзы-Ло. На самом деле звали его Володей Сунзиловским. Когда-то он учился в институте восточных языков на китаиста, готовился в дипломаты, забредал на сходки Рыцарей Правды, сидел, молчал, ухмылялся… Сгубила его безответная любовь: втюрился в однокурсницу, сделал предложение, получил обидный отказ и наложил на себя руки – неудачно, по-детски. Как «суицидалу», ему прилепили диагноз, сослали на год в академку, но главное – он стал невыездным, и международная карьера накрылась большим медным тазом с колосистым советским гербом на днище. В журналистику Володя попал случайно: принес с улицы в «Мымру» статью о жуткой расправе на площади Тяньаньмэнь. Написал с тайных слов потрясенного однокурсника, служившего в советском посольстве в Пекине. Тот уверял, будто танки ездили по башни в размолотом человеческом мясе. Врал, наверное. Вон, сначала тоже кричали, что и в Белом доме в 1993-м убили тысячи людей, а потом оказалось: всего двести, и ни одного депутата. Шабельский пришел от материала в восторг и взял Сунзиловского на договор, а потом и в штат. Володя долго вел международную политику, дорос до зама. Исидор, мечтавший возглавить «Известия», готовил его в преемники, но не вышло. Неудавшийся китаист был скрытен, замкнут, немногословен, чурался женщин и очень редко смеялся из-за своих огромных желтых зубов, которые при малейшей улыбке выпирали изо рта, делая его похожим на веселую лошадь.
К 1991-му сумасшедших вокруг стало столько, что, казалось, в Москве проходит Всемирный фестиваль буйно помешанных. Доктора хором каялись за карательную психиатрию и признавались в жутких врачебных ошибках. Сунзиловского объявили жертвой совкового произвола, сняли диагноз и выпустили наконец в Китай. Вернувшись, он совсем перестал улыбаться, затуманился и ходил по редакционным коридорам скорбной тенью. Правда, не забыл угостить коллектив кислой китайской водкой, настоянной на змее.
– Ну и как там, в Поднебесной? – любопытствовали сотрудники, запивая кислятину родной «Пшеничной».
– Мы идиоты! – отвечал он.
– Почему?
– Скоро поймете!
В кабинет к себе он пускал неохотно, а дома у него вообще никто не был, хотя в те времена вломиться кочующей пьяной оравой к кому-то на квартиру в полночь и гудеть до утра было делом обычным. Осчастливленный хозяин хмурился, протирая сонные глаза, вываливал из холодильника последние припасы, а за водкой бегали потом к таксистам. Поговаривали, что Володя пишет стихи в духе Ли Бо, но их тоже никто не видел и не читал. Однажды Веня Шаронов, не найдя собутыльников в пустой редакции, решил проведать загрипповавшего Сунзиловского, взял пузырь и без звонка поехал к нему в Сокольники. На осторожный вопрос из-за двери: «Кто там?» – остроумный Шаронов ответил не своим голосом: «Мосгаз», намекая на знаменитого душегуба Ионесяна, в 1960-е кромсавшего топором доверчивых москвичей. Но Володя шуток не понимал, потянул носом воздух, отпер и попал по полной программе. Шаронов обнаружил за дверью квартирку, любовно отделанную в китайском стиле: ширмы, бамбуковые занавески, низкая мебель, яркие бумажные фонарики. Со стен свисали свитки с иероглифами, птичками и кудрявыми срединными пейзажами, а также майоликовые талисманы с алыми кистями. Из угла мудро улыбался Конфуций. На бамбуковом столике стояли крошечные глиняные чайнички и чашки, пахло жасмином. Простой, как сто грамм, Веня вломился в самый разгар изысканной чайной церемонии и воскликнул:
– Ну, ты прямо Сун Цзы Ло какой-то!
Кроме Володи, одетого как мандарин, в чаепитии участвовала замужняя мымринская дама в едва наброшенном на голое тело шелковом халатике с серыми уточками. Больше ничего выведать у Шаронова не удалось, как Жора ни накачивал его пивом с водкой.
– Женская измена охраняется государством! – еле ворочая языком, отвечал Веня.
Коллектив в ту пору был немалый, сто человек с лишком, поэтому редакционные сплетники так и не смогли вычислить, кто же чаевничал с зубастым китаистом на низком ложе. А за Володей с тех пор закрепилось прозвище «Сун Цзы Ло», на которое он с удовольствием откликался, чувствуя себя почти великоханьцем.
В последние месяцы Сунзиловский выглядел плохо, похудел, в лице появилась сухая желтизна, ходил, шаркая, и останавливался перевести дух. Говорили: «онкология». Зато он стал чаще улыбаться, и все наконец узнали, кто же та секретная дама. Корректорша Мила Тюрина теперь безвылазно сидела у него в кабинете, щебетала и с ободряющей улыбкой смотрела на больного Володю безнадежными глазами.
– Что происходит? – строго спросил Скорятин, когда Сун Цзы Ло тяжело уселся перед ним. – Где «Мумия»? – и осекся: бедный Сунзиловский сам стал похож на мумию.
– А нам это надо? – спросил зам, едва открывая рот, чтобы не показывать некрасивые зубы.
– Но другие-то пишут!
– Ты же знаешь, почему они пишут и откуда ноги растут. Нам-то это зачем? Кошмарик приказал?
– Нет.
– Тогда зачем людей стравливать? Ну да, у нас семьдесят лет была такая религия. Все молились на Светлое Будущее. Пролетариат – бог. Классовая борьба – Богородица. Маркс с Лениным – пророки. Верили, что человек и наука могут все. Понимаешь, все! Могут труп сделать нетленным. Почему мощи Ильи Муромца не гниют, мы не знаем. Чудо! А почему Ленин не гниет или почти не гниет, знаем. Наука! Мавзолей – храм этой бывшей веры. Зиккурат. Пирамида. Какая разница! Но теперь мы снова хотим верить в Бога Живаго, а не в Человека. Ладно! Попробуем. Но пусть эти позитивистские мощи лежат там, где их положили. Не мы положили, не нам выносить. Лет через сто разберутся…
– Ты уверен?
– Уверен. Китайцы древней и мудрей нас. Думаешь, они не знают, сколько народу Мао угробил? Отлично знают. Но условились: лет пятьдесят об этом ни-ни. Думать – пожалуйста. Говорить – нет…
– Разве это хорошо?
– Плохо. Но мерить прошлое настоящим еще хуже. Ведь то, что для нас зло, для потомков может оказаться благом. И наоборот. Так бывает.
– Конфуций?
– Не исключено. Не надо глумиться над бывшей святыней. Люди совсем отучатся верить. Понимаешь?
– Ну да…
– Ген, сними из номера «Мумию»!
– Я обещал.
– Кому?
– «Мемориалу».
– Напрасно. Сборище обиженных внуков.
– Ну, это как сказать, – возразил Скорятин.
Он ждал от «внуков» премию «За борьбу с тоталитарным прошлым».
– Сними!
– А что в «дырку» поставим?
– Найдем. Может, еще и некролог какой-нибудь выскочит. Жизнь течет. Помру – напишете.
– Типун тебе на язык!
– Я пошел?
– Иди! – бессильно махнул главный редактор.
– Ты что-то сегодня плохо выглядишь.
– Просто устал, не выспался.
– Я тоже думал, просто устаю. Оказалось – симптом. Чуть ли не главный. Обследуйся! Тут важно не прозевать. На второй, даже третьей стадии теперь лечат…
– Обязательно! Может, Вов, тебе в «кремлевку» залечь? Я позвоню.
– Оттуда меня точно вынесут, как Ленина. Помнишь, у Веньки:
Икрою кормят в ЦэКаБэ,
Зато врачи ни «мэ», ни «бэ».
Володя тяжело встал и пошаркал к двери.
– Как тебе моя «Клептократия»? – вдогонку спросил Скорятин.
Его задело, что Сун ничего не сказал о статье, а ведь Гена под большим секретом дал прочесть только ему и Жоре. Володя остановился, с трудом повернулся, улыбнулся шире, чем обычно, – во весь свой лошадиный оскал:
– Прежде чем говорить императору правду, не забудь встать на колени. Ты не осторожен, мой друг!
Гене показалось, что у бедняги похудели даже зубы.
Проводив Сун Цзы Ло, Скорятин попытался снова сосредоточиться на письме о незаконной вырубке Коми-лесов, но не смог. Он не выспался, чувствовал себя старым, усталым и, поднимаясь в редакцию, на шестой этаж, даже не заглянул, как обычно, на третий, в «Меховой рай», к Алисе, чтобы выпить кофе и поболтать. Ему было совсем скверно.
Ночью, очнувшись от путаного сна с погонями и сердечным испугом, он долго лежал, не открывая глаз и надеясь уснуть, но в голову лезло все то, от чего удавалось отмахнуться днем. Вспоминал ссору с Викой, ее уход из дому и ненависть в глазах дочери, когда она, обернувшись на пороге, сказала: «Ну пока, dady!» Английское словцо прозвучало как «дядя». За что? Была дочь – и нет!
Да и последний Маринин запой дорого обошелся. Она безобразно чудила, пыталась отравиться горстью антидепрессантов. Таблетки удалось выбить из рук, они раскатились по ковру, жена ползала на коленях, собирая, а он со скандалом отнимал. Когда примчался семейный «нарколог-гинеколог» (доктор сам себя так называл в шутку), Ласская, раздевшись догола, бегала по квартире, тряся жирным телом и мотая огромной вислой грудью. Она с девичьим хохотом увертывалась от нацеленного шприца и воображала себя, вероятно, чертовски пикантной. Догнали, повалили, укололи…
Мучил недавний звонок Корчмарика из Ниццы. Сбежав от прокуратуры, хозяин руководил «Мымрой» с Лазурного берега. В редакции его прозвали «Кошмариком» – за улыбчивую и непредсказуемую свирепость. Он добыл по случаю жуткий компромат на своего давнего врага – могучего кремлевского разводилу Дронова и потребовал, чтобы Скорятин сам написал разоблачугу.
– Леонид Данилович, а может, пусть лучше Солов, – уныло предложил главный редактор, – в стихах…
– Никакого Солова. Никаких стихов. Если будет утечка, нам всем пипец! А Солов – пустобол, в фейсбуке все вываливает: и как пожрал, и как поспал, и как трахнулся. Сам накатаешь. Лично. Ты же хорошо сочиняешь. Тряхни стариной!
– А Дронов? – осторожно спросил Скорятин.
– Не бзди, Гена! Ему конец. Дофокусничался, Кио! Мать его…! Мы вобьем последний гвоздь в гроб этого…!
Хозяин выматерился с прилежной изобретательностью интеллигента в третьем поколении. И Гена тряхнул, сочинил, да так сочинил, что сам удивился, перечитывал и розовел от удовольствия: «Даже кремлевские звезды краснеют со стыда, глядя на ваше казнокрадство! Карамзин на вопрос “Что происходит в России?” отвечал кратко: “Воруют…” Но вы свершили то, чего прежде не бывало в многогрешном Отечестве нашем, вы превратили пошлое воровство в мегапроект, в государственную идеологию, в религию. Осталось учредить медаль “За казнокрадство”…»
Несмотря на предупреждение, Гена показал статью самым надежным – Жоре и Володе. Хотелось похвал. От Кошмарика не дождешься, а только: «За что я вам плачу?! Разгоню к чертям свинячьим!» Раньше он всегда давал читать написанное Марине, но она стала слишком придирчива в последнее время, наверное, чует измену. Даже во сне у нее подозрительное выражение лица.
Включив ночник, Скорятин раскрыл книгу модного писателя Миши Эпронова, но с первых строк ему сделалось тошно. С ума, что ли, сошли?! Очерк о доярке для «Сельской жизни» в прежние времена лучше писали. Силос какой-то! Он встал, заглянул в холодильник, поел и бродил по большой квартире, вздрагивая от шорохов, скрипов, водопроводных урчаний, пугаясь нагромождений советского авангарда, выползавшего из рам. Тесть, уезжая в Германию, лучшие картины увез, но кое-что, поплоше, оставил, хотел забрать позже и не успел.
Скорятин, жуя, долго смотрел в окно на заснеженный Сивцев Вражек, плотно уставленный прямоугольными сугробами, в которые за ночь превратились припаркованные автомобили. Вернувшись в спальню и улегшись в широкую супружескую постель, он старался не глядеть на мерно дышавшие тучные останки Марины.
В молодости Гена любил жену без памяти, нетерпеливо вожделел и ревновал к каждому, кто бросал заинтересованный взор на ее стати. Будь он военным при оружии – обязательно пристрелил бы кого-нибудь, посмевшего коснуться проникающим взглядом его женщины! А теперь? Теперь такое чувство, что спишь в одном купе с похмельным, закусившим черт знает чем попутчиком, – и когда долгожданная конечная станция, никто не знает…
«Нет, у любви, как и у жизни, должно быть только начало. Конец любви – это даже не смерть. Гораздо хуже!» – бессонно думал он, мучаясь в нервической полудреме и вспоминая молодость, когда каждое пробуждение становилось радостью.
…Они учились вместе в университете и поженились на последнем курсе. С восьмого класса Гена занимался в кружке юных журналистов при доме пионеров, даже получил почетную грамоту как лучший юнкор Бабушкинского района, печатался в многотиражках, даже опубликовал в «Алом парусе» заметку «Здравствуй, лось!» – про сохатого, забредшего в город из лесу. Однажды Фаза после урока тяжело посмотрела на юнкора и сказала: «Останься!» Он похолодел: «Ну какого черта было курить натощак!» Однако речь пошла о другом.
– И как ты с таким немецким на журфак собрался?
– Не знаю.
– А кто знает, Шиллер? Завтра останешься – будем заниматься по два часа. Каждый день. Понял?
– Понял.
И Фаза, растившая без мужа мальчиков-двойняшек, стала ежедневно вбивать в него немецкий язык, как железную сваю в мерзлый грунт. Иногда он делал уроки у нее дома вместе с близнецами, послушными, четкими, как маленькие солдатики вермахта. Отец с матерью, узнав, что сын занимается с репетитором, долго совещались, крутя так и сяк семейный бюджет, и выделили ему двадцать пять рублей в месяц, но когда он принес Фазе в конверте четвертной, она взбесилась и чуть не выгнала его вон.
– Мне не деньги твои нужны! Мне надо, чтобы ты артикли не путал и приставок отделяемых не глотал, думкомпф!
«Проведать Фазу!!! Говорят, совсем ослепла…» – делая пометку в ежедневнике, он вспомнил старушку, которая на прошлогоднем сборе класса натыкалась на рослых, раздобревших своих учеников, угадывая: «Петя? Володя? Леночка?…»
За все лето Гена так и не выбрался на Торфянку искупаться с друзьями, но немецкий сдал на «отлично», хотя гоняли его, как врага народа, даже заставили Гейне наизусть читать. Однако в университет юнкор все равно не поступил: схлопотал тройку за сочинение. Возмущенная директриса школы Анна Марковна, тоже принимавшая участие в его судьбе, помчалась в приемную комиссию, где работала ее подруга. Вернулась расстроенная, сообщила: «Ты ляпнул две ошибки, синтаксическую и стилистическую, а это – твердая четверка». Тройку вкатили из-за небывалого наплыва «блатных»: ректору пришлось выбирать между дочкой известного историка-диссидента и сыном заместителя директора ЦУМа. Победила, конечно, торговля. Но диссидент сбегал в Минобр, пошумел, и дочку взяли на вечернее отделение, чтобы потом тихо перевести на очное.
А Скорятина забрали в армию, в ракетные войска, на Кольский полуостров. Сначала было тяжело, особенно в «учебке», да и потом, в части, нелегко. К изматывающим дежурствам и брюзгливому недовольству офицеров добавлялось дурное всевластие «стариков», гонявших «салабонов», как крепостных. Особенно лютовал сержант Мастрюк, который постоянно всем грозил надавать по ушам и приводил приговор в исполнение, используя для экзекуции колоду засаленных взводных карт. Почему-то он сразу облюбовал Генины уши, торчавшие на стриженой голове подобно двум локаторам на сопке. Было больно и унизительно. Но потом Мастрюк спьяну задрался с чеченцами из автовзвода и попал с переломом основания черепа в госпиталь, откуда его комиссовали. И через год Скорятина, отстегав по заднице ремнем, торжественно перевели в «скворцы», – жить стало лучше и веселее. В части оказалась отличная библиотека, и он много читал, особенно когда стал «стариком» и обрел тот ленивый досуг, какой возможен лишь в последние сто восемьдесят три дня службы на «точке», затерянной в мшистых скалах. Он писал Фазе письма на немецком, она отвечала, указывая ошибки и давая задания. Анна Марковна присылала темы сочинений и экзаменационные вопросы, выведанные у подруги, чтобы он, гордость школы, охраняя родину, мог подготовиться к реваншу. Гена помнил, что в приемную комиссию надо представить свежие публикации, и накатал пару текстов о мужественных буднях Н-ского подразделения, где командиры отечески-требовательны, а солдаты радостно-исполнительны. «Дивизионка» охотно тиснула его заметки под рубрикой «Ратная вахта», которую между собой ракетчики называли «Здравствуй, сказка!». С тех пор по просьбам однопризывников он строчил письма девушкам, томящимся во всех уголках огромного Советского Союза. Содержание было примерно одно и то же:
Вернусь и сразу обниму Тебя, прижав к груди. Жди, не давая никому! А если дашь – не жди!
Офицеры же стали звать писучего ефрейтора «военкором», вкладывая в это слово свое незлобивое презрение к армейской печати.
Ракеты, спрятанные поблизости в бездонной шахте, могли смести пол-Европы, но Скорятин об этом не думал, хотя знал: предполагаемый противник тоже обладает ядерным оружием, способным разнести в пыль Москву вместе с Бабушкинским районом. Атомная война казалась менее реальной, чем замысловатые выдумки Станислава Лема, Айзека Азимова или Роберта Шекли: на гарнизонных полках имелась даже Библиотека мировой фантастики. Бойцы-ракетчики, запершись в каптерке, пили спирт, купленный вскладчину у прапорщика, и пели под гитару, переиначивая советский шлягер:
Летит по небу сорок тонн. Прости нас, город Вашингтон…
Иногда Гена просыпался среди ночи, отгибал край байкового одеяла, служившего шторой, и впускал в казарму немного незаходящего летнего солнца. Он вынимал из-под подушки книгу, открывал страницу, заложенную фоткой одноклассницы, не отвечавшей на письма, и пропадал в чудесном мире чужого воображения. Собрание сочинений Джека Лондона было прочитано дважды с первого до последнего тома. Мартин Иден стал его старшим братом, которому хочется подражать во всем. Лежа на узкой солдатской койке, Скорятин мог часами мечтать о чем-то беспредметно-нежном и бесформенно-грандиозном, в его фантазиях отзывчивая девичья красота переплеталась с земной славой. В реальность бойца возвращал крик дневального: «Взвод, подъем!» Еще он читал фантастику, но вскоре мыслящие вакуумы, влюбленные андроиды, параллельные миры и нуль-транспортировки стали не интересны, как игра в «морской бой» на уроке литературы, когда класс бурно спорит, почему умная и тонкая Наташа Ростова втюхалась в дворянского раздолбая Анатоля Курагина, кинув замечательного Андрея Болконского. Вот тебе и дуб при лунном свете!
Домой Гена вернулся возмужавшим, окрепшим, его лицо, до призыва почти детское, обветрилось и посуровело, а в движениях появилась взрослая уверенность. Если в «учебке» он извивался на турнике, будто червяк на крючке, то через год уже крутил «солнышко». Пока Скорятин, гордясь своей мохнатой, словно бурка, дембельской шинелью, ехал на поезде в Москву, вся казарменная дурь и бестолочь как-то отшелушились, осталась благодарная тоска по тем временам, когда сердце, бесприютное по природе, стучало в добром согласии с ухающим строевым шагом. Перезимовав, он снова подал документы на журфак и поступил без конкурса, как положено тому, кто отдал долг Родине. Кстати, за сочинение на вольную тему «Мое Заполярье» ему поставили «отлично». Экзаменатор даже потом спросил удивленно:
– Вы написали: «Полярный день – это полярная ночь наоборот»?
– Я.
– Недурственно, очень недурственно! У вас способности. Не промотайте!
Темноволосую Марину Ласскую Гена заметил на первой же лекции. У нее было тонкое восточное лицо, гордый нос, резко очерченные губы и большие туманные глаза. Ее фигура ошеломляла избытком женственности, заставляющей мужчин оглядываться, мечтательно цокая языками. Она играла маленькие роли в студенческом театре, который разместился в университетской церкви Святой Татианы: сцену сколотили как раз на месте алтаря. Услыхав от внука про такое безбожество, бабушка Марфуша в ужасе перекрестилась: «Кому храм, а кому срам». Но бедный влюбленный не пропускал ни одного спектакля с участием Ласской, хотел даже записаться в труппу, но режиссер посмотрел на него грустными глазами и покачал головой: не подходишь. А вот Лёшка Данишевский им подошел и прыгал чёртом в «Черевичках». Отец Алексей теперь в пресс-центре Патриархии служит.
При каждой возможности Гена старался сесть на занятиях поближе к Марине, перехватить ее взгляд, подсказать нерасслышанное слово преподавателя, поднять упавшую тетрадку – все бесполезно: они едва здоровались. Он сообразил, в чем дело, и отрастил на висках волосы, как у актера Боярского, чтобы прикрыть свои броские уши. Не помогло. Ласская продолжала смотреть сквозь него в какую-то тайную девичью даль. Тоскуя, Скорятин уходил после занятий на плац возле психфака и перед зеркалами, вспомнив «курс молодого бойца», лупил по асфальту строевым шагом, удивляя редких студентов и пугая ворон, гревшихся возле вентиляционной будки подземки. Отпускало. Иногда с Ренатом Касимовым они отдавались в опытные руки психологов и, получив по рублю за участие в научных экспериментах, покупали вина. Злоупотребляли тут же на плацу, схоронившись за «паровозом» – бесхозным компрессором на колесах. Это еще лучше помогало от безнадежной любви.
Марина явно принадлежала к той части однокурсников, которых теперь назвали бы мажорами, а тогда именовали блатняками. Они были веселы, надменны, беззаботны, одеты в недосягаемую «импорть», курили «Мальборо», в крайнем случае «Союз – Аполлон», после каникул возвращались на факультет загорелые и громко вспоминали, сколько бутылок «Киндзмараули» выпили на Пицунде и сколько телок сняли в Ялте. А Гена все каникулы бегал курьером в «Московской правде»: деньги небольшие, зато заведующий редакцией Миша Танин, будущий банкир, обещал после университета взять в штат. Возможно, он сдержал бы слово, но, растратив кассу взаимопомощи, вылетел с работы.
На Гену, ходившего на занятия в единственных застиранных джинсах и свитере домашней вязки, блатняки взирали с сонным недоумением, им казалось, что человек, не одетый в настоящие «вранглеры» и замшевую куртку, не имеет никакого права учиться на журналиста. Он в долгу не оставался и смотрел на них с презрением, как Мартин Иден на глупых и алчных добытчиков. Выходило, вроде бы, неплохо: брови от природы у него были хмурые, а подбородок Скорятин для достоверности выдвигал вперед. Наблюдательный Ренат называл такое выражение лица – «Чингачгук перед казнью». Но ни блатняки, ни Ласская ничего не замечали.
Познакомиться с Мариной поближе было невозможно: после занятий она никогда не задерживалась, быстро выходила за факультетские ворота, поворачивала направо и спускалась в метро. Иногда в начале улицы Герцена ее ждала машина, всегда одна и та же – «семерка» кофейного цвета. Но сквозь затемненные стекла так и не удалось разглядеть, кто ее встречает. А кто девушку встречает, тот и провожает. Потом Марина на два месяца пропала. Говорили: болеет. Вернулась худая, бледная, отрешенная, но уже не убегала после занятий, а, наоборот, могла подолгу сидеть на лавочке у памятника и курить, неподвижно глядя на тлеющую сигарету. Однокурсники и парни с других факультетов к ней давно уже не подкатывали – отшить-то она умела. Одному, самому нахальному, при всех дала в глаз.
Почему Гена решился подойти – объяснить невозможно. Просто бывают дни сердечной отваги, когда жизнь подвластна желаниям, а судьба кажется пластилином, из которого можно вылепить все, что захочешь. В молодости такие дни не редкость, с возрастом их становится все меньше, а старость – это когда понимаешь: жизнь уже не может измениться, она может только закончиться.
Ласская сидела одна на лавочке и остановившимся взглядом смотрела на огонек сигареты. Гена долго прятался за колонной, собираясь с силами. Наконец коротко выдохнул, точно хотел выпить рюмку, подошел к однокурснице и сел рядом. Она чуть отодвинулась, словно не узнала.
– Как дела? – хрипло спросил он.
– Пока не родила.
Скорятин настолько опешил от такого ответа, что покраснел и взмок. Марина это заметила и снисходительно улыбнулась (наверное, от сознания своей власти над начинающими мужчинами), но снова нахмурилась и уставилась на сигарету. Серый столбик пепла был уже не менее сантиметра.
– А-а тебе… – после неловкого молчания начал студент.
– Нет, мне не скучно, – не дав договорить, ответила она. – Мне никак. Понимаешь, ни-как.
– Понимаю. Можно куда-нибудь сходить.
– Например?
– Не знаю. Можно – на Лазунова.
– Кто это? Композитор?
– Нет, художник, – он кивнул на длинную очередь в Манеж, хорошо видную с горки.
– Разве он художник?
– А кто же? – снова оторопел Гена.
– Так себе. Ремесленник. – Она отвечала, не сводя глаз с пепла, который стал еще длиннее и все никак не падал.
– А кто же тогда художник?
– Целко́в, например.
– Целко́в? – переспросил Скорятин.
– Ты не знаешь Целкова? – Марина впервые глянула на однокурсника с интересом.
– Не знаю! – ответил он со злостью и встал, стыдясь пузырей на коленях, какие бывают только у самых дешевых, «палёных» джинсов.
Пепел наконец упал на асфальт. Ласская растерла его белоснежной кроссовкой, тряхнула головой, словно приняв важное решение, и сказала:
– Ладно. Пусть будет Лазунов. Пошли, Геннадий, уговорил! – Оказалось, она знала его по имени.
Они перебежали на красный свет запруженную машинами мостовую, и Марина повела растерянного однокурсника не в конец очереди, удавом обвивавшей Манеж, а в самое начало, показала милиционеру какое-то удостоверение, и через несколько минут они стояли перед огромной, во всю стену «Истерией ХХ века».
– Ну, и как? – с иронией спросила она.
– Напоминает «Гернику», – солидно ответил Гена.
– Издательство «Плакат» это напоминает. Пошли лучше в «Космос».
– Но… стипендия послезавтра…
– Деньги у меня есть, не переживай.
Перед знаменитым кафе на улице Горького томился целый хвост, в основном молодежь, которой было все равно, где бездельничать. Но и тут Марина прошла без очереди, улыбнулась усатому швейцару, как добрая знакомая, и что-то вложила в его осторожную ладонь. Пока торопливо убирали столик, Ласская успела кивнуть нескольким знакомым, а с одним, длинноволосым, почеломкалась.
– «Огни Москвы», – сказала она снулому официанту. – И без лимонной кислоты.
– Понял! – кивнул тот и ожил, словно услышав долгожданный пароль.
На другой день, к изумлению всего курса, они сели на лекции рядом. Марина принимала неловкие ухаживания с благосклонным недоумением, точно не догадывалась, какую конечную цель преследует Гена, даря цветы, угощая мороженым, осторожно гладя руку в пестрой темноте кинозала и провожая домой. Она жила в Сивцевом Вражке, в старинном доме с эркерами. Но Скорятин, в отличие от других претендентов, ухаживал без всякой надежды, вкушая радость от одного ее присутствия, от приветливого взгляда, от тайной гордости, что с ним ходит такая девушка! Марина, конечно, все понимала, ее неприязнь к мужчинам, невесть откуда взявшаяся, сменилась насмешливым любопытством: ну когда же этот плохо одетый и глупо подстриженный мальчик хоть на что-то решится? Он никогда бы не решился, если бы Ласская, устав ждать, сама не попросила. А было так: они сидели в Нескучном саду и разглядывали чудо-диктофон величиной с пачку сигарет, привезенный ее отцом из Токио.
– А ты знаешь, что еще сто лет назад в Японии никто не целовался?
– Почему? – опешил Скорятин.
– Просто не умели, как и ты… – и она разрешающе улыбнулась.
– Я умею… – глупо ответил он.
– Неужели? Тогда постригись – у тебя такие замечательные уши!
Дальше события развивались стремительно. Через неделю Гена лежал с Мариной в постели, целовал ее большую распавшуюся грудь и трусливой рукой нащупывал скользкий путь к счастью.
– Не бойся, не бойся! – шептала она.
– Тебе же будет больно…
– Не будет.
– А тебе можно?
– Можно, можно, ни о чем не думай…
Но Скорятин думал и боялся. Она была его первой настоящей девушкой после неверной одноклассницы, с которой они, кажется, и сами не поняли, что натворили в ночь после выпуска, перепив шампанского. Девочка испугалась, ей было так больно, что второго шанса Гена не вымолил и ушел в армию. И через два года он нашел ее на сносях. Видимо, новая попытка, совершенная кем-то другим, оказалась удачней. Остальные освоенные им женщины, вроде бы, не считались. Да и было их немного: ядреная лимитчица со стройки в Лосинке, смешливая, пахнущая рыбой работница консервного завода, к которой бегал в самоволку, пьяный случай с дылдой-психологиней по кличке «Вамдамская колонна». Как-то выпало обладание интеллигентной худышкой Норой в Переделкино. Там в бревенчатых теремах скучали на выданье воспитанные потомицы великих дедов. Гену туда повез после пивной «Ямы» Ренат, ухаживавший за внучкой генерала Батукова Еленой, невыносимой красавицей. Нора, студентка архитектурного, сначала таращилась и дичилась нетрезвых поползновений Скорятина, но потом, наедине, со стыдливым остервенением набросилась на него, бормоча про торжество животного низа:
– Ты такой сильный, большой! Сделай мне больно!
Ошарашенный студент просьбу дамы выполнил, но решил с ней больше не связываться, однако она все время передавала через Касимова призывные приветы, и он нарушил зарок. Напрасно. Неутолимая Нора впадала всякий раз в полуобморочное состояние, горячо допытывалась, зачем с ней это делают, умоляла называть происходящее самыми грубыми словами, а потом и вовсе отключалась. Скорятин прекратил опасные свидания – от греха подальше.
Самой серьезной была связь с Ольгой Николаевной из бюро проверки «Московской правды». Номер подписали поздно, домой было по пути, а бедная женщина, отправив ребенка к матери в Ростов, мстила беглому мужу. К ней Гена ходил долго, искренне удивляясь, почему бросают таких жарких умелиц, превращающих скрипучую кровать в полигон взаимных восторгов. У него даже мелькнула безумная мысль о женитьбе. Но муж, одумавшись, вернулся, и Ольга Николаевна, вздохнув, сказала: «Ты милый, красивый мальчик, но семья – это семья!» «А может иногда… потихоньку?» – взмолился он. «Потихоньку кур крадут!» – рассмеялась она и подарила ему ночь окончательных открытий.
Но Марина Ласская – это совсем другое, это неизъяснимое!
Когда она неожиданно пригласила его к себе, он даже растерялся:
– Какие конфеты любит твоя мама?
– Никакие. Мы будем одни.
Отец Александр Борисович улетел с делегацией Союза художников в Венецию. Мать Вера Семеновна поехала проведать родню в Днепропетровск. А дедушка Борис Михайлович, как обычно, сидел на даче в Панкратове и писал свой труд «История атеизма в России». Огромная пятикомнатная квартира в Сивцевом Вражке напоминала музей после закрытия: старинные книги, картины, бронза, натертый дубовый паркет, громкие напольные часы – и никого. Ласская достала из бара с подсветкой «кампари». Скорятин успел заметить там множество бутылок с яркими неведомыми этикетками. Выпили. Она включила музыкальный центр «Сони» с большими черными колонками, поставила «Болеро», и они долго целовались, распаляясь под нарастающее безумие музыки. Потом Марина оттолкнула его, ушла в ванную, пошумела водой и появилась в туго перетянутом белом махровом халате, какие он видел только в зарубежных фильмах. Повинуясь ее кивку, Гена тоже отправился в санузел и чуть не устроил потоп, заинтересовавшись устройством биде, пользоваться которым прежде не доводилось.
Когда он вернулся, она лежала навзничь на кровати, распахнув халат. Он задохнулся от недевичьего изобилия ее тела и опустился на колени. Марине в самом деле больно не было, наоборот, она застонала и отзывчиво подалась ему навстречу. Когда, тяжело дыша, они распались, Ласская счастливо содрогнулась и шепнула с нежной усталостью:
– А ты лучше, чем я думала…
Гена почему-то вспомнил присказку бабушки Марфуши: «Чем девок пужают, тем баб ублажают», но благоразумно промолчал, потупившись. Странно устроен человек: неделю назад ему достаточно было одного присутствия этой девушки, благосклонного взгляда, а вот теперь он мучился оттого, что в ее жизни уже побывал кто-то, кому она так же отзывчиво подавалась навстречу. Чтобы не обнаружить глупую обиду, не объяснимую словами и не достойную интеллигентного человека, Скорятин уставился на картину, висевшую напротив. Марина, проследив его взгляд, объяснила:
– Целков.
– Ну да, а кто же еще…
– Говорю тебе, Целков. Папа с ним дружит. У нас пять работ. Когда-нибудь они будут стоить миллионы.
– Угу, – кивнул Гена, вглядываясь в мутные, пузатые, зубастые фигуры на полотнах, а сам подумал: «Скорее уж Лазунов будет стоить миллионы! Целков… Смешно!»
– Спроси! Ты же хочешь… – тихо проговорила Ласская, гладя его по влажным волосам. – Спроси! Ты славный. Мне с тобой хорошо…
– О чем?
– О нем. Спроси сейчас. Потом не отвечу.
– Мне не важно.
– Нет, важно, я вижу: ты лежишь и думаешь о нем.
– Может, о них…
– О нем. И запомни: был только он. Я его любила, но он женат. Хотел развестись. Мама сказала: нельзя строить счастье на чужом горе.
– Ты его еще любишь?
– Если бы любила, тебя бы здесь не было.
– Ты из-за него… тогда?
– Из-за него.
– А я не женат.
– Знаю, но, боюсь, ты не понравишься маме.
– Почему?
– Она хочет, чтобы мой муж был похож на ее отца.
– А тот… был похож?
– Был, – вздохнула она и заплакала.
«Тэк-с, что же делать с этим лесолюбом?» – подумал Гена, взяв красный фломастер.
Прав сыктывкарский ворчун: с лесами происходит непоправимое. Вот у них, в Панкратове, раньше сосенки были одна к одной, точно свечечки, ели стояли высокие, уступчатые, как пагоды, а березки светились, что у Куинджи. Травка в роще росла шелковая, ровненькая – просто гольф-поле! Тропинки чистенькие: в бальных туфельках бегать можно. Если какое-то деревце заболевало, хирело, сразу приезжали и аккуратно ампутировали. Да, конечно, поселок старых большевиков «Красный луч» был на особом присмотре, но и в других местах при коммунистах Скорятин не видел такой лесной разрухи и гнили. Зачем разогнали лесников, кому они мешали? Мужиков для охраны банков не хватало? На чем сэкономили? На космосе, обороне да на лесах. Теперь спутники падают, танки глохнут в тоннелях, а деревья гниют и валятся. Бурелом вокруг поселка похож на фильм ужасов: просеки заросли, дороги непролазные, забиты лесной падалью, всюду коряги, как окоченевшие спруты, – ни пройти, ни проехать. А грибы – сплошь желтые поганки. Ели стоят лысые, бесхвойные, сожранные жуком, в ветреную погоду огромные стволы рушатся на крыши. Пришлось чинить баню, раздавленную трухлявой громадиной. Срочно надо убирать еще с десяток гигантов, готовых рухнуть на дом, а таджики взяли под себя санитарную рубку и дерут до 30 тысяч за ствол, в зависимости от толщины. У них, в Урюкстане, за такие деньги целый кишлак год кормится. Но ничего не поделаешь, рубить придется, в том числе и старинную березу, ту, что, стуча ветками по стеклу мансарды, пугала юных любовников, приезжавших тайком на дачу, если дедушка отбывал в санаторий или на конференцию по атеизму. Они пили вино, дурачились, бегали по огромному скрипучему дому голые и на ковре, у пылающего камина, сплетались юными бесстыдными телами. Правда, такая удача выпадала не часто, Борис Михайлович неохотно оставлял любимую дачу, а в Сивцев Вражек Марина больше не звала, созналась: донесла бдительная соседка, мать устроила истерику – не хочет новых неприятностей.
– Каких неприятностей?
– Неважно. Мы же договорились: не вспоминать прошлое.
Скорятин начертал красным фломастером в углу письма наискосок: Сунзиловскому. Связаться с автором, подготовить материал для рубрики «Немытая Россия». И поставил свою подпись – обдуманно витиеватую.
…Иногда замужняя подруга давала Марине ключи, они после занятий ехали в Марьину рощу и, озираясь на чужой уют, набрасывались друг на друга. Это была не страсть, а какая-то плотская болезнь, лихоманка, нежное остервенение. Влюбленные, как два химических вещества, по отдельности безобидны, но, оказавшись рядом, взрывоопасны. Они жаждали друг друга всегда и везде, даже сидя рядом на лекции, незаметно (им так казалось) трогали, дразнили друг друга, изнемогая. Весь мир, громоздко суетящийся вокруг, казался лишь хитроумным препятствием к тому, чтобы уединиться, насытиться, извлекая из слияния тел космическое счастье. Пригласить Марину к себе, в окраинную «двушку» с облезлыми обоями, Гена стеснялся. Но выручал однокурсник Ренат. Сирота, он обычно оставался на каникулы в общежитии, один в четырехместной комнате, но по первой же просьбе отбывал как бы в библиотеку, давая приют жадным влюбленным.
Хороший парень! Он был, кстати, членом их тайной студенческой организации. Тогда все зачитывались «Проклятыми королями» Дрюона, купленными по макулатурным талонам, и бредили тамплиерами. Однажды со стипендии Гена, Алик Веркин и Касимов завалились в Домжур, перебрали пива с сухариками и в хмельном озарении учредили «Орден рыцарей истины». Но аббревиатура ОРИ показалась обидной, и они переименовали тайную организацию в ОРП – «Орден рыцарей правды». Алик был против, издевался, мол, все будут думать, что это орден рыцарей газеты «Правда». А он читает только парламентский орган, «Известия». Выпили еще по кружке и поставили на голосование. Веркин оказался в меньшинстве. Дураками были невозможными – мальчишками.
Главной задачей ОРП определили борьбу с лживой советской печатью. Наметили формы сопротивления: писать честно, без вранья, готовить народ к переменам, а со временем занять руководящие посты, чтобы, пользуясь властью, всех осчастливить и отменить цензуру. Как первое соединить со вторым, не подумали, а ведь знали, что недавно шумно сняли с работы «главнюка» одной городской газеты, допустившего на полосе шапку «Не спи у руля!». Накануне четырехзвездочный Брежнев задремал в президиуме пленума, и это увидел по телевизору весь мир. Напрасно бедолага-редактор объяснял, что речь в статье о пьянстве на речном флоте, слушать не стали – сослали в многотиражку.
Завлекали в Орден осторожными разговорами о зияющих высотах, о вашей и нашей свободе, давали почитать что-нибудь запрещенное, вроде «Острова Крыма». Потом обсуждали, собравшись в общаге или на даче у Ленки Батуковой. Слушая разговоры об «империи зла», о ГУЛАГе в одну шестую часть суши, Нора смотрела на Гену так, словно готова была пойти с ним куда угодно – по солженицынским местам. В институте тоже иногда схватывались в спорах о подлом настоящем и честном будущем, но если приближался преподаватель, замолкали или громко рассказывали какой-нибудь вузовский анекдот. Такой, например. Профессор стыдит студента:
– Ну как же, голубчик, вы не помните такой простой полимер. Вы же его часто встречаете в быту. Могу подсказать. Пригласили девушку на свидание и что с ней делаете?
– Ах, эбонит! – сразу вспоминает двоечник.
– Нет, голубчик, целлулоид…
Среди соблазненных оказался и будущий Сун Цзы Ло. Он сидел на тайных сборищах молча, и зевал, показывая лошадиные зубы. Потом исчез. Когда обсуждали в общаге «Метрополь», ходивший по рукам, пришла и Ласская, говорила что-то про Искандера, но в ее глазах был туман той первой, доскорятинской любви. Заглядывали и другие, но тоже особенно не задерживались. Много спорили. Впрочем, откровенные сокрушители попадались редко: в основном, все были за социализм с капиталистическими витринами. ОРП продержался недолго. Кто стукнул и в какой момент – не ясно, возможно следили с самого начала. Когда грянул гром, Гена даже растерялся: ослепленный внезапной Марининой взаимностью, он почти забыл про Орден рыцарей правды, который стал сам собой потихоньку рассасываться. Скорятина вызвал заместитель по воспитательной работе, угрюмый отставник с толстой колодкой наградных планок на синем пиджаке. Лицо у него было в крупных складках, как голенище кирзового сапога. Таким в школьном учебнике рисовали полковника Скалозуба.
– Ну давай, рассказывай, подпольщик! – глядя в Генину переносицу, приказал «Скалозуб».
– О чем? – голосом проснувшегося ребенка уточнил подпольщик.
– Обо всем. Рыцари, мать вашу так!
– Но это же просто игра, шутка…
– Ты лучше в футбол играй или в преферанс, шутник! Могу научить. А в подполье играть не надо. Некоторые доигрались. Хочешь из вуза вылететь?
– Не хочу! – побледнел рыцарь правды.
– Тогда напиши, как все было, и забудем, расстанемся друзьями. Дел без тебя много. Конференцию по «Целине» надо готовить.
– А если не напишу?
– Отчислим.
– Отчисляйте!
– В ракетных служил?
– Угу.
– Не «угу», а так точно.
– Так точно.
– Как же тебя на «точке» особисты прохлопали? Или ты уже здесь заразу подцепил? Немудрено. Помойка. Хоть нос зажимай. Звали же меня на мехмат. Люди там головой работают. Сиди себе, кроссворды разгадывай. А здесь? Тьфу! Вражья кузня. Но ты-то о чем думал, умник? Куда полез? У Веркина отец – шишка в ТАССе. На черной «Волге» катается. Отмажет сынка. У Касимова справка. А у тебя что?
– Какая справка?
– Из дурдома. После контузии. Он же афганец. Его не тронут, может, пожурят, а ты пойдешь по полной – за антисоветчину. Думаешь, если с этой фифой трешься, помогут? Они ради тебя, дурачка бабушкинского, пальцем не пошевелят. Кстати, мог бы себе в масть девушку найти. Это не твоя электричка, парень! Слушай, Геннадий, может, она тебя и надоумила, эта Ласская? К таким фамилиям близко подходить нельзя. Там семейка-то с душком…
– Она ни при чем! Она ничего не знает. Вы не имеете права!
– Это хорошо, что подружку выгораживаешь. Молоток! Вот и напиши правду. Кувалдой будешь. И она в стороне останется.
– Н-нет.
– Ладно, звоню в контору, – он потянулся к телефону.
– Куда?
– В Комитет государственной безопасности, сопляк!
– Бумагу дайте!
Собственно, тем дело и кончилось. Касимова и Скорятина в последний момент без объяснений вычеркнули из группы, убывавшей по студенческому обмену в Польшу, но Алик все-таки поехал. Про Орден рыцарей правды они больше не вспоминали и с каким-то облегчением раздружились, окончив университет. С Ренатом судьба его еще сводила, и не раз. Незадолго до падения Танкиста он пришел в «Мымру» военным обозревателем, но вскоре его вышиб Шабельский – за отсутствие нового мышления. Касимов перебрался в областную газету «Ленинское знамя», потом служил у Юлиана Семенова в первом частном ежемесячнике «Совершенно секретно», слишком глубоко влез в дело Ивана Кивилиди (которого уморили радиоактивной дрянью в телефонной трубке), раскопал что-то сенсационное и получил пулю из снайперской винтовки, когда утром делал на балконе зарядку. Но выкарабкался, мотался по горячим точкам, потерял ногу в Чечне и теперь издает газету «Отстой», куда Скорятин иной раз сливает тексты, невозможные в «Мымре», но милые сердцу.
Алик Веркин долго вел на телевидении ток-шоу «Честное слово», потом попался на взятках во время предвыборной кампании и теперь бегает в пресс-секретарях у олигарха Ахундова. Недавно звонил, просил о духоподъемном интервью со своим боссом: тот нахимичил с оборонным госзаказом. Веркин обещал десять штук баксов в конверте мимо кассы. Значит, с Ахундова слупит двадцатку. Нехилая работенка! Семь надо сдать «генеральше» Заходырке. Эта никогда не поверит, что миллиардера пиарят из чистого информационного бескорыстия. Три тонны можно оставить себе. Тоже неплохо!
…Марина, конечно, знала, что Гену вызывали и чуть не исключили, знала даже из-за чего – сама сидела на сходке рыцарей, потом обозвала всех козлами и больше не появлялась. Скорятин сам ей все рассказал, утаив, конечно, что написал чистосердечное признание, а также согласился захаживать к «Скалозубу» и по дружбе рассказывать, о чем студенчество говорит, спорит, чем дышит, какие мысли думает. А как еще, на самом деле, чуткие старшие товарищи, ответственные за судьбу молодых обалдуев, смогут вовремя прийти на помощь и не дать оступиться на всю оставшуюся жизнь?
– Знаешь, почему я тогда согласилась пойти с тобой на Лазунова? – отдыхая у него на плече, однажды спросила Марина.
– Почему?
– Хотела поближе узнать рыцаря правды. Хочешь, я расскажу про все это дяде Мише?
– Дяде Мише? Какому дяде? Зачем?
– Я же тебе о нем говорила! Забыл?
– Вспомнил!
О, дядя Миша был человек преудивительный! Трудясь старшим научным сотрудником в Институте марксизма-ленинизма, что на Волхонке, исследуя связи русских социал-демократов и Второго Интернационала, он много лет вел параллельно тайную жизнь: учил в секретном кружке иврит, ходил, загримировавшись, по праздникам в синагогу, но самое главное – сочинял под псевдонимом «О. Шмерц» статьи про невыносимую жизнь честной интеллигенции за железным занавесом. Какими-то неведомыми путями он переправлял свои жалобы за рубеж, где их публиковали в разных журнальчиках, которые потом такими же странными тропками добирались в СССР, передавались из рук в руки, зачитывались до дыр, даже втихаря копировались на казенных ксероксах, появившихся тогда в учреждениях.
Ходили опасные копии и на журфаке, но между своими, проверенными ребятами. Чаще всего запретное чтение таскал Алик Веркин. Гена и Ренат читали, передавая друг другу странички, не смыкая глаз всю ночь: утром крамолу надо было вернуть. И мозг озарялся страшным открытием: они родились и жили в стране с омерзительным прошлым, отвратительным настоящим и безнадежным будущим. Потом, чистосердечно раскаявшись, Скорятин стал избегать опасного «тамиздата». Но «Скалозуб», напротив, велел брать, читать, докладывать, а по возможности показывать. Однако бывший рыцарь правды врал, что после разоблачения Ордена никто ничего не приносит – боятся. «Скалозуб» кивал и не верил.
– Дядя Миша напишет – и все там узнают, как здесь над людьми издеваются! – мечтательно проговорила Марина.
– Не надо, – ленивым голосом возразил смертельно испуганный Гена.
– Боишься? – Она даже отстранилась.
– Боюсь! Но не за себя. Давай рассуждать логично. Смотри: выходит там статья. В конторе, конечно, сразу ее прочтут, вычислят, откуда у О. Шмерца сведения. Отследят контакты – мои, касимовские и аликовы. О том, что мы с тобой… дружим, знают все, даже «Скалозуб». Ежу понятно: от любимых девушек такую информацию не скрывают…
– Стоп. А я любимая, да?
– А то не знаешь!
– Знаю, но лишний раз напомнить не мешает. Женщины любят и ушами тоже. – Она снова положила голову ему на плечо.
– Возьмут в разработку твои контакты, выйдут на дядю Мишу и придут в Институт марксизма-ленинизма с наручниками. Поняла?
– Откуда ты так хорошо в этом разбираешься?
– От верблюда. Ты сколько раз «Семнадцать мгновений» смотрела?
– Раза два…
– А я – раз двадцать! Это же не про них кино, а про нас.
– Какой же ты у меня умный, это что-то! Ты спас дядю Мишу. И сейчас у тебя будет восемнадцатое мгновение весны!
Гена сладостно убедился, что выражение «женщина любит ушами» – лишь деликатное иносказание, имеющее мало общего с разносторонней телесной явью. А вскоре, на последней паре, Марина вынула из сумочки и показала знакомый брелок в форме сердечка с ключами от счастья в Марьиной Роще.
– Тебе ж сегодня нельзя! – Он к тому времени научился высчитывать опасные и запретные дни ее тела, чем был горд.
– Теперь все можно.
– Ты?! – догадался Гена в испуге. – Уверена?
– Сначала сама не поняла. А теперь уже точно.
– И что мы будем делать?
– То, что делали. Или тебе надоело?
– Мне? Ты что! – Он под столом сжал ее колено.
– А месяца через два познакомлю тебя с родителями.
– Почему через два?
– По кочану!
– Скорятин, – скрипучим голосом позвал преподаватель. – Не забудьте: зачет вы будете сдавать мне, а не Ласской!
Доцент ошибся. Экзамен Гена держал перед Верой Семеновной. За воскресным обедом ели фаршированную щуку с кузнецовского фарфора, пили из антикварных бокалов восхитительное рейнское вино. Серебряные приборы с чужими кудрявыми гербами оказались настолько тяжелыми, что неопытный жених, привыкший к легким железным вилкам дома и легчайшим алюминиевым в столовых, едва не уронил полукилограммовый нож на тарелку с узором из полевых цветов. Не подхвати он антикварную тяжесть второй рукой, его семейная жизнь могла закончиться, не начавшись.
Заметив неловкость гостя, родители переглянулись, как обычно перемигиваются врачи, сойдясь на диагнозе: неизлечим. Марина обидчиво поджала губы. Сглаживая неловкость, Александр Борисович рассказал, как в Нью-Йорке говорил с великим Энди Уорхолом, а в Париже съел три дюжины устриц – и заболел. На десять минут из дальней комнаты вывезли в коляске Бориса Михайловича. Он тяпнул рюмочку водки, зарозовел и поведал, как в 1919-м под Витебском ему, атеисту, спас жизнь свиток Торы, подобранной в разоренной синагоге: сабля польского гусара застряла в кожаном футляре. Потом дедушка запел потихоньку «С неба полуденного жара – не подступи, конница Буденного раскинулась в степи…», и его увезли. Вера Семеновна, весь обед внимательно наблюдая за Геной, тонко улыбалась и задавала неожиданные вопросы: какие, например, ему нравятся поэты.
– Евтушенко.
– А Самойлов?
– Тоже ничего.
Супруги Ласские снова переглядывались и с насмешкой смотрели на дочь, которая горячо доказывала, что Самойлов – поэт, конечно, хороший, но слишком литературный, а вот у Евтушенко, хоть и пишет неровно, есть русская корневая стихия! Все-таки сибиряк…
– Да-да, разумеется, – подтвердил Александр Борисович с усмешкой. – Он из рода сибирских Гангнусов.
Бедный жених ничего не понял в этом споре. Потом пили кофе с арманьяком, крутя на «видике» «Манхэттен» Вуди Аллена. «Предки» уже смотрели фильм на закрытом показе в ЦДРИ и оставили «молодежь» наедине. Гена попытался обнять Марину, но она лишь недовольно повела плечами, показав глазами на дверь. Скорятину почудилось, что ей немного стыдно за свой выбор, и, случись смотрины на несколько недель раньше, возможно, он бы убыл в Лосинку отвергнутым. В середине фильма Гена вынужденно отлучился и, проходя по коридору, уставленному книгами, услышал в приоткрытую дверь такой разговор:
– Забавный паренек, – это был голос Веры Семеновны.
– Ничего забавного, – сердито отвечал Александр Борисович. – Марина совершает ошибку.
– Ты можешь ее исправить?
– Надо объяснить. Она умная девочка.
– Объясни!
– Лучше ты. Мать всегда ближе к дочери.
– Один раз я уже объяснила и чуть не потеряла дочь. В ее возрасте этого еще не понимают. Свое и чужое начинают различать позже.
– Что ты предлагаешь?
– Пусть лучше он, чем снова больница. А внуки – чем раньше, тем лучше.
– Неужели так серьезно?
– Серьезнее, чем ты думаешь. Она нарочно скрывала, чтобы…
– Он будет жить с нами и мыться в моей ванной?
– Продадим Левитана и купим Марине кооператив.
– Нет, Левитана я не продам. Лучше – Кустодиева.
Оскорбленный жених хотел тихо улизнуть, чтобы никогда больше не приходить в этот дом, но все-таки вернулся в гостиную, досмотрел фильм, где уродцу Вуди Аллену, как обычно, досталась самая лучшая девушка, потом они перешли к Марине, и она под большим секретом показала свежий номер «Континента» с очередной ябедой О. Шмерца. Гена равнодушно повертел в руках запретную книжицу и вдруг навалился на невесту с такой яростью, что та в испуге не сопротивлялась, а лишь, оцепенев, шептала: «Тише! Войдут! Скорей! Я не буду. Скорей же!» Когда она оправляла одежду, Скорятин спросил равнодушно:
– Кажется, я не понравился твоим родителям?
– Главное, что ты нравишься мне… – вздохнула Ласская.
В Грибоедовский дворец бракосочетания другие записывались за три месяца да еще ходили отмечаться. Но Гену и Марину расписали сразу, как только был утвержден перечень гостей, заказан ресторан «Прага» и невесте в ателье ГУМа сшили белое платье, свободное, вроде пеплума, чтобы не выпирал живот. Тесть знал грибоедовскую директрису, недавно он по смешной цене устроил ей монументальный триптих народного художника Семена Стрешнева «Нас венчали не в церкви». Фамилию Марина оставила свою, не посоветовавшись с Геной.
Свадьба была грандиозная! Играл джаз великого Ветлина. Пела, змеясь в чешуйчатом концертном платье, несравненная Ида Ржевская. Карикатурист Шагин делал молниеносные шаржи и дарил окружающим. Гости подобрались солидные, изнурительно вежливые и приторно восхищались дивной молодой парой, тайком обмениваясь бархатными взорами, полными недоумения и сочувствия к пополневшей невесте. Немногочисленная родня жениха напоминала заводчан, которых профком снабдил бесплатными билетами в Большой театр – на четвертый ярус. Павел Трофимович хватил лишку, произнес путаный тост да еще, к всеобщему ужасу, по-родственному полез целоваться к Вере Семеновне. Мать потом не разговаривала с ним месяц.
Скорятин набрал номер Алисы. «Абонент недоступен». Странно. Очень странно! Она всегда отзывается. Если занята, отвечает быстро и нежно: «Ушастик, не могу говорить. Давай через полчасика. Только обязательно, а то я умру…»
Пожав плечами, Гена взял следующее читательское письмо. Оно смахивало на тропическую птицу: цветными маркерами были подчеркнуты слова, казавшиеся автору особо важными, – верный признак шизы. Так и есть: неведомый псих, укрывшись под псевдонимом «Заботник», излагал собственную уникальную методику контактов с Мировым Разумом с помощью морошковой диеты, умеренного употребления мочи (непременно натощак) и ритмического дыхания по Бутейко. Мало того, он обещал при личной встрече открыть главному редактору глаза на заговор темных сил против человечества.
Как писал незабвенный Веня Шаронов:
Созидательным трудом
Мы прославим наш дурдом!
В начале 90-х Гена раскопал дикие цифры: каждый третий депутат нового демократического Моссовета состоял на психучете. Шабельский пробежал печальными глазами убойный фельетон «Палата № 13» (Моссовет заседал тогда на улице Горького, 13), посмотрел на смельчака с левантийской тоской и молвил:
– Да, революцию делают сумасшедшие. Но об этом ты напишешь лет через двадцать. Договорились? – и спрятал статью в сейф.
– А если я отнесу в «Правду»?
– И на работу к ним переходи. Могу даже рекомендацию дать, рыцарь «Правды»!
– Вы о чем?
Исидор бережно достал из сейфа папку с грифом «МГУ им. Ломоносова». У спецкора на сердце выступили мурашки. Шабельский неторопливо развязал тесемочки и двумя пальцами, точно брезгуя, вынул знакомые листки. Да, это было его, Генино, чистосердечное признание.
– Откуда?! – прошелестел он пересохшими губами.
– Один дедок принес. Предложил. Недорого. Инфляция, пенсия – пять долларов. Я купил за пятьдесят. Да ты не тоскуй! Все мы совершали ошибки или шли на компромисс, чтобы выжить. Не горюй, я бы на твоем месте лучше во Францию слетал. Просят от нас человечка в делегацию. Только умоляю, много не пей: в прошлый раз наши депутаты весь Версаль заблевали. А папочку я тебе подарю, когда заслужишь.
…Тренькнул мобильник. Скорятин открыл эсэмэску от дочери. Как обычно, одно слово: «Деньги!». Он ответил: «Завтра». Так они общались год и не виделись столько же. Вика еще совсем недавно была папиной звездочкой, преданной и доверчивой. Марина в трудных воспитательных случаях просила с раздражением: «Скажи своей дочери!» Он говорил, и Вика покорялась. А потом все пошло наперекосяк. В какой момент? Возможно, когда дал ей пощечину: она без спросу уехала с друзьями на ночную рыбалку. Пришлось обзванивать больницы с моргами. Но Вика сама попросила прощения. Вскоре жена нашла в ее рюкзаке травку. Марина после операции стала страшно ревнивой, шарила по карманам мужа, а заодно и дочери, иногда кое-что находила и скандалила как на Привозе. Странно для девушки, выросшей в интеллигентной семье и любившей вслед за остряком-папой повторять: «С помощью измены убеждаешься в правильности выбора».
Вика поклялась никогда впредь не баловаться дурью, и они втроем поехали в Черногорию, к морю. Гена на солнечном отдыхе вдруг ощутил давно забытое влечение к жене, и дочь, жившая в соседнем номере, по утрам с удивленным поощрением поглядывала на неюных родителей, особенно на мать, оглашавшую густую южную ночь стонами нечаянной женской радости. В Будве они присмотрели продававшийся по случаю домишко на второй линии от моря и внесли залог, который так потом и пропал. Кажется, семейная жизнь наладилась и вступила в тот конечный период, когда взаимные обиды, обоюдные измены, сезонные охлаждения и возгорания выглядят пустяками и возмущают сердце меньше, чем не выключенный в туалете свет или не убранная со стола тарелка с засохшей подливой.
Однако пустяковый романчик со студенткой-стажеркой Жанной показал: все это не так. У девушки были голубые невинные глаза, детские пухлые губы, голосок пионерки и опыт панельной сверхсрочницы. Попался Гена на ерунде – забыл удалить из телефона пикантный снимок. Юная подружка сделала в салоне «Венерин бугорок» модную интимную стрижку и отправила любовнику на мобилу фото – похвасталась. Черт бы драл эти чудеса техники! Бдительная Марина нашла снимки и взбесилась. Сколько же погибло антикварного стекла, копимого сначала Борисом Михайловичем, а потом Александром Борисовичем! Жена после черногорского ренессанса восприняла пустячную измену как катастрофу, но, устав от буйного гнева, впала в расслабленное отчаянье с тихими, похожими на писк рыданиями. Вика, нежно ухаживая за матерью, слегшей в оскорбленной немочи, с отцом не разговаривала, только взглядывала с презрительностью, мол, взрослый мальчик, а половой вопрос по-тихому решить не умеешь.
Марина вообразила, что умирает, и захотела увидеть сына. Однако Борис прилететь не смог: случилось обострение интифады, и его призвали как резервиста. Скорятину, отпрыску русских пахарей, порой становилось дико и смешно от мысли, что его первенец живет теперь у Мертвого моря, носит трудно выговариваемое имя Барух бен Исраэль и воюет с арабами за клочок обетованной земли величиной с колхозный пустырь. Как, в какой момент Борька стал буйным иудеем, страдающим за каждую пядь Голанских высот, словно это его собственная кожа? Постарался проклятый ябедник О. Шмерц. Сын обожал дядю Мишу, таскался за ним собачонкой и, раскрыв рот, слушал ветхозаветные сказки. В педагогических талантах родственничку не откажешь. Он увлек мальчишку ивритом, объяснив, что это будет их тайный язык, вроде пляшущих человечков, и они смогут говорить о самых секретных вещах, не боясь посторонних ушей. Когда Борька усомнился, что с помощью веревки и камня можно укокошить гиганта Голиафа, дядя Миша смастерил настоящую пращу, уводил племянника в глухой угол дачного участка, и там они, раскрутив, метали окатыши в ржавое ведро, пока не пробили в нем дыру, как вероломный Давид во лбу доверчивого филистимлянина. В начале 1990-х дядя Миша отбыл на историческую родину. Борька скучал, писал ему письма, ездил в гости на каникулы, а окончив школу, остался там насовсем, даже с родителями не посоветовался. Теперь дядя Миша – шумный деятель партии «Наш дом – Израиль», член Кнессета, а Борька закончил университет в Хайфе и служит в туристической фирме, время от времени ездит на войну чуть ли не рейсовым автобусом, как сам Геннадий Павлович в студенческие годы ездил из университета домой, в Лосинку.
А вот Марина в сорок лет крестилась и таскается в храм к заутрене, как раньше бегала на спектакли горластой Таганки. Постится, исповедуется, молится на ночь и перед едой. Скорятин советует ей читать «Отче наш» и перед первым стаканом виски со льдом, но жена в ответ лишь сверкает глазами: «Не богохульствуй!» Собравшись помирать, она, конечно, призвала духовника отца Марка, больше похожего на саддукея, чем на православного батюшку. Поговаривают, в Московской епархии половина попов – выкресты. Бабушка Марфуша как в воду глядела: «Абрашке выкреститься что выкраситься».
Вместо Бориса, занятого войной с арабами, вызвали из Берлина Веру Семеновну. Совсем дряхлая, она шаркала по квартире, охала, проклинала евроремонт, стерший милые старомодные черты, и повторяла: «Гена, Гена, что ты наделал!» Муж бросил ее, едва они в 1992-м перебрались в Германию, получив невероятные льготы как жертвы коммунистического режима: в 1984-м Александра Борисовича погнали из партии и Художественного фонда за валютный шахер-махер. Хорошо не докопались, что эти самые франки, смешные по нынешним временам, он получил за пейзажик раннего Бурлюка, тайком вывезенный из страны. Тогда бы точно посадили и судьба его могла сложиться куда веселее. Сидельцы после 1991-го вошли в большую силу.
В Берлине тесть обосновался широко, купил дом, завел галерею недалеко от универмага KaDeWe и вдруг влюбился в молодую польку Ядвигу, работавшую у него уборщицей. Влюбился и влюбился, дело-то житейское: седина в бороду – бес в пещеристое тело. Но он, ломая все свои жизненные принципы, развелся, причем очень умело: и дом, и галерея, и коллекция остались за ним. В строгом немецком суде тесть предъявил свидетельство о расторжении брака, еще советское, двухлетней давности. Как это ему удалось – неведомо.
Впрочем, увез он не всю коллекцию, а только ту часть, на какую получил гербовое разрешение заместителя министра культуры Эдьки Велесова. В конце 1970-х тот попался на перепродаже краденых икон и три года грелся на мордовском солнцепеке. В 1990-е лучшей характеристики для назначения на высокий пост не было. Человек умелый, Велесов посоветовал вывезти коллекцию по частям. Но тут его выгнали из Минкульта за дикую даже по тем лихим временам махинацию. Под видом специальной комиссии, озабоченной описью старинных икон и церковной утвари в фондах музеев, он посылал в разные концы Отечества бригаду преступных умельцев: те выковыривали из киотов, окладов, оправ и переплетов драгоценные камни, заменяя их цветными стекляшками.
Воровство открылось случайно: перед встречей на высшем уровне решили вернуть дружественной натовской державе реликвию, вывезенную как трофей в 1945-м, – средневековые хроники с чудными миниатюрами. Переплет из позолоченного серебра с рубинами считался шедевром ювелирного искусства. Хроники вернули с помпой, покрасовались в эфире, однако новые стратегические партнеры вскоре прислали странное письмо, где благодарили за широкий жест, но выражали дипломатическую надежду на то, что русское великодушие распространится не только на пергаменты, но и на рубины, украшавшие прежде переплет. Грянул международный скандал. Сколько велесовская банда наковыряла камешков, неизвестно, но, видимо, много, если никого не посадили, дело закрыли, а всех фигурантов отпустили с богом за границу. Зарубежным друзьям в виде «иншульдигена» выдали бременский резной алтарь, который считался утраченным под бомбежкой.
Удивительно, но этот богатейший скандал прошел мимо прессы. Став главным редактором, Скорятин решил вернуться к теме и подготовил большую статью «Потрошители икон». Однако Кошмарик остановил тираж и так орал на своего выдвиженца, что Гена мысленно простился с креслом, занятым месяц назад. Оказалось, хозяин сам отоваривался у «потрошителей» самоцветами. В тот раз обошлось, но босс велел с тех пор согласовывать каждый мало-мальски острый материал. В общем, из-за падения Велесова зубастые пузаны Целкова и бородатые пионеры Илюши Кабакова так и остались в Сивцевом Вражке.
Уход Александра Борисовича от Веры Семеновны после тридцати лет совместной жизни потряс родню и прежде всего Скорятина. Именно тесть, проведав о первых шашнях зятя, вызвал его в кабинет, увешанный авангардом, и прочитал лекцию о том, что мужские шалости и брак – сосуды не только не сообщающиеся, но существующие как бы в параллельных мирах. «Любовница для страсти, жена для старости!» – учил он. Оказалось, сосуды эти очень даже сообщаются. Марина, узнав о выходке отца, сказала: «Папа сошел с ума!» – и прервала с ним всякое общение. Даже хоронить не полетела. Тесть умер от обширного инфаркта, не прожив с новой женой трех лет, но успев родить сына Тадеуша. Полька оказалась слишком молодой и требовательной для престарелого коллекционера. Картины и антиквариат, включая семейную реликвию – свиток Торы, спасший Бориса Захаровича от сабли летучего гусара, достались пани Ядвиге Ласской, в девичестве носившей смешную фамилию Халява. Нет, судьба не слепа: у нее хитрый прищуренный глаз карикатуриста.
Вика пошла в мать: такая же мстительная и злопамятная. Но тогда снова удалось помириться и с женой, и с дочерью. Марина встала с одра. Теща улетела. Про художественно стриженный лобок Жанны забыли. Точнее, сделали вид, будто забыли. Гена поклялся никогда больше с ней не встречаться и слово сдержал: они переспали еще три раза, а на прощанье он дал ей денег на аборт, скорее всего, вымышленный. Но главное – Скорятин купил жене к 8 марта шубу, а Вике – вожделенный мотоцикл.
Шуба образовалась случайно. Он возвращался из «Агенпопа» – «Роспечати». На собрании Дронов учил главных редакторов быть государственниками-патриотами, не изменяя общечеловеческим ценностям. То же самое, как сбегать в бордель и остаться верным супружескому долгу. Войдя в здание, Гена с негодованием обнаружил, что оба лифта не работают. В былые годы «Мымра» привольно обитала в особнячке рядом с Зубовской площадью. К обширному как теннисный корт кабинету главного редактора примыкала комната отдыха, а точнее, апартаменты с душем: не хочешь, а согрешишь на раскладном диванчике. Понимали коммуняки, что печать – большая сила, поэтому ценили и наделяли. А вот Кошмарик, едва купив «Мир и мы» (точнее, получив газету за долги от разорившегося дружка), сразу перевез редакцию в помещение попроще, потесней и подальше от центра – на Преображенку. В особняке он открыл головной офис своего банка «Щедрость». С тех пор их дважды переселяли, пока не загнали сюда, к самой Окружной, под дым Битцевской ТЭЦ. Марина как-то показала мужу воду, в которой замочила его офисные сорочки, – черная.
– Как ты этим дышишь?
– Носом.
Пятый год они арендуют этаж в административном корпусе обанкроченного гиганта «Энергосила». Над ними сидит фирма «Азбука жилья». По журналюжьей привычке все окаламбуривать верхних соседей называют «Азбукой жулья». На других этажах торгуют китайским тряпьем, индийскими специями, чаем, пищевыми добавками, ортопедической обувью, левыми программами и мехами. Есть даже магазин для взрослых «Секрет Казановы», куда Гена наведывается. Заодно всюду предлагают тайский массаж и целебное окуривание. По неведомым вентиляционным ходам в кабинет иногда проникают ядовито-сладкие запахи, и кажется, будто в редакции отпели покойника.
Плюнув на неподвижные лифты, тучный Гена, изнуренный постоянными приемами с фуршетом, медленно поднимался по лестнице, останавливаясь и переводя дух. Старость не радость. На третьем этаже, где в кабинеты былого заводоуправления втиснулись десятки магазинчиков, ему бросилось в глаза объявление: «Шубы – даром! Весенняя распродажа!!!» Дверь открылась, и вышел мужичок с большим пухлым свертком. Его весело провожала рыжеволосая женщина в беличьей безрукавке.
– Вашей жене обязательно понравится! Не сомневайтесь.
– А если размер не подойдет?
– Не волнуйтесь – обменяем. У нас серьезная фирма. Прямые поставки.
Покупатель зашагал вниз по лестнице, а продавщица, заметив Гену (он как раз остановился отдышаться), спросила с профессиональной свежестью:
– Тоже мехом интересуетесь, молодой человек?
– Нет. Просто лифт не работает…
Он посмотрел на нее внимательнее и улыбнулся: волосы она собрала в два пучка, стянутые цветными резинками, и в своей рыжей дохе сама напоминала белочку, весьма миловидную, лет тридцати пяти. Странно, что они не встречались прежде, например в лифте. Впрочем, здание огромное, сотни, если не тысячи людей снуют туда-сюда: сотрудники, покупатели, клиенты, посетители… К тому же редакция начинала работать поздно – творческую личность рано на службу не загонишь. Сам Скорятин, если не уезжал по представительской надобности в центр, часто засиживался допоздна, когда магазины и офисы уже закрывались: возвращаться домой к нетрезвой и буйной жене не хотелось.
Продавщица поняла улыбку хорошо одетого мужчины по-своему:
– Напрасно не интересуетесь. Скидки нереальные. Только до восьмого марта. Вы женаты?
– А как же!
– Тем более! Если в доме новый мех – значит, в доме женский смех.
– Сами придумали?
– Да. Плохо?
– Нет. Как раз неплохо.
– Зайдите! Вас же никто не заставит купить. Просто посмотрите! Чаю или кофе хотите?
– Растворимый?
– Обижаете! Как вас, простите, зовут?
– Геннадий Павлович.
– Очень приятно! Меня – Алиса. Прошу!
И он зашел. За дверью оказалось довольно большое помещение, видимо, прежде там располагался целый отдел вроде планового. Все пространство от пола до потолка было забито шубами, манто, палантинами, шапками, муфтами, жилетками, дубленками, угами и даже просто лисьими шкурками, висевшими гроздьями, как рыба на кукане. Попадая в меховые салоны, Скорятин испытывал странное чувство: с одной стороны, жалел ставших верхней одеждой несчастных зверушек, убитых и ободранных. С другой – в душе появлялось жестокое торжество, которое осталось в генах с тех далеких времен, когда первобытный охотник, говоривший междометиями, тащил, ликуя, в родную пещеру волосатую, теплую звериную тушу. А у входа ждала подруга (или стая подруг), визжа от восторга: теперь-то наконец будет сытно и тепло.
– Ы-б-а-у! – мычал охотник.
– Вау! – ликовали дамы.
Пока Гена озирался, продавщица приготовила отличный арабик: на тумбочке рядом с диваном стоял серебристый автомат «Голд кап». Точно такой же имелся в редакции, но Ольге кофе редко удавался. Торговкой Алиса оказалась виртуозной. Как волшебница она распахивала одно искрящееся чудо за другим, объясняя сравнительные достоинства итальянских и греческих изделий, тут же на большом калькуляторе выщелкивала немалую цену и сразу уполовинивала. Фирма слово держит: скидки чумовые. Попутно она рассказывала, что на Руси шубы носили мехом внутрь, их не шили, а «строили», ибо, как и дом, «мягкую рухлядь» заводили на всю жизнь. А про бедных невест говаривали с усмешкой, мол, у них из приданого – один шубный лоскут, да и то свой, богоданный.
– Как вы сказали?
– Шубный лоскут, – повторила Алиса и бросила на покупателя тот особый женский взгляд, который одновременно обещает всё и ничего.
– Вы что заканчивали? – смутился Скорятин.
– Смоленский пед.
Уточнив размер и рост жены, она покачала головой, ненадолго ушла и вернулась с широкотелой буфетчицей, обладавшей теми же габаритами, что и Марина. Облекая толстуху в очередную шубу, Алиса смотрела на Геннадия Павловича с лучистым предвкушением, словно ждала от него настоящего поступка и дождалась. После ее вдохновенной услужливости не купить шубу означало позорно подтвердить, что все мужики – и ты в том числе – жлобы и скупердяи.
– Да вроде у супруги есть шуба-то. Три… – сделал он неуверенную попытку уклониться.
– У настоящей женщины должна быть шубная «неделька».
– Это как?
– Как трусики. Каждый день – новые, – объяснила продавщица, загадочно улыбнувшись.
Такого аргумента Гена не выдержал и взял греческую серебристую норку с капюшоном. Правда, несмотря на сверхскидку, шуба досталась совсем не даром, пришлось вынуть из сейфа заначку и занять денег в бухгалтерии.
– Если не подойдет, поменяем, – провожая, щебетала Алиса. – У нас серьезная фирма. Прямые поставки…
И вручила ему бонус – маленького снеговика, сшитого из обрезков белого песца. Вместо морковки торчал рыжий замшевый лоскут, а глазами служили две жилетные пуговки. Марина жест мужа оценила, хотя шуба ей не понравилась: мездра была растянута, поэтому подпушка оказалась рыхлой, а ость – редкой. Ласская даже предлагала вернуть обновку в магазин, но Скорятин, вообразив отчаянье в голубых глазах хлопотливой Алисы, наотрез отказался и пообещал выбросить покупку или отдать бомжихе, обитавшей в котельной. Жена смирилась и носит, как миленькая, правда, надевает в основном на рынок или в поликлинику.
Гена несколько раз порывался заглянуть к рыжей продавщице, но сначала улетел на семинар в Бельгию, где журналистов из проблемных стран учили не сгибаться под пятой власти, потом готовил весенний «Марш миллионов». Кошмарик трезвонил из Ниццы, требуя убойных материалов в каждом номере: народ надо разозлить. А потом у Марины снова был запой. И только в мае, тяпнув на корпоративе, он спустился в «Меховой рай», по-студенчески прихватив с собой початую бутылку шампанского.
– Ну как, Геннадий Павлович, понравилась жене шуба? – не удивляясь его приходу, весело спросила Алиса.
– Безумно! Вот зашел обмыть. Извините, что с опозданием!
– Обмыть? Почему бы и нет! – улыбнулась она, посмотрев на хмельного гостя лучистыми глазами, обещавшими сразу всё и ничего.
С этого и началось…
Скорятин вздохнул и начертал по старой привычке на шизофреническом письме «В архив!», хотя никакого архива давно у них не было. Письма, почти не читая, складывали в мешки, которые раз в месяц бесплатно увозила фирма «Бумсервис», обслуживавшая здание. Но генеральной директорше Заходырке хотелось заработать и на этом, она потребовала за свою макулатуру денег, но ее послали на три буквы. Теперь почту и другие бумажные отходы относили маленькими партиями, чтобы не злить жильцов хрущевок, на ближние помойки.
Снова тренькнул мобильник. Дочь написала: «Оч. нужно сегодня! (((».
Отец засопел и ответил: «Хор. Будь дома».
…Настоящий разрыв начался с того, что Скорятин запретил Вике выходить замуж за немытого байкера Вольфа. Этот татуированный кабан являлся к ним в кожанке-косухе, стильно разодранных джинсах, бандане с черепами и без спросу лез в бар, где как в музее хранились на особый случай экзотические бутылки, привезенные тестем из советских командировок. Даже Марина, запивая, их не трогала, посылала в магазин консьержку. Накачавшись, дочь запиралась с Вольфом, которого на самом деле звали Вадиком, в своей комнате, и они беззастенчиво шумели, гоготали, будто предавались не любви, а какой-то азартной и очень смешной игре. Гена вспоминал округлившиеся от ужаса глаза юной Марины, ее умоляющий шепот: «Тише! Войдут! Скорее!» – и качал головой: о времена, о нравы! Вскоре бар опустел как декабрьский скворечник, а веселье продолжалось. Впрочем, поначалу в этом не было ничего страшного: Вика влюблялась и разлюблялась по-скорому, не уследишь. «Твоя порода!» – усмехалась жена, помнившая все его измены, будто футбольный фанат финальные пенальти. Гене было проще: он знал только об одной ее неверности – но какой!
Байкеру не повезло: по первому снежку его вынесло на встречную полосу прямо под колеса «КамАЗа». Хоронили парня в закрытом гробу, и один дурак из «ночных волков» на поминках ляпнул безутешной Вике, что это было самоубийство из-за ее отказа. Впечатлительную девчонку замкнуло. Теперь она живет в их кооперативной квартире (раньше сдавали за хорошие деньги) с подругой, взрослой теткой-мотоциклисткой. Дай бог, если просто дружба! С матерью Вика встречается на нейтральной территории – в кафе или метро. Отца зовет только «он» или «этот», а когда Скорятин подходит к городскому телефону, вешает трубку, общаясь с ним эсэмэсками и только по поводу денег. Марина к этому относится со скорбным торжеством, печет-возит блудной дочери пирожки-котлетки. Гена пытался объясниться с женой, договориться о совместных действиях по возвращению Вики домой, но она ответила:
– Мне никто не запрещал выходить замуж, хотя родители были от тебя не в восторге.
– Значит, виноват я?
– Ты! Дочерью надо было заниматься, а не стрижеными лобками!
– Молчала бы!
– Ага, помнишь все-таки… И будешь до смерти помнить!
– Пьянь! – он вырвал из ее рук ополовиненную бутылку «Мартини».
После ухода дочери Марина, и прежде-то злоупотреблявшая, буквально сорвалась с резьбы – дело шло к неряшливому старушечьему алкоголизму.
– Да, я пьянь, но не стукачка! – заорала она, срываясь на визг.
О рогах, наставленных ему Шабельским, Скорятин не забывал никогда, но вспоминал об этом давно уже без багровых приливов ненависти, скорее, с философской брезгливостью. А вот когда выяснилось, что сволочь Исидор растрепал Ласской о его «чистосердечном признании», Гена взбесился и снова задумался о перемене семейной участи. Тут как раз и возникла Алиса.
Главный редактор открыл сейф, стоявший сбоку от стола, вынул пачку денег, отсчитал тридцать тысяч, поколебавшись, удвоил сумму, но, подумав, отнял две рыжие пятитысячные. Гена втиснул купюры в маленький конверт, тщательно заклеил, всунул в большой фирменный редакционный пакет и залепил скотчем. Затем вывел придуманный адрес, приписав внизу: «Интервью на визу». Сволочь Заходырка следила за тем, чтобы сотрудники, даже главный редактор, не гоняли курьера по своим надобностям. Закончив приготовления, он нажал кнопку селектора – и снова безответно.
– Да что же это такое, ёкарный бабай!
Скорятин резко встал и, переждав головокружение, сурово двинулся в приемную. Пусто.
«Убью!»
Секретарша говорила в коридоре по мобильнику, прикрывая ладошкой трубку, хотя вокруг никого не было. После десяти лет бездетного брака она переживала свой первый роман, и на ее красивом глуповатом личике проступило выражение порочной тайны.
– Всё! Не могу больше! Люблю! – сказала она и спрятала телефон за спину, словно шеф мог отобрать.
– Ну, в чем дело?!
– Он готов развестись с женой! – счастливо доложила Ольга, державшая редакцию в курсе своей сердечной тайны.
– А ты готова?
– Не знаю. Ничего уже не знаю…
– Тогда не торопись. Отправь это с Колей моей дочери. Срочно! – Гена отдал ей пакет с деньгами. – На адрес пусть не смотрит. Он знает, куда. И, пожалуйста, сделай мне кофе!
– Сейчас-сейчас! – заторопилась она, оставаясь душой и телом где-то там, в сладком мороке запретных радостей.
Через несколько минут секретарша вошла в кабинет, неся в одной руке чашечку с коричневой пенкой, а в другой – несколько писем.
– Вот еще почта!
– Хорошо. И пусть зайдет Солов.
– Непесоцкий давно к вам просится.
– Потом. Ступай! Мужу пока ничего говори.
– Почему?
– Потому что женщина верна, пока не призналась! – повторил он один из афоризмов мудрого тестя, сгинувшего в цепких объятьях пани Халявы.
Отхлебнув кофе, отдававший горелыми шинами, Скорятин взял из новой пачки верхнее письмо. Это была пространная жалоба на сотрудника отдела социальных проблем Помидорова, который, будучи пьян, обозвал звонившего в редакцию пожилого читателя «мозгоедом», «маразматиком» и «кучей совкового дерьма».
– И Помидоров пусть зайдет! – приказал главный редактор в селектор.
– Он в Париже.
– Опять?
– Опять.
– А что там?
– Конференция.
– Какая еще конференция?
– «Долгое эхо ГУЛАГа».
«Не редакция, а какой-то табор пьющих космополитов!» – разозлился Гена. – Пометьте: вернется, сразу ко мне! – и поставил красную резолюцию «На редколлегию!».
– Хорошо! – прерывисто вздохнула Ольга, словно ее оторвали от предварительных ласк.
…Впервые в Париж Скорятин попал давным-давно, на исходе Советской власти. Он проехал с делегацией по всей Франции, исполняя хоровые проклятья тоталитаризму. Зарубежных поездок и до, и после было много, они слились в шумный бесконечный промельк, точно мчащийся перед глазами поезд. Но та командировка запомнилась. Во-первых, вернувшись домой, он узнал, что Марина спит с Шабельским. Во-вторых, там, во Франции, в него, молодого, подтянутого, шевелюристого, влюбилась юная еврокоммунистка Аннет, готовая на все, о чем и сообщила ему жарким винным шепотом за ужином. Но в делегации под видом сотрудника «Кругозора» сновал чекист Валера, приглядывая за пишущей братией, безответственной по определению. Гена в ту пору еще ни разу не изменял жене, чем гордился, снисходительно наблюдая насыщенный редакционный блуд. И хотя его страстно влекла молодая еврокоммунистическая плоть, он, увы, устоял. В последний раз. Неверность Ласской сорвала с сердца заклятую печать, он бросился наверстывать упущенное за годы идейной моногамии, и с тех пор голых баб в его жизни стало как в бане. Когда летели назад, в Москву, чекист Валера оказался в соседнем кресле и после литрового «Абсолюта», выпитого на двоих под соленые орешки, сказал угрюмо:
– Зря ты это!
– Что?
– Зря ты так с Аннеткой!
– Ну да, а ты бы меня потом… – усмехнулся Гена.
Он даже попытался обосновать и разъяснить собутыльнику свою принципиальную верность жене. Но кто же поверит, да еще столько выпив?! Перебрав, даже тихие подкаблучники провозглашают себя многократными обладателями разнузданной женской отзывчивости.
– Думаешь, я бы тебя сдал? – усмехнулся чекист.
– Вот именно.
– Да брось ты! – махнул рукой Валера. – Это уже никого не интересует.
– Серьезно?
– Гораздо серьезнее, чем ты думаешь…
Советской власти, всегда бдительной на предмет морального разложения, оставалось жить года три, хотя хворала она давно.
…Следующее письмо пришло от въедливого подписчика Черемисова, в прошлом ответственного работника, а ныне тоскующего пенсионера. Его дружно ненавидела вся редакция: он постоянно находил в газете разные неточности, ошибки, ляпы, которые после ликвидации бюро проверки попадались в каждом номере.
Письмо, как обычно, было настукано на пишущей машинке, причем опечатки тщательно замазаны специальными белилами.
«Где он только их берет?»
Когда-то это был страшный дефицит. Журналисты везли не «шанели» и бикини, а тюбики драгоценной замазки, и благодарные машинописные дамы на громыхающих механических «Оптимах» печатали материалы дароносцев без очереди.
Бдительный Черемисов обнаружил, что в эссе Солова «Обожатель граций. Был ли Пушкин эротоманом?» допущена ошибка в цитате. Вместо слов: «О, как мучительно тобою счастлив я…» напечатано: «О, как мучительно с тобою счастлив я…» «Геннадий Павлович! – взывал читатель, – обидно и странно находить подобные ошибки в таком уважаемом издании, как “Мир и мы”. Позор! Неужели вы, опытный журналист, не чувствуете изысканного эротизма пушкинского “тобою счастлив я” в сравнении с пошлой, рутинной физиологией словосочетания “с тобою счастлив я”? В последнее время в вашей газете стало много опечаток и путаницы. В прежние времена я бы пригласил вас на беседу в городской комитет партии. Но теперь остается рассчитывать только на вашу внимательность и требовательность к себе и сотрудникам…»
«Если бы я читал каждый номер насквозь, я бы давно спятил! – мысленно возразил главный редактор. – И если ты, старый пень, думаешь, что собрание акционеров лучше, чем отдел пропаганды и агитации, то сильно ошибаешься. В горкоме с тобой хотя бы разговаривали. Топали ногами, выговора лепили, но давали шанс… Эти, нынешние, сразу гонят в шею. Входишь человеком – выходишь фаршем. Ты бы, умник, хоть раз пообщался с Кошмариком, я бы на тебя посмотрел! А то, что Заходырка для экономии разогнала бюро проверки, об этом ты знаешь, крохоборец хренов? Какие были старушки, штучные, всю классику наизусть знали, в цитате из Толстого запятые по памяти могли расставить! Теперь эта выдра силиконовая мечтает и корректуру сократить до одной читки, говорит: “А еще лучше печатать тексты в авторской редакции, так все делают!” А если все снова станут на деревьях жить, значит, и нам тоже на ветку? Дурак ты, дед, хоть и не дурак, видно…»
От бурной внутренней отповеди у Гены заломило виски. Он взял красный фломастер и начертал:
«Солову. Срочно разобраться и доложить на планерке! Перед автором извиниться и прочь». Но подпись вышла не выверенная, как обычно, а с нечаянной злобной закорюкой.
Раздосадованный, Скорятин решил больше не огорчаться чтением почты и следующее письмо взял из любопытства – это был снимок светловолосой девушки в сером вязаном берете и синем приталенном пальто с шалевым цигейковым воротником. Она, явно позируя, стояла в зимнем солнечном лесу, прислонившись к березовому стволу. Лицо – милое, доброе и какое-то несовременное. Прежде актрис с такой внешностью брали на роли фронтовых медсестер или курсисток, жалеющих народ. Показалось, он уже видел эти глаза, исполненные взрослой грусти, какая бывает у совсем юных особ, одаренных состраданием. Недоумевая, Гена перевернул снимок и прочел на обороте надпись, сделанную аккуратной женской рукой:
Это наша Ниночка в день рожденья. Не забывай нас!
Скорятин всмотрелся в фотографию и почувствовал, как сердце тяжко затрепетало, предчувствуя невероятное.
«Ну-ка, ну-ка, и откуда это мы такие?»
Нервно надорвав уголок карточки, он отделил конверт, пришитый степлером, приблизил к глазам и прочитал обратный адрес: «Тихославль, улица Ленина, д. 4, кв. 15…»
«Есть такой городок. Бывал, как же! Тихославль… Господи, неужели?!»
– Хотите загадку?
– Хочу.
– Я живу на лысине, а работаю на бороде!
– Х-м…
– Сдаетесь?
– Сдаюсь.
– Эх, вы! Я живу на улице Ленина, а работаю на улице Маркса.
«Зоя! Не может быть!» – он еще раз всмотрелся в фотографию Ниночки и ощутил в теле зуд, будто его всего искололи острыми сухими травинками.
«Тобою счастлив я…»
Это – о Зое!
От ошеломительного воспоминания Скорятин вспотел и на миг потерял ориентацию во времени и пространстве. Он схватил снимок, выскочил из-за стола, метнулся в комнату отдыха и, только уткнувшись в книжный шкаф, где теснился бесконечный Брокгауз, сообразил: комната отдыха с душем, туалетом, раскладным диванчиком, баром-холодильником, а главное – с зеркалом осталась в особняке на Зубовской площади. Очнувшись и осознав оплошность, Гена зачем-то провел рукой по золотым рельефам корешков, растер в пальцах жирную темную пыль, несколько раз медленно вздохнул, чтобы успокоиться, напустил на лицо деловитость и вышел в приемную. Там, рядом с вешалкой на стене, зияло большое зеркало, оставшееся от прежних арендаторов. Редакционные дамы время от времени заходили сюда, чтобы похвалиться обновкой и окинуть себя контрольным взглядом. Ольга, черт бы ее драл, совсем некстати сидела за столом, уставившись в журнальный гороскоп. Видимо, соображала, благоприятствует ли разводу расположение небесных тел. Увидев шефа, она привстала, но он махнул рукой, мол, работай уж теперь, и степенно проследовал в мужскую комнату.
Сегодня, как говорят америкосы, был не его день. В туалете он обнаружил Непесоцкого, похожего на собравшегося в поход натуралиста. Фотокор, склонив голову, с благоговеньем всматривался в зев писсуара, словно не облегчался, а мироточил. Увидев шефа, он изобразил смущение от встречи с высоким начальством в обстановке низких позывов и стал торопливо застегиваться. Но Скорятин, коротко кивнув, спешно скрылся в кабинке. Дожидаясь, пока ненужный свидетель уйдет, главред хозяйским оком отметил: туалетной бумаги снова нет, а крышка бачка отбита. Стукнула дверь, Гена вышел и обнаружил перед собой просительно улыбающегося Непесоцкого:
– Геннадий Павлович, расходные материалы кончились. Совсем. А Заходырка не дает. Говорит, нет денег.
– Пишите служебную записку.
– Написал. Месяц у Ольги лежит.
– Я распоряжусь.
– Только обязательно!
– Хорошо-хорошо, – поморщился Скорятин.
– Не забудьте! Работать нечем.
– Я ничего не забываю!
Лишенец сразу понял, о чем речь, и покинул туалет, пятясь. Года три назад, отправленный снимать юбилей банка «Щедрость», Непесоцкий напился на фуршете в труху и потерял казенную камеру. Но Гена злился не из-за списанного «Никона» и не из-за нелепого производственного разговора в сортире, а из-за того, что в голосе подчиненного послышалось неверие во власть главного редактора, бессильного перед могуществом генеральной директорши. Он и сам не мог понять, как, когда, почему так вышло? Бред: знаменитые журналисты во главе с ним, «золотым пером России», асы, делающие одну из самых громких и непокорных в стране газет, стали дармоедами, обузой, попрошайками при кордебалетчице, наскоро окончившей бухгалтерские курсы. Он помнил, как в кабинет Танкиста входил главный бухгалтер Цимерман. Так, наверное, крепостной староста, недособрав оброку, вползал к Троекурову. Да и Шабельский, ничего не скажешь, умел себя поставить: прежний директор Бак без одобрения босса чихнуть боялся: едва начинал слегка химичить, бдительный Исидор с кривой усмешечкой говорил на планерке:
– А не сделать ли нам, коллеги, баканализ?
Умел Шабельский и с хозяином разговаривать. Чуть что не так – сразу: заявление на стол и улыбчивая угроза поднять в мировом журналистском сообществе такую волну, что мало не покажется. А Кошмарику с его мокрой репутацией только волны не хватало. Зато когда Исидора вышвырнули, никто не пикнул: никаких волн, мятежей и заявлений Союза журналистов. Зачем? Богатый человек купил себе игрушку – газету. Хочет – забавляется, хочет – на помойку выбрасывает или продает. Частная собственность. Не тренера же сборной погнали, а какого-то главного редактора. Чего шуметь?
Скорятин подошел к зеркалу, еще раз посмотрел на фотографию «нашей Ниночки» и на свое отражение. Господи, несвежая кожа, мешки под глазами, двойной подбородок и нос в фиолетовых прожилках от крепких излишеств. Если бы не благородная седина и осмысленный взгляд, смотреть не на что. Время – это какой-то сумасшедший косметический хирург, который злорадно лепит из молодого прекрасного лица обрюзгшую ряху. Гена чуть не плюнул в свое отражение. И что только Алиса в нем нашла?
Но Зоя? Зоя! Почему столько лет молчала? Конечно, она была обижена, оскорблена – тогда все так запуталось. Но если бы он знал, догадывался, все бы вышло иначе. Жизнь была бы другой. Гена снова и снова сравнил девушку на снимке с собой. Да, точно: глаза скорятинские, карие. И брови его – чуть нахмуренные. А вот прямые латунные волосы, поворот головы, овал лица, подбородок, – все Зоино. Как же природа интересно перемешивает! Зачем? Только затем, чтобы люди со сладким любопытством угадывали в детях-внуках свои полускрытые черты?
…В детстве он обижался, если кто-то выискивал в его внешности признаки неведомых пращуров. По выходным и праздникам собирались за большим столом у бабушки Марфуши. Родня выпивала, закусывала, налегая на треску под маринадом. Семейный остроумец, дядя Юра, нахваливал:
– Белорыбица, чистая белорыбица! Закуси, своячок!
– Как ее пьют беспартийные! – сладко морщился отец, опрокинув стопку.
– Коммунисту первую пулю! – подливая свояку, острил дядя Юра, известный в родственных кругах своим благородным происхождением, – его маман служила гувернанткой в барской усадьбе.
– Молчи, балабол! – прикрикивала на супруга тетя Валя: первого мужа у нее забрали то ли за анекдот, то ли за растрату.
Поначалу родичи насыщались, не обращая внимания на малолетнего Гену, тихо ловившего магнитной удочкой красных картонных рыбок из бумажных прорубей. Взрослых интересовало другое: гадали, за что сняли Хрущева, откуда свежий шрам над бровью у Гагарина, до хрипоты спорили, погасят ли послевоенные облигации.
– Ага, погасят и еще добавят! – сомневался всегда хмурый отец.
– Точно погасят! – уверял дед Гриша. – Сталин обещал.
– Сталин людей сажал! – встревал вольнодумец дядя Юра, игравший на барабане в ресторанном оркестре. – Ни за что!
– А теперь, значит, не сажают, только выкапывают? – усмехался дед.
– Он полстраны посадил!
– Вроде образованный ты, Юрка, мужик, а мозгой не пользуешься. Посчитай! Если половина сидела, значит, вторая половина их стерегла, кормила и дерьмо вывозила. Кто же тогда воевал?
– Штрафники.
– А строил?
– Зэки.
– Э-э… Одно слово – барабанщик.
– Он «Голос Америки» ночью слушает, – наябедничала на мужа тетя Валя. – Спать не дозовешься.
– Смотри, зятёк, поведут тебя за твой язык!
– Был зятёк да в Сибирь утёк, – вздыхала бабушка Марфуша.
От облигаций и Сталина обычно переходили к искусству: дивились, что у балерины Батманской целых два мужа, и оба законные, ей это официально разрешили, иначе она не может танцевать, а ее любят за границей. Политика! Обсуждали скандал в мире кино, такой громкий, что его отголоски достигли даже самых простодушных застолий. Артистка Ирэна Вожделей изменила мужу, легенде советского экрана Косте Клочкову, и не с кем-нибудь, а с негромким певцом Максом Шептером. Однако после развода вышла замуж не за него, а за другого всенародного кинолюбимца Мишу Лукьянова и сразу, дела вдаль не отлагая, родила дочь.
– От Шептера! – хмыкал отец, относившийся к людям с тяжелой подозрительностью.
– Паша, ну почему от Шептера? – удивлялась мать, напротив, слишком доверчивая к коварствам жизни. – Лукьянов сразу бы догадался!
– А на ребенке что, написано?
– Вот и написано, – вступала в разговор тетя Груня. – Ты, Павлик, на сына посмотри! Нос у Генки твой. Или чей?
– Нос Пашкин, точно! – поддерживал дед Гриша.
– Губы Нюркины, бантиком, – подхватывала стихийную генетическую экспертизу бабушка Марфуша.
– А глаза-то карие в кого? У Пабло – серые. У Аннет – голубые. Кто нахимичил? – хихикал дядя Юра. – Эх, вы вейсманисты-морганисты!
– В моем доме попрошу не выражаться! – словами из «Кавказской пленницы» предостерегал отец.
– В меня, – сознавалась бабушка Марфуша.
– В тебя? – все с удивлением вглядывались в ее глаза, подернутые белесой глаукомой.
– В меня! Гриш, ты забыл, что ли, старый?
– Забыл, – соглашался дед. – Точно, карие были, как мед!
– А кудрявый Генка в кого? – спохватывалась тетя Груня, озирая родню. – Вроде не в кого. Еврейцев у нас не было.
– В отца моего. Степан Кузьмич ох кучерявый был, да еще с трехрядкой ходил, – объясняла бабушка Марфуша. – Девки за ним по селу табуном бегали. Мать все глазоньки выплакала. Но терпела – любила до смерти.
– А уши? В кого Генка лопоухий? – ехидно спрашивал дядя Юра.
– Погоди, дай вспомню… Васёк был лопоухий.
– Какой Васек?
– Братик мой. Умер в 1929-м совсем мальчиком, с голодухи. Вот уж лопоухий был, даже батюшка смеялся, когда крестил…
– Не трогайте мои уши! – вскипал малолетний Скорятин. – Отстаньте! Это мои уши!
Он отшвыривал магнитную удочку и убегал в длинный коридор большой коммунальной квартиры. Там, между шкафов, ящиков, сундуков, можно было спрятаться, затаиться, погрустить, даже поплакать от обиды, а если повезет, напроситься в гости к Жилиным – у них имелся цветной телевизор «Рекорд». Остальные довольствовались пока черно-белыми, а у бабушки Марфуши вообще стоял на комоде древний КВН с крошечным экраном, который увеличивался с помощью выдвижной водяной линзы. Дорогущий «ящик», шептались соседи, Жилины смогли купить, потому что сам, работая в мясном отделе продмага, обвешивал покупателей. Только много лет спустя Гена догадался, что стал свидетелем социального расслоения коммунальной общины, вскоре распавшейся. Соседи, дождавшись отдельных квартир, разъезжались к черту на кулички – в Измайлово, Нагатино, в Лосинку. Первыми улучшились Жилины – купили кооператив у ВДНХ.
Почему маленького Скорятина задевало бесцеремонное обсуждение его внешности и злило сходство с неведомыми дедушками-бабушками? В ребячестве он воспринимал это как грубое вмешательство в свою особенную, отдельную жизнь, как посягательство на неповторимость. В детстве чувствуешь себя единственным экземпляром, даже смерть других людей еще не имеет к тебе отношения. Ты сам по себе. Ты уникум! А тут, оказывается, кудри тебе достались от какого-то сельского гармониста, глаза от бабушки, а уши – вообще от мертвого мальчика. Ну как тут не надуть мамины губы бантиком? Потом, повзрослев, даже постарев, понимаешь: сходство с родней, живой и давно истлевшей в земле, радостное узнавание своих черт в лице дочери или сына – наверное, самое главное в жизни. Это и есть, в сущности, бессмертие…
«А лоб-то наш!» – гордо подумал Гена, всматриваясь в незнакомое, но уже почти родное лицо Ниночки и вспоминая высокий чистый лоб покойной матери.
Марина не любила разговоров о фамильном сходстве. В интеллигентной арбатской семье не было принято обсуждать родовые корни и заглядывать в туманное портняжное прошлое. Отсчет шел от деда Бориса Михайловича, гимназиста-буденновца, выпускника Красной академии, всю жизнь трудившегося по атеистическому ведомству. Впрочем, иногда Гене казалось, что его просто не пускают в мир кровных секретов рода Ласских, как не пускали беспартийных на закрытые собрания, а еще раньше из церкви перед литургией выставляли вон оглашенных. Лишь однажды жена, разозленная очередной семейной ссорой, сорвала злость на дочери. Подросшая Вика рыдала у зеркала, проклиная свой катастрофический нос, на самом деле просто длинноватый. Марина слушала-слушала и взорвалась:
– А какой еще нос ты хочешь от гомельского раввина?
Да, кровь, как говаривал Воланд, – великая вещь! Кровь – неодолимая сила, исподволь ведущая человека по жизни. Можно об этом не думать, не признавать, считать, что все дело в родном языке, в заоконных пейзажах, в прочитанных книгах, в могучих идеях. Можно, даже, наверное, нужно, так думать, но кровь несет от сердца к мозгу нечто такое, чего нет и не было ни в языке, ни в пейзажах, ни в книгах, ни в идеях. Нигде! Кровь, текущая в твоих венах, помнит то, чего не помнишь ты. Так волжская вода, разлившаяся морем меж сухих голодных степей, помнит и про валдайские валуны, и про тверские затоны, и про корявые корни костромских елей, и про жигулевские песчаные отмели… Эта забытая память определяет многое, если не всё – поэтому лучше жить в согласии со своей кровью, а не вопреки.
…Возвращаясь к себе, Скорятин увидел, что Ольга снова говорит по телефону и в глазах ее стоят слезы нерешительности. Он улыбнулся ей с сочувствием, попросил никого к нему не пускать, зашел в кабинет и, усевшись за стол, занялся изучением штампов на конверте. Итак, отправлено из Тихославля 18 февраля, рассуждал он как заправский детектив из сериала «Тайны следствия». Московский штамп от 3 марта. Все верно: письма теперь идут по России долго, как с Мадагаскара. Лес на снимке зимний. Значит, день рожденья у нее в начале февраля. А на вид Ниночке лет двадцать пять. Плюс-минус. Конечно, январь или декабрь тоже исключать нельзя: замешкались, спохватились, но, как правило, письма после двадцатипятилетнего молчания отправляют сразу, по неодолимому порыву – или не отправляют никогда. Значит, все-таки середина февраля. Отнимаем девять месяцев, выходит – май. Где он был в мае 87-го? В Москве. Точно! Пошел по заданию Исидора на митинг «Памяти» у Поклонной горы и показал, чтобы пропустили, удостоверение. «Васильевцы», узнав, что Гена – «Мымры», так наваляли спецкору, что он неделю провалялся с «ушибами мягких тканей лица». Шабельский объявил его героем и выписал премию. Значит, 87-й отпадает. А если вычесть, допустим, 24 года? Где он был в мае 1988-го? В Тихославле. Ошибиться невозможно. Отец умер в июне, когда Гена прилетел из Америки и хотел объявить жене, что уходит, но закрутился с похоронами – и все перепуталось. Самое страшное, когда в сердце сталкиваются невыносимое счастье и большое горе. Можно умереть или совершить непоправимую ошибку…
В первый раз Скорятин попал в Тихославль в мае 1988-го. Его послали в командировку, как тогда выражались, по тревожному письму – жалобе клуба «Гласность». Им запретили собираться в библиотеке имени Пушкина, а нового помещения для словопрений не дали: классическое наступление партократов на перестройку. Тогда, после письма Нины Андреевой в «Советской России» все возбудились и очень боялись реванша врагов ускорения и заединщиков застоя. Шабельский вызвал Гену, вернувшегося из Франции, так и не вкусив еврокоммунисточки Аннет, проинструктировал и послал. Исидор тогда постоянно отправлял его куда-нибудь, и Скорятин скоро понял почему.
Обычно из-за границы он домой не звонил: дорого, а суточные в валюте выдавали по нынешним временам смешные – на хороший обед не хватит. Но в тот раз Гена присмотрел Марине в универмаге «Тати» платье и хотел согласовать покупку, прежде всего – размер: жена села на диету, по утрам, включив телевизор, изнурялась аэробикой и удивительно постройнела, вызывая свежее влечение. Он ждал ее прихода в супружескую постель с тем же бьющимся сердцем, как прежде в чужой квартире. Если Борька визжал, не отпуская мать, Гена злился и расстраивался.
Платье было роскошное – черное, обтягивающее. Странное ощущение для советского человека: ты не достаешь тряпку у знакомых с переплатой, не хватаешь на закрытой распродаже, не перекупаешь у спекулянта в подземном переходе возле «Березки», а долго-долго бродишь вдоль бесконечных вешалок, забитых модным барахлом, и выбираешь товар, как редиску на Центральном рынке. Потом (и это тоже удивительно!) звонишь в Москву с Елисейских полей из уличного автомата, опуская однофранковые монетки. Чудо! Фантастика! Но в новой кооперативной квартире никто не отвечал – долгие гудки. Удивленный Гена набрал Веру Семеновну, и та радостно доложила, что Мариночку отправили в Ялту – писать очерк про домик Чехова. А Боречка у них, в Сивцевом Вражке, кушает хорошо, можно не беспокоиться. Любопытная теща расспрашивала про Париж, пока у зятя не кончились монеты.
В редакцию из-за рубежа Скорятин тоже не звонил. Знал, если что – найдут через корпункт. Но Саша Калязин, один из рыцарей правды, попросил связаться в Париже с Лимоновым и передать ему коллективный сборник «Непроходняк», где напечатали несколько стихотворений изгнанника. За контакты с эмигрантами к тому времени уже не карали, даже не грозили пальчиком. Жизнь менялась стремительно. Но, вручая книжку для передачи беглому писателю, старый товарищ честно предупредил:
– Эдик тебя, конечно, поведет в кабак, станет разговоры разговаривать. Будь поаккуратнее!
– В каком смысле?
– Не откровенничай, а то выведет тебя в новом романе полным дебилом.
– А если я глупого ничего не скажу?
– Все равно выведет. Творческий метод у него такой.
Лимонов с радостью откликнулся на звонок и через час был в холле отеля. Мускулистый, в тенниске и облегающих брюках, он смахивал на атлета, готовящегося подойти к «коню» и завертеться, ловко перехватывая отполированные ручки снаряда. Взяв книжку, Лимонов нежно погладил ее, как долгожданного ребенка, полюбовался обложкой, полистал, а потом пригласил доброго вестника в ближний кабачок. Выпили много, Гена без устали вещал о невероятных переменах в СССР, а Эдик, осушая очередной бокал совиньона, шумно восхищался, какого умного собеседника послала ему судьба, и повторял:
– Надо возвращаться. Пора! Пора!
Разговор пошел такой интересный, острый, настоящий, что Скорятин попросил разрешения и включил диктофон, чтобы сделать интервью со скандальным Эдичкой. Несмотря на гласность, темы и персоны все еще надо было согласовывать, и он с утра, страдая головной болью, помчался в корпункт: на казенный звонок кровные франки тратить не хотелось. Генриетта, дальняя родственница Исидора, ответила: шеф уехал на недельку подлечить нервы. Спецкор взял ответственность на себя и попал в точку: грандиозный успех. Лимонова сразу пригласили навестить Родину, опрометчиво покинутую много лет назад. Платье Гена тоже купил на свой страх и риск, и тоже не ошибся: оно сидело на Марине безукоризненно, подчеркивая подтянутое изобилие ее шоколадного тела. Жена, хоть и поморщилась, заметив пакет от «Тати», но отблагодарила мужа нежной постельной новизной.
Через год легкопёрый Лимонов издал очередной роман. Там имелся эпизодический персонаж – убогий советский журналист по фамилии Курятин, удивительная свинья и редкий дурак, норовивший напиться за чужой счет и городивший такую запредельную чушь, что совестно было читать…
– К вам Солов! – по селектору сообщила Ольга.
– Я же просил…
– Сказала. Он торопится.
Поэт Миша Солов, развязный сорокалетний детина с пузом навыкат, вошел в кабинет главного по-свойски, разве что дверь ногой не открыл. Он был бессовестно толст, но не как матерый мужик, злоупотребляющий пивом, нет, стихотворец скорее напоминал ребенка, до безобразия раскормленного безумной мамашей. Одевался Миша по-военному: носил пятнистый комбинезон, подпоясанный офицерским ремнем, высокие армейские бутсы, а на боку висела брезентовая сумка от противогаза. Скорятин оттянул срочную по полной, и его злила непонятная страсть к обмундированию чмошника, откосившего от армии. К тому же все касавшееся боевой мощи державы вызывало в Мише ветхозаветное раздражение.
Солова нашел и притащил в газету Шабельский, тоскуя после смерти Шаронова. На одной из планерок он гордо представил коллективу юного толстяка:
– Знакомьтесь, Михаил Семенович Солов – лучший современный поэт. После Бродского и бедного Вени. Теперь у нас снова есть свой гений!
Гений вел себя с надменной независимостью и передвигался по редакции как вышедший на прогулку памятник. Заданий не признавал, появлялся и исчезал по собственному усмотрению, темы выбирал себе сам, не выносил ни малейшей критики, предпочитал перелицовывать классику, подгоняя ее к злобе, а то и к ненависти дня.
Выхожу один я на дорогу,
На Уолл, как говорится, Стрит.
Вот где жизнь! Здесь люди внемлют Богу!
И с юанем доллар говорит!
Едва Исидора погнали, Гена, приняв хозяйство, хотел избавиться от унаследованного «гения», но Кошмарик узнал и предупредил: «Не трогай! Пусть рифмует». По слухам, хозяин иногда звонил Мише и подсказывал темы, а тот, несмотря на сварливый нрав, с готовностью принимал советы.
– Тебе чего? – спросил главный редактор, нарочно не сразу оторвавшись от полосы и стараясь не смотреть на немытые кудри пиита.
– Есть текст! – объявил Миша.
– Как называется?
– «Я помню черное мгновенье…»
– Прочти!
Солов нехотя достал из противогазной сумки планшет новейшей модели, ткнул нечистым ногтем в экран, нашел нужный файл, напружился и, тряся двойным подбородком, завыл:
Я помню черное мгновенье,
Перед страной явился ты,
Как инфернальное виденье
Тоталитарной Сатаны.
В позоре жизни безнадежной,
Электоральной суеты
Я слышал эхо воли прежней.
Мне снились милые черты.
Шли годы – медленно и жутко,
Мы жили, сдерживая стон.
У нас не Дума – проститутка.
Не выборы, а лохотрон.
Без божества, без вдохновенья
Влачится нищая страна
В глуши, во мраке заточенья,
В трясине вечного говна.
Но все ж настанет пробужденье,
В Отечестве воскреснут вновь
И божество, и вдохновенье,
И к справедливости любовь.
Падут позорные оковы.
И снова, как судьбы презент, –
Воссядет избранный законно –
Рукопожатный президент!
Закончив, Солов несколько мгновений благоговейно молчал, ловя эхо своих строк, уносящихся, надо понимать, на вечное хранение в алмазный фонд ноосферы. Потом небрежно спросил:
– Ну, как тебе?
– Ничего. Но вроде Сатана мужского рода?
– Это я специально, чтобы обиднее было. Он же себя альфа-самцом воображает.
– Не поймут.
– Ты недооцениваешь нашего читателя. Он гораздо умней… – поэт не договорил, но полностью фраза звучала бы так: «Он гораздо умнее тебя, козла, не достойного мизинца левой ноги великого Исидора».
Миша не принял воцарение Скорятина, считал это реваншем «лабазников», но прежде все-таки сдерживался, а в последнее время буквально оборзел: на планерках хихикал, перебивал, дерзил и смотрел на шефа как прозектор на невостребованный труп.
– Без говна никак нельзя? – сдерживая гнев, спросил Гена.
– Нельзя. Для бомбы нужна экспрессия!
– А ты думаешь, газета – это бомбардировщик?
– Да, бомбардировщик. С напалмом.
– Почему тогда не с атомной бомбой? Ладно. Возьму, но без говна!
– Только с говном. Отнесу в «Новую газету».
– Неси!
– Леониду Даниловичу понравилось.
– Ладно. В следующий номер.
– Можно и с колес. Страна ждет.
– Обождет. Нет места.
– На шестой дырка.
– Какая дырка?
– Ты же снял «Мумию».
– Ах да… Хорошо. Отдай Дочкину. Но вместо говна пусть будет дерьмо.
– Рифма пропадет.
– Найди другую. Ты же поэт, а не я…
– Денег стоит!
– Дарю: «тюрьма – дерьма».
– «Тюрьма – дерьма»? Неплохо. Как грустна наша Россия! – улыбнулся гений белыми американскими зубами.
Когда-то Чикагский фонд «Честная пресса», поощряя свободу слова, выделил средства, чтобы честнейшим журналистам бесплатно протезировать челюсти в московской клинике мировой стоматологической сети «Супердент». Первым в «Мымре» этого счастья удостоился Веня Шаронов. Неделю он ходил по редакции, одаривая коллег фаянсовой улыбкой и декламируя сочиненные на случай стихи:
Я ненавидел слово «cheese»,
От кариеса плача.
Но вот пришел зубной «ленд-лиз»,
И снова я как мачо!
Вскоре Веня по пьяни выпал из автобуса и уронил заветную челюсть в сугроб. На другой день по его отчаянному зову на место утраты пришла вся редакция – искать потерю, но рано утром уборочная машина загребла весь снег железными ручищами. Веня был безутешен, ибо жена Лида предупредила: не найдешь – прибью.
– Сумку с противогазом носят на другом боку, – вдогонку бросил Скорятин.
– Мне так нравится.
– А Пушкин тебе нравится?
– Местами.
– Тогда ознакомься и впредь проверяй цитаты! – главный редактор протянул поэту письмо буквоеда Черемисова.
Солов вернулся, взял, глянул на руководителя с усмешкой и, не удостоив ответом, снова пошел к выходу. Глядя, как перекатываются под пятнистой солдатской материей толстые бабьи ягодицы стихоплета, Гена подумал:
«Танкиста на тебя, урода, нет!»
…Как только началась гласность, все поняли: дни Диденко сочтены, и тихо гадали, кто теперь станет главным. Вариантов было два: иногда в таких случаях кормило передавали кому-то из заместителей, но чаще присылали «варяга» из сектора печати ЦК КПСС, побегавшего в инструкторах и заслужившего самостоятельную должность. Но когда на следующий день после падения Деда коллективу представили Исидора Шабельского из отдела атеистического воспитания журнала «Наука и религия», все ахнули и развели руками. Таких взлетов в журналистике не помнили, пожалуй, со времен возвышения Аджубея, который, женившись на дочке Хрущева Раде, сел на «Известия». Поговаривали, Исидор, будучи с делегацией в Канаде, глянулся тамошнему послу Яковлеву, которого Суслов за нехорошую статью в «Литературной газете» промариновал в стране кленового листа лет десять. Зато Горбачев вернул Яковлева и сделал главным идеологом перестройки.
– Чем же Исидор ему так глянулся? – обсуждали в курилке.
– А чем они друг другу нравятся?
– Кто?
– «Отказники». Ты знаешь, как Яковлева на самом деле зовут?
– Как?
– Яков Лев! – отвечал осведомленный «лабазник».
– Ого! Тогда надо искать себе место…
Чтобы понять щекотливость ситуации, следует помнить, что Танкист, хоть и выдвинулся, борясь с космополитами, сам заядлым жидоедом не был. Напротив, у него имелась своя теория.
– Евреи в журналистике необходимы! – в узком кругу, под коньячок, любил говаривать незабвенный Иван Поликарпович. – Остры, сукины коты! Но только поштучно. Когда их слишком много, это уже подполье.
В результате редакция была разделена на два лагеря – инородцев и коренников, «отказников» и «лабазников». Русская партия состояла в основном из рабоче-крестьянских отпрысков, поднявшихся на могучей волне борьбы с неграмотностью. И только Мозгалевский, долго представлявшийся сыном сормовского рабочего, оказался дворянских кровей, в чем радостно сознался после того, как Горбачев встретился на Мальте с кем-то из Дома Романовых. Да еще Седых: в анкете писал «из крестьян», а выпив лишка, хвастал, что его дед на Оби владел баржами и колесным пароходом. Прозвище «лабазники» пошло, как ни странно, от самого Диденко. Однажды на планерке Танкист развспоминался (болтлив стал с годами) и рассказал, как в родовом лабазе, играя со сверстниками в прятки, схоронился в куль с солью и долго сидел там без звука, хотя вспотевшую от волнения попку страшно пекло и щипало. Мыслящие сотрудники «Мымры» переглянулись, хихикнули и запомнили.
«Лабазники» в отместку звали супостатов «отказниками», хотя никто из них, насколько известно, не подавал заявление о выезде на историческую родину – сразу вымели бы с идеологического фронта, несмотря на «новое мышление». Тогда еще с этим было строго. Конечно, не вся редакция участвовала в борьбе, кто-то сторонился, считая, что племенная рознь неприлична воспитанным людям. К тому же паспортная национальность не всегда определяла выбор «окопа». Западенец Потнорук, носивший вышиванку, и печальный грузин Эбонидзе (поживи-ка с такой фамилией!) примыкали к «отказникам». Зато неочевидный молдаванин Галантер и арбатский армянин Козоян сражались в стане «лабазников». Впрочем, когда Эбонидзе обошли квартирой, он тут же переметнулся в противоположный лагерь, а Галантер после воцарения Исидора стряхнул с себя постылое молдаванство.
Мудрый Танкист оставался над схваткой, хотя все знали, что сердцем он с «лабазниками», среди которых почти не было столичных выкормышей. Дед их недолюбливал, выискивая самородков во время командировок в глубинку. Влюбившись, скажем, в острое перо из Ростова-на-Дону, он вытаскивал его в столицу, выбивал из ЦК квартиру, благоустраивал, холил, и если потом перо оказывалось на поверку не таким уж и острым, деваться было некуда – не отправлять же назад. Однако едва кто-то из милых его сердцу «лабазников» впадал в почвенное излишество, Дед мог взгреть за великодержавную спесь, напомнив о пролетарском интернационализме, который пока никто не отменял. Но и «отказникам» доставалось, если кто-то выпускал смешливый космополитический ворс. Диденко тяжело вперялся в ёрника и спрашивал скрипучим голосом: «Значит, с народом тебе не повезло!? Значит, говоришь, у нас страна вечно зеленых помидоров? А ты в тундре сваи в мерзлоту вбивал?» И хотя все знали, что времена изменились, в зале веяло норильской стужей, словно мимо, потрясая ледяным посохом, прошел гулаговский Санта Клаус, бородой похожий на Солженицына.
Однажды «отказник» Бунтман в субботнем фельетоне подколол: мол, в популярной песенке про аистенка, который «рвется в облака, торопит вожака», чтобы поскорей покинуть холодную родину и долететь до теплых краев, есть нестыковочка. С птицеведческой точки зрения, родина аистов – Африка, ведь именно там они проводят куда больше времени, чем в СССР. Фельетон имел успех и горячо обсуждался на бдительных московских кухнях. На планерке Танкист поискал глазами остряка и молвил:
– Вроде с высшим образованием, а простой вещи не соображаешь: родина – там, где яйца.
– Как вы сказали? – хихикнул автор.
– А что смешного? Родина там, где тебя снесли. Понял? – и так посмотрел на хохмача, что тот съел собственную ухмылку.
Забавно было наблюдать, как две редакционные фракции схлестывались на партийных собраниях, язвя и прищучивая друг друга выдержками из одного и того же постановления ЦК КПСС. Надо признать, изощренные «отказники», разя цитатами, обычно разделывали неповоротливых «лабазников» под орех, а те бежали жаловаться. Дед выслушивал ябеды на инородческий беспредел и говорил грустно:
– Учитесь, мудаки!
Гена, любимец Танкиста, с самого начала был приписан к «лабазникам», хотя всегда держался от них в стороне. Он искренне не понимал, как можно тратить столько сил на любовь к Родине вместо того, чтобы чуть-чуть поднапрячься, подучить русский язык и не сажать в текстах ошибки, за какие раньше били линейкой по рукам. Впрочем, и они его за своего не считали. Жена-еврейка, по их понятиям, – недостаток серьезный, ведь носатая ночная кукушка может так закуковать русского человека, что он за кусок мацы предаст и себя, и род свой, и Отечество.
После воцарения Шабельского начался исход «лабазников». Исидор был суров: одного отправил на пенсию, другого на каждой планерке «опускал» и довел до «собственного желания», третьего вдруг застукали пьяным на рабочем месте и вышибли. Хотя на самом деле гораздо трудней застать журналиста на службе трезвым. Редакционное пьянство – профессиональный порок, не зависящий от национальных и политических кондиций.
Касимов «лабазником» тоже не был, наоборот, вохмелю, объявлял себя потомком Чингисхана и, мутно тараща красные глаза, обещал поквитаться за взятие Казани Иваном Грозным. Гена дивился: как же долго, если не вечно, мыкаются в людской крови давние родовые обиды! Над «лабазниками» самопровозглашенный чингизид потешался. Иногда, отлучаясь из редакции, заглядывал в кабинет и тихо просил:
– Я на часок. Пивка попить. Погром без меня не начинайте!
Но именно Ренат вылетел с работы одним из первых – за пьянку. Другие, не дожидаясь расправы, сами разбежались: кто – в «Правду», кто – в «Совраску», кто – на вольные хлеба. А в «Мымру» нагрянули новые люди, озорные, энергичные, похожие на родственников, съехавшихся на семейное торжество. Скорятин называл их «наоборотниками». Еще недавно они послушно говорили и писали то же самое, что и остальные, даже правильнее других. Но едва подул теплый ветер перемен, все они, словно повинуясь вековому инстинкту, первыми разорвали уродливый советский хитин, выпростав из куколок вольные разноцветные крылышки. Своего упертого прошлого «наоборотники» нисколько не смущались, ехидно обсуждая, как хитроумно и безбедно пересидели зиму, дождавшись-таки своего часа.
Однако прошлая покорность жгла им грудь, наполняя лихорадочным желанием изменить теперь все сразу до неузнаваемости. Если раньше Запад считался угрозой миру, а СССР – оплотом человечества, то теперь все стало наоборот: мы империя зла, а они – жены-мироносицы. Если раньше Зоя Космодемьянская была героиней, то теперь стала дурой-пироманкой, спалившей сено, припасенное колхозниками для лошадок. Если совки держали генерала Власова за предателя, значит, новые золотые перья выписывали из него борца с тиранией. Если прежде гордились космическими достижениями СССР, то теперь вместо орбитальной станции советовали учредить на вокзалах страны новые чистые сортиры. Иногда Скорятину казалось, что «наоборотники», будь их воля, содрали бы заживо с глобуса розовую кожу Советского Союза и налепили вместо нее какие-нибудь разноцветные лоскутья.
Гену изумляло их умение не только возвеличить «светлого» человека, но и растоптать «темного». Восхваление или травля начинались как по команде, словно кто-то вскрыл мобилизационный пакет и дал сигнал к военной операции, где каждый знал свой окоп, свою огневую точку, свой маневр. И горе побежденному! Едва Юрий Бондарев бухнул с трибуны: мол, перестройка похожа на самолет, который взлетел, а где сядет, не известно, сразу обнаружилось, что литератор-то он слабенький, зато дача у него в Пахре круче, чем у Льва Толстого в Ясной Поляне. А где же «Война и мир»? Зашептались, будто и на передовой писатель-окопник ни разу не был, все больше по тылам отсиживался. И человек, вчера еще уважаемый, звездный, неколебимый, за несколько дней превращался в нерукопожатное существо с неприятным запахом. И делай после этого что хочешь – вешайся или в ноги к светлым людям бухайся…
Ренат как-то был «свежей головой» и обозревал на планерке номер со статьей Мары Ивановой «Недоклассик». Название, кстати, по просьбе Жоры придумал Гена. Касимов, похвалив заголовок, вдруг завелся: негоже травить хорошего писателя за то, что не нравятся его политические взгляды.
– Вы же сами, Исидор Матвеевич, любите повторять Вольтера: «Я не согласен ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право говорить это…» Так?
– Так! – кивнул Шабельский, и коллектив затаился.
– У нас ведь плюрализм?
– Конечно. И еще у нас – гласность.
– А что такого особенного сказал Бондарев, чтобы его уничтожать?
– Минуточку, Ренат Раисович, мы никого не уничтожаем. Просто за годы застоя накопилось много искусственных авторитетов.
– Бросьте, вы за три года перестройки столько искусственных авторитетов надули… Что вы въелись в Бондарева? Вы-то сами знаете, где сядет самолет?
– Конечно, – тонко улыбнулся Исидор.
– Где же?
– Скажу, когда долетим! – и главный посмотрел на Касимова с прощальной теплотой.
Вскоре комендант застал Рената с Шароновым за распитием спиртного на рабочем месте. Веня давно спал, уронив кудлатую голову в графоманские рукописи, поэтому ему объявили выговор, а Касимова, пославшего бдительного обходчика в самый интимный уголок вечной женственности, уволили. Пир свободомыслия продолжался. Тон задавал Исидор. Если в свежем номере не было «бомбы» и возмущенные ретрограды не обрывали «вертушку», он тосковал, злился, мелко придирался к сотрудникам, ставил им в пример «Огонек», опубликовавший статью про то, что Сталин был скрытым гомосексуалистом, облюбовал себе Гитлера, заключил для этого пакт, а фюрер обманул и напал. Жен членов Политбюро Сосо сажал, чтобы без помех содомничать с соратниками. Статья так и называлась «Я садомником родился…» Бомба! Фугас! Учитесь, олухи!
Но если удавалось напечатать что-то скандальное, Исидор цвел, выписывал премии, водил авторов сенсаций в Большой театр, где служила в литературной части его жена Элина Карловна. Когда Яковлев доверил «Мымре» первую публикацию о «хлопковом деле», после которой словно коса прошла по узбекским партийным баям, Шабельский по совету Сун Цзы Ло снял в «Пекине» банкетный зал, поил редакцию кислой китайской водкой, кормил лягушачьими лапками и тухлыми яйцами. Долго потом бухгалтер Бак страдал, выписывая липовую матпомощь и покрывая урон. «Наоборотники», влюбленные в своего босса, говорили с усмешкой: «Это вам не Танкист!» Иван Поликарпович, и то правда, был скуповат, денег не жалел разве что на похороны усопших коллег.
Скорятин понимал: надо уходить, хотя до пенсии было далеко, а пил он умеренно – в примаках отучили. Вскоре после женитьбы Гена, проведывая родителей, встретил возле Ватутинских бань одноклассника, загулял, в Сивцев Вражек (кооператив тогда еще не купили) приполз за полночь, наблевал в биде, перепутав с унитазом, попытался насытиться беременной женой, получил в лоб, загрустил и вырубился. Утром он проснулся в том состоянии, когда хочется немедленно застрелиться и желательно из крупнокалиберного пулемета. Марина ушла в женскую консультацию, оставив на тумбочке записку: «Свинья!». Часы показывали половину второго. Ничего себе – выспался! Умирающей тенью он скользнул в ванную, долго и жадно пил из-под крана, удивляясь жжению во рту, но потом сообразил, что по ошибке хлебал горячую воду. Включил холодную – и зубы заломило так, будто он сгрыз айсберг. Закачав живот жидкостью до отказа, но так и не утолив жажду, Гена заметил в зеркале зеленую рожу с красными воспаленными глазами и вздыбленными волосами. Узнав себя по усам, отпущенным сразу после свадьбы, он вдруг вспомнил – как воскрес: у тестя всегда имелось в запасе чешское пиво, которое ему доставлял знакомый коллекционер, директор гастронома в Жуковском. Не потревожив ворсинки на коврах, страдалец просквозил на кухню, взялся за никелированную ручку холодильника, а губы сложил в блаженную гузку, какой гибнущий человек тянется к дымящемуся пивному горлышку. И тут за спиной выстрелил тещин голос:
– Геннадий, я хочу с вами поговорить!
Скорятин обернулся, едва не упав: Вера Семеновна стояла одетая на выход. В ту пору она читала лекции на курсах повышения квалификации в Высшей профсоюзной школе и потому ограничилась «каратниками» в ушах и «двухкаратником» на пальце.
– Геннадий, вы, конечно, знаете, что Александр Борисович был против вашего брака. Категорически! Но я поддержала Марину. Она вас любит. За что – ее дело. Но прошу вас, не подводите меня, не тащите в наш дом помойку, из которой мы помогли вам выбраться! Надеюсь, разговор на эту тему у нас последний. Впрочем, он последний в любом случае…
Воспитывая зятя, она деловито разостлала на столе салфетку, разложила серебряные приборы, достала из холодильника черную икру, масло, соленые огурчики, финский сервелат, шпроты, болгарское лечо, а потом, налив в хрустальный графинчик граммов сто пятьдесят посольской водки, поставила перед Геной золоченую мозеровскую рюмку.
– И никогда не лечитесь пивом, как лимитчик! – бросила она, уходя.
Вот это был урок! Нельзя сказать, что Скорятин с тех пор вообще не пил, но с алкоголем у него сложились опасливо-предусмотрительные отношения, как с буйной любовницей, которая вдруг может явиться ночью к законной жене и заголосить, ломая руки: «Отдайте мне его! Он мой! Мой!» И ведь Марина отдаст…
В общем, увольнение за пьянство ему не грозило. Ругать на планерках его тоже было не за что: писал он отменно, а «шапки» придумывал такие, что только руками разводили: «Голова!» Но несмотря на достоинства, Гена был обречен. «Наоборотники» не признают чуждых талантов, как на Западе не признают русские дипломы. Скорятин был для них чужим, ибо не упивался праздником непослушания, охватившим страну, да и с пятым пунктом подкачал. Из отдельного кабинета его пересадили в общий. Новые сотрудники, занявшие столы в большой комнате, почти не разговаривали с ним, а если он неожиданно входил, обрывали на полуслове шумный спор и смотрели на него, как в мужском туалете смотрят на уборщицу, нарушившую сокровенность. В общем, нежилец…
Гена без лишних унижений и напоминаний подыскал себе должностишку в «Гудке», написал заявление о переводе и дорабатывал положенные по закону две недели. Иногда, если он оставался один, в комнату проникал Жора, срочно перековавшийся в «наоборотники», и тихо молил:
– Заголовок для статьи о падении производительности труда. В номер. Спасай!
– Де-ста-ха-но-ви-за-ци-я, – помедлив, отвечал нежилец.
– О искрометнейший, что мы без тебя делать будем!
Дверь открылась – и легкий на помине Жора Дочкин, возмущенно размахивая машинописным листком, влетел в кабинет. Сколько помнилось, он всегда ходил в обвисших джинсах и кожухе, некогда черном, а теперь вытершемся до слоновьей серости, – менялись только рубашки, непременно клетчатые. В тридцатиградусную московскую жару зам давал себе поблажку – льняной пиджак, мятый, словно вынутый из кармана. Кстати, черные кожанки они покупали вместе на закрытой распродаже для делегатов съезда журналистов. Но Скорятин давно отдал свою дачному сторожу, а бережливый Дочкин все еще донашивал.
– Что случилось?
– Гена, ты с ума сошел? – Сизое небритое лицо Жоры дрожало, как потревоженный студень. – Это нельзя печатать, о неосторожнейший!
– Что?
– Соловскую херню. Нас закроют.
– За что?
– За «нерукопожатного президента». Во-первых, это неправда. Президент у нас отличный! – он сказал это громко и куда-то ввысь.
– Не волнуйся, здесь не прослушивают. Недавно проверяли.
– А во-вторых, так нельзя! Ну есть же какие-то границы. Нас прикроют.
– Нет никаких границ. Еще не понял? Если бы границы были, нас бы закрыли, когда сбежал Кошмарик. И за «тоталитарную Сатану» не закроют. А вот за статью о Дронове могут. У нас свободная страна: можно спокойно обзывать царя козлом, но попробуй сказать против псаря – затравят!
– Они там не понимают, что все это плохо кончится?
– А ты уверен, что они там хотят, чтобы все хорошо кончилось?
– Значит, ставить?
– Допустим, я скажу: не ставь. Солов тут же настучит Кошмарику. А тот настучит мне – по голове. Поэтому ставь сразу.
– Все равно остается дырка.
– Посмотри что-нибудь из «заиксованного».
– А с «Клептократией» что делать?
– Не знаю. Ты как себя сегодня чувствуешь? Затылок не давит?
– Давит. Утром сто восемьдесят на сто десять было.
– Многовато!
– Может, по чуть-чуть? Коньяк – лучший друг сосудов.
– Посмотрим… – заколебался Скорятин.
Если Алиса призовет сегодня к себе, придется пить секретную таблетку Казановы, а это вместе с алкоголем строго не рекомендуется – врач предупреждал.
– Говорят, Кошмарик нас продать хочет, не слышал? – осторожно спросил зам.
– А почему бы и нет? Он нас купил, как деревню с крепостными. Может и продать. Капитализм.
– А куда идти? Мне до пенсии всего ничего осталось.
– За что боролись – на то и напоролись.
– Я не боролся, я строчки считал, – грустно молвил Жора и ушел, по-стариковски шаркая большими изношенными кроссовками.
Незабвенный Веня написал как-то о нем:
Жизнь – интересное кино!
Вот ответсек Ж. Дочкин.
Он выпил танкер водки, но
Не написал ни строчки.
В журналистику Дочкин попал случайно, о чем любил рассказывать под рюмку. Мать вырастила Жору без отца, не вынесшего ее астмы, которая обострялась от любого пустяка, в том числе и от супружеских обязанностей. Работать она могла только дома: клеила коробки для елочных украшений. Сын с восьмого класса начал сам зарабатывать, устраивался куда-нибудь на школьные каникулы, однажды увидел объявление: еженедельнику «Мир и мы» требуется курьер. Они тогда еще сидели в газетном комбинате, особняк на Зубовской возник через год. Танкист поехал в санаторий, встретил там однополчанина из Управления делами ЦК КПСС, пил с ним каждый вечер и выпросил новое роскошное помещение. Тогда многое решало фронтовое братство. Скажем, сходились вверху два седых титана-управленца, чтобы схватиться насмерть, вглядывались друг в друга: «А не ты ли в 1941-м под Оршей?..» «Я…» Обнялись, поцеловались и договорились.
Жора зашел по объявлению – и уже на другой день разносил по этажам полосы. Больше всего ему понравились бездверные лифты, скользившие, не останавливаясь, вверх-вниз: сотрудники ловко впрыгивали и выпрыгивали на ходу.
– А если кто-то не успеет? – вслух, как бы себя самого спросил новичок.
– Все предусмотрено! – солидно ответил Скорятин, работавший в «Мымре» целых полгода.
Когда пространство между опускающимся полом и перемычкой этажа сократилось до полуметра, он сунул в щель ногу – лифт дернулся и встал.
– Здорово! – восхитился Дочкин.
– Ну что ты делаешь, ребенок с длинным хером? И так жить не хочется! – взныл светлокожий негр с синяком под глазом.
Это был Веня Шаронов – сказка и легенда «Мымры».
Но еще больше, чем медленные лифты, Дочкина потрясла редакционная жизнь. О, это был дивный мир! По коридору бегали, перешучиваясь, не по-советски одетые люди. Из кабинета несся вопль: «Токио, Токио, Москва на проводе! Ответьте! Не слышу!» Кто-то останавливался и с тонкой улыбкой советовал: «Лёва, хватит орать, попробуй просто позвонить в Токио по телефону!» Шутка такая. А столовая, закрытая столовая, где бутерброд с черной икрой стоил двадцать две копейки, сосиски дурманили забытым мясным ароматом, а «боржоми», давно исчезнувший из обычных магазинов, манил красно-синими этикетками! Там, за соседним столиком, могли говорить о том, как на премьере в Доме кино великий актер Холопский напился в хлам и встал на колени перед буфетчицей, моля о рюмке в кредит. Там со знанием дела утверждали, что мулатки на пляс Пигаль буквально ничего не стоят, даже сами пристают к прохожим, чтобы не терять квалификацию. Там учили, что пить надо только ирландский виски, а не скобарский скотч, ну разве если «блю лейбл»…
– Вроде и японский виски ничего.
– Химия!
Жора влюбился в этот мир навсегда и решил поступать на журфак МГУ. Но без публикаций документы у абитуриентов не брали. Дочкин пошел за советом к Вене Шаронову. Почему к нему? Во-первых, к нему шли все молодые и неопытные. Во-вторых, Жора успел с ним подружиться.
Веня Шаронов, плохо сохранившийся пятидесятилетний мужчина с худыми ногами и большим животом, смахивал на негра: жесткие мелкие кудри, приплюснутый нос и черные глаза, замученные плантаторским рабством. Казалось, природа затевала африканца, но в последний момент передумала, выбелив кожу. Веня заведовал в «Мымре» отделом литературы, сочинял стихи и даже, по слухам, имел отношение к очень большой литературе: его первая жена ушла от него к Бродскому. Вторая жена, безуспешная актриса Лидка Бубенникова, происходила из кубанских казачек, была выше мужа на голову и вдвое шире в плечах – чем и пользовалась. Когда Веня приходил домой пьяным (а пьяным он приходил всегда), она встречала его на пороге и без единого укора била в челюсть. Он падал и засыпал. Впрочем, суровость Лидки объяснима: Веня, обычно сдержанный, даже стеснительный, выпив, превращался в сексуального шалопая и задиру. Мог подкатить к чуждой даме, отрекомендоваться помесью еврея с обезьяной и предложить ей краткий, но незабываемый интим в туалете. Иногда его били, чаще смеялись.
Именно так он и познакомился с Лидкой. Бубенникову тогда жестоко обманул давний любовник – режиссер Пореев: пообещал роль в комедии «Повариха», но в последний момент отдал красотке Тепличной – блондинке с шалыми глазами. Лидка взбесилась, поклялась отомстить и слово сдержала, показательно переспав с «помесью еврея и обезьяны», подсевшей к ней в ресторане Дома кино. Пореев, главный антисемит советского кино, устав от Тепличной, вернулся со съемок и затребовал Бубенникову. Ему шепнули правду, он вскипел обидой, примчался выяснять отношения, но его не пустили на порог. Тогда мэтр в гневе позвонил в столярный цех «Мосфильма», ему привезли двадцатисантиметровые гвозди и молоток. После того, как он намертво заколотил дверь подлой квартиры, Лидке с новым другом пришлось выбираться на волю по пожарной лестнице. Веня был так потрясен внезапным снисхождением этой могучей женщины, что всю ночь читал ей стихи, а под утро предложил руку и сердце. Она сначала долго смеялась, а потом согласилась.
Жили они буйно. Утром, придя на работу, Шаронов жаловался всем на семейное рукоприкладство, ему советовали или бросить пить, или подать на развод. Первое он отвергал сразу, над вторым задумывался и даже садился писать заявление в суд, но потом посылал кого-нибудь из молодежи за пивом, и жизнь налаживалась. Выпив, Веня светлел, загорался жизненным интересом, садился разбирать самотек и, обнаружив что-то интересное, шумно бегал по редакции, врывался в кабинеты и кричал:
– Вы только послушайте! Из Рыбинска, какой-то слесарь прислал. Гений:
Жизнь отныне стала краше,
И на лад идут дела.
Потому что моя Маша
Вся из отпуска пришла!
Нет, вы поняли – вся пришла, вся! Я охреневаю, дорогая редакция! Просто самодельный гений! А дальше – слушайте, слушайте:
Десять дней я лез на стену
И теперь, как штык, стою.
Поверни ж ко мне систему
Ты капризную свою!
Молодые дарования всей страны ехали к Вене за помощью и советом. Именно он, прочитав первые рассказы Довлатова, сказал ему: «Серега, даже не пытайся стать великим русским писателем. Ни Чехова, ни Бунина из тебя точно не выйдет. В крайнем случае – Аверченко, но Аверченко уже есть. Тебе удаются смешные истории про знакомых евреев. Это твой путь, мой мальчик!» Довлатов последовал совету мастера и прославился. Шаронов искал самородки в пустой породе редакционных завалов, перерывал мешки писем и, если находил, ликовал, носился, восторгаясь, по редакции, шел к Танкисту и говорил: «Надо печатать!» Не любя евреев в целом, Дед питал к Вене конкретную слабость. Во-первых, Лидка доводилась ему землячкой – из соседней станицы Старомышатской. Во-вторых, некогда писучий Поликарпович к старости обленился, предпочитая бумагомаранию застольные беседы с соратниками, как Гитлер. Веня, принадлежа всей душой к стану «отказников», тем не менее на посиделки в кабинете главного редактора допускался за веселый нрав и хмельное остроумие. Однажды, услышав очередную байку Танкиста, он вскричал: «Гениально! А почему никто не фиксирует?»
– А что? Дельная мысль! – Дед обвел взглядом присных «лабазников», но те потупились: кому охота записывать, а потом доводить до ума продукты недержания старческой памяти.
– Ну что ж, Веня, инициатива наказуема! – вздохнул главный редактор.
Так они наваляли три тома воспоминаний фронтового корреспондента «С лейкой и блокнотом…» Книжки в серии «Бойцы вспоминают минувшие дни» выпустил в «Воениздате» дружок-однополчанин Танкиста. Половину гонорара Дед щедро отдал Шаронову. Лидка отстроила матери новую хату – на зависть станичникам, но бить мужа не перестала, лупила с назидательным постоянством. А Жора стал лучшим другом беспомощного по утрам Вени. Дочкин купил специальную пластмассовую канистру и по пути на работу заскакивал в Зубовские бани. Там, в нарушение суровых советских законов, торговали пивом с восьми часов, ибо какой же легкий пар без шести кружек жигулевского! Веня, гонимый похмельным бесприютством, придя в редакцию с очередным кубанским фингалом под глазом, обнаруживал на столе росистую канистру свежего нектара. А в коридоре смущенно ждал спаситель – Жора. Набравшись храбрости, курьер рассказал старшему товарищу о своей мечте, тот вздохнул и спросил:
– Значит, хочешь к нам, в страну Вриландию? Валяй!
В коллективе к Жориному замыслу отнеслись благосклонно, даже зажглись – так замужние тетки со спортивным азартом выдают замуж прыщавую и безгрудую племянницу. Для начала абитуриенту поручили написать очерк о буднях пожарной части. Дочкин просидел там неделю, примерил робу и каску, поиграл с топорниками в карты, съездил на задымление, пальнул тугой струей из брандспойта, но сумел сочинить только пять строк: «В пожарной части Н. работают настоящие мужчины, которые не боятся ни огня, ни воды. С одним из них, который является секретарем месткома, Василием Д., мы поднялись на каланчу, с которой открывается широкий вид на окрестности…» Больше Жора не смог выдавить из себя ничего, голова была пуста, как вымя некормленой коровы. Веня прочел, посмотрел на автора с состраданием и поставил диагноз: «не писатель». Потом он выпил в раздумье стакан портвейна «Агдам» и позвал Скорятина:
– Надо помочь ребенку!
Гена выслушал сбивчивый рассказ абитуриента о буднях пожарной части, кое-что записал в блокнот и, оставшись вечером в редакции, долго сидел над чистым листом бумаги, грызя карандаш: писал он тогда еще от руки, наивно полагая, что машинка мешает выработке стиля и между словами застревает клацанье железных литер. Ерунда! Если есть мысли, хоть на камне зубилом вырубай – не важно. А вот когда мыслей нет, даже самопишущий ноутбук не спасет. В общем, сидел он, сидел, чувствуя в голове абсолютный вакуум, а потом – как обычно: вспышка, озарение, чувство веселого всезнания – и слова строятся на странице, как солдаты на плацу по тревоге: «В своих блестящих касках они похожи на древних воинов, вышедших сразиться с огненным драконом…» «Огнеборцы» прославили Жору, очерк вывесили на доску лучших материалов. Гене достался гонорар. Но на вступительных экзаменах Дочкин, как некогда Скорятин, не добрал баллов. С горя, конечно, выпили, а утром, поправив шатающееся здоровье, Веня пошел к Танкисту. Тот поморщился, но соавтору не отказал и позвонил проректору. После разговора о скудости подмосковной рыбалки в сравнении с щедростью кубанских вод и о жутком бое за высоту у села Микешина в 1943-м, Иван Поликарпович шутя попросил земляка за Дочкина. Бедолагу взяли на вечернее отделение.
Пять лет, пока Жора учился и шестерил в секретариате, Гена писал за него статьи, очерки, заметки об ударниках труда, о сапожниках-ассирийцах, о бамовцах, о донорах, об орнитологах, о протезах для воинов-афганцев, о недопустимости посещения кинотеатров в рабочее время, о венерических недугах, подстерегающих легкомысленную юность, неостепенившуюся зрелость и даже неугомонную старость… Каждый семестр полагалось радовать кафедру журмастерства новыми публикациями. Если Гена забывал о своей «нагрузке», Жора, смущенно улыбаясь, появлялся на пороге, показывал горлышко бутылки, торчавшее из бокового кармана, и молил:
– О златоперый! О человечнейший из человечных!
Получив диплом и став заместителем ответственного секретаря, Жора освободил друга от «нагрузки», ибо писать ему теперь приходилось только докладные и заявления на отпуск. Он важно ходил по коридорам, помахивая дефицитным железным строкомером, который нельзя было оставлять на столе: сопрут. Дочкин солидно ругал мелких сотрудников за позднюю сдачу материала, за плохой заголовок, за правку, внесенную в подписной оттиск, за ошибки и ляпы, выловленные проверкой. Будучи сам человеком бесписьменным, он понимал толк в хорошем тексте и начальственным баском воспитывал авторов: «Это еще что такое? Короче. Четче. Яснее. А за такие заголовки убивать надо!» С ним не спорили, ибо аргумент: «Лучше свою статью перечитай!» тут не годился: Дочкин ничего не писал.
В дедовские времена Жора был, конечно, «лабазником» и с хмельной слезой вспоминал родовую избенку в белорусской деревушке. Однажды он случайно наткнулся в самотеке на групповой снимок участников совещания военкоров 1-го Украинского фронта: в третьем ряду вторым слева стоял бравый лейтенант Диденко. Дочкин отдал фотографию ретушерам, увеличил и, обрамив, преподнес Танкисту на 9 мая. Старик всплакнул и поцеловал услужника: у Деда в архиве такой карточки не было. Но едва воцарился Шабельский, Жора переметнулся к «отказникам», а деревушка превратилась в местечко под Пинском. Когда отмечали 50-летие Исидора, заместитель ответсека раздобыл пожелтевший экземпляр «Пинского комсомольца» с заметкой ученика 7-го класса И. Шабельского «Металлолом полетит в космос», обагетил и торжественно вручил шефу. Тот поморщился, но оценил. Если бы главным редактором стал идейный каннибал, Дочкин достал бы косточку самого первого младенца, съеденного руководителем, покрыл лаком, перевязал розовой ленточкой и преподнес бы ко Дню защиты детей.
Но вскоре над услужником сгустились тучи: он напечатал по дружбе очерк знакомого литератора о пользе купания в проруби, а тот возьми и тисни в «Совраске» статью в пользу провинциальной ретроградки Нины Андреевой, напечатавшей возмутительное письмо «Не могу поступаться принципами!». Исидор, как истинный демократ, не терпел инакомыслия и велел писать заявление об уходе. Пришлось падать в ноги Вене, который, несмотря на гнусное соавторство с антисемитом Диденко, был в фаворе. Шабельский, посещая многоканальную Венецию, нанес визит обожания Бродскому. Иосиф Великий, узнав, что гость – новый редактор «Мымры», попросил передать множество приветов и грошовый сувенир давнему другу и, вдохновенно картавя, процитировал Венины стихи:
В станкостроительном профтехучилище…
Как вам такая строка?
Шаронов пошел к шефу и отбил Жору, сказав: «Оставь ребенка в покое! Пусть рисует макеты! Изя, я тебя прошу!» Шабельский покряхтел и пощадил Дочкина: пусть себе бегает, дырки затыкает. Дело-то холуйское, а Исидор мыслил в мировом масштабе.
Умер Веня совсем по-русски – с похмелья. Прощенный Жора снова вошел в силу, стал ответственным секретарем и даже полетел с делегацией в Женеву, учиться у западных журналистов свободе слова, а друг Бродского, придя на работу, не нашел привычного реанимационного пива (за это отвечал Дочкин) – и доверчивое сердце, не выдержав разочарования, остановилось. На панихиде в Домжуре Лидка рыдала и билась о гроб так, что, боялись, вот-вот вытряхнет щуплое тело мужа из обтянутого красной материей корытца. Она каялась, просила прощенья за прижизненные побои и утеснения. Природа в конце концов исправила изначальную ошибку: лицо Вени после смерти потемнело, и он стал похож на негра, замученного плантаторским рабством.
Возглавив «Мымру», Скорятин назначил Жору заместителем. Без своих людей нельзя, а команду Шабельского Корчмарик трогать запретил, хотя самого Исидора вышвырнул, как обгадившегося щенка. Дочкин же при всех недостатках был единственным, кто поддерживал Гену, когда его считали «нежильцом», даже выпивал с ним потихоньку в опустевшей редакции, шепотом ругая неуемных «наоборотников».
– Думаешь, это надолго? – продохнув после неудачно опрокинутой рюмки, спросил как-то Жора.
– Нет. Скоро кончится.
– Почему?
– По кочану! Чем жмут – тем не жнут, а чем роют – тем не броют…
– Ты откуда знаешь?
– Бабушка Марфуша сказала.
– Геннадий Павлович, – донесся из селектора голос Ольги. – По городскому помощник депутата Мастрюкова.
– У меня совещание.
– А потом?
– На выезде.
– А потом?
– Суп с котом. И не соединяйте меня ни с кем.
– Ясно.
Помощник депутата Мастрюкова был мелким жуликом – в отличие от своего босса, крупного природоохранного ворюги. Он звонил, канючил и прокручивал через прессу разные мелкие гешефты, обещал отблагодарить, никогда не платил, зато почему-то поздравлял Скорятина с «ханукой» и «пуримом», учитывая, видимо, направление «Мымры» и «пятый пункт» Кошмарика, но потом, наверное, навел справки и стал присылать открытки исключительно к православным праздникам:
Когда пасхален день и светел –
Все получается на свете!
Жизнь бесконечна – видит Бог!
Бог смерть не пустит на порог!
«Хорошо бы!» – подумал Гена и поежился.
За многие годы он научился чувствовать приближение неприятностей заранее: возникала странная тревога, не душевная, а скорее, телесная – ломило суставы, тряс внутренний озноб, мучил сердечный неуют. Дурное предчувствие приходило вроде бы ниоткуда – из серого зимнего утра или колючего июльского зноя. Но причина, конечно, всегда была. Полгода назад он позвонил хозяину по срочному делу, заготовив рапорт, полный той бодрой пионерской простоты, которую так любят сильные мира сего, считая подчиненных существами, стоящими на низшей ступени эволюции. Но ответил начальник охраны Зотов, суровый грушник, в боевой молодости штурмовавший дворец Амина. Вместо повелительно-торопливого тенорка Кошмарика послышался хриплый бас:
– Алло, Зотов слушает.
– Игорь Иванович, это я, Скорятин… Мне бы Леонида Даниловича!
– Кто? Скорятин? А, здравия желаю! Шеф на переговорах.
– Когда перезвонить?
– Он вам сам перезвонит, – не сразу, словно посоветовавшись, ответил телохранитель.
В сущности, ничего плохого не произошло. У босса было три мобильных телефона. Первый, сверхсекретный, хозяин всегда носил с собой, даже в сортир, ибо позвонить могли с таких заоблачных круч, что даже дыхание останавливалось, не говоря о прочем. На втором, полусекретном, номере дежурил круглосуточно Игорь Иванович, в случае чего передавая трубку. Третий, общедоступный, обслуживала секретарша Лиана. В ее обязанности входило выслушать и с кукольной вежливостью заморочить домогателя, пока служба безопасности пробьет, кто звонит – попрошайка или дельный человек. Время от времени шеф менял главный номер – и тогда сверхсекретный телефон становился полусекретным, а полусекретный – общедоступным. Однако накануне люди ближнего круга и, конечно, главный редактор «Мымры» получали новый код доступа к повелителю и могли в любое время обсудить с ним срочное дело. Кошмарик вникал во все, в каждую мелочь, прикидывал, высчитывал, одобрял или запрещал. Устроил как-то скандал из-за того, что не согласовали с ним цвет ковролина в редакции. Несколько раз Скорятин выходил на связь в неудачный момент: на том конце провода слышались звоны бокалов, дамский смех, а то и прерывистые стоны платной страсти. Но хозяин не сердился, не посылал к чертям свинячьим, а выслушивал, вникал, только поторапливал:
– Говори быстрей, девушки стынут!
В юности Кошмарик, маленький, большеголовый, носатый, натомился без благосклонности разборчивых сверстниц. Едва заработав первые деньги, он бросился наверстывать упущенное с мстительным небрежением, покупая рослых красоток стаями и пользуясь ими, как разовой посудой. Говорили еще: в детстве мама повела его в зоопарк, и, когда уссурийский тигр, рыча, бросился на прутья клетки, будущий олигарх обмочился от испуга и был уведен домой под добродушный народный смех. Теперь Кошмарик раз в год летает на сафари и бьет хищников беспощадно, не жалея на лицензии безумных денег. Свой рублевский дом он набил шкурами, рогами и бивнями, даже в мраморных сортирах можно напороться на клыкастую голову кабана с умными стеклянными глазами.
Скорятин видел это сам, когда лет пять назад гулял на свадьбе хозяина в имении на крутом берегу Москвы-реки, где при советской власти гомонил пионерлагерь «Электроник». Фотомодельная невеста Василиса поражала той неприступной северной красотой, от которой индевеет сердце. Прожили, правда, молодые недолго: она родила чернявого мальчика, названного Филиппом, и сразу подала на развод, пытаясь в виде отступного получить сеть косметических салонов «Vasilisa». Именно поэтому, как объяснили, телефон теперь берет Игорь Иванович: бывшая достала босса. Однако Скорятин не верил. Как-то странно совпало, что он лишился прямого выхода на хозяина вскоре после появления в редакции нового генерального директора Заходырки. Но отчаиваться не стоит: благосклонность владык переменчива, как погода в Лондоне, куда Кошмарик хочет перебраться из Ниццы после конфуза с малолеткой. Ведь и тогда, много лет назад, никому в голову не приходило, что Гену не только не уволят из «Мымры», а, наоборот, возвысят.
Дело было так. В Кремлевском дворце давали «Спящую красавицу», приуроченную к промежуточному юбилею примы Батманской, которую Гена, по совести, не любил: она напоминала ему танцующий циркуль. Но в редакции все как с ума сошли:
– Ах, Софья Максимовна, она, может быть, в последний раз танцует!
– Почему?
– Не понимаете? Если свернут реформы, Софья Максимовна уедет! Она в этой стране не останется!
Скорятина изумляло, как «наоборотники» умеют взбить вокруг любезных им людей пену благоговения, самый пустячный поступок, случайное слово, даже нелепый жест наполнялся высоким смыслом и овеивался обожанием. Своих любимцев они величали только по имени-отчеству, да еще с той особенной интонацией, словно у всех остальных людей были собачьи клички или «погоняла», в лучшем случае прозвища. А тут целая «Софья Максимовна»! Сказать о кумире что-то нелестное было невозможно, как выматериться при дамах, не восторгаться – неприлично: сразу попадешь в число «темных людей». Всех вокруг делили на темных и светлых.
– Как вам фильм Пармезанова?
– Который?
– Ну, где все происходит на помойке.
– Невероятно талантливо! Какой же он все-таки светлый человек!
В общем, стараниями Элины Карловны «Мымре» выделили столько билетов, что досталось даже полууволенному Скорятину. Исидор, человек широкий, решил одарить Гену напоследок за покладистость. Марина сначала отказывалась идти, говорила: болит голова, но потом, вдруг, в последний момент, согласилась и долго выбирала платье – чуть не опоздали. Места им, конечно, достались неудобные: мятущиеся по далекой сцене фигурки в пачках и трико казались эльфами, танцующими на подоконнике. Гена ерзал и переживал, что не догадался взять в гардеробе бинокль, за который еще и одевали без очереди.
– В перерыве возьму, – шепнул он жене.
– Что?
– Бинокль.
– А-а…
Марина в тот вечер была рассеянна и туманна, а когда на сцене вспыхивал свет, поглядывала на часы, дожидаясь антракта. Еще не сомкнулся занавес, а зрители метнулись в буфет, как на поезд. Там заманчиво пахло сосисками, пивом и сдобой, но до хмурых буфетчиц не достоишься. Спектакль отдали под культпоходы предприятиям, и один ловкий счастливчик занимал очередь всему голодному трудовому коллективу. Тогда супруги просто пошли по людным этажам Дворца съездов, которые напоминали мраморные футбольные поля, огороженные зачем-то золотыми перилами и поставленные друг на друга в несколько ярусов. О, эти последние дни процветающей уравниловки! Дамы с памятливым презрением озирали наряды соперниц по борьбе с советским дефицитом. Кавалеры убеждались, что их жены не самые толстые на свете. Марина в ту пору была еще хороша, и Гена шел с ней рядом, чувствуя себя владельцем дорогой и ухоженной собаки, выведенной на прогулку. Вдруг они нос к носу столкнулись с Шабельским, одетым в невероятный по тем временам смокинг и лакированные туфли. Исидор вышагивал, окруженный подчиненными, ловившими каждое его слово, и громко расхваливал Батманскую, танцевавшую Аврору. Для убедительности он взмахивал тонкопалой рукой с крупным перстнем.
– Какой апломб, боже мой, какой апломб! А баллоны! Вы видели, как она зависает в воздухе? Чудо! Легче воздуха! Вот – ленинградская школа!
– А как вам Чурилина? – спросил кто-то из редакционных подхалимов.
– Кошмар! Ну какая она Фея Сирени? Никакая. Позиции грязноваты. Фуэте не докрутила. Хотела обмануть эффектным финалом. Но нет, коллеги, нас не обманешь! А что это за кондовые заноски? Жуть! Как слониха. С такой техникой у станка стоять, а не плясать в Кремлевском дворце. Она, кажется, из Пензы?
– Из Перми.
– Ах, даже так!
Он упивался собой и не видел вокруг ничего. Марина некоторое время смотрела на него с улыбкой, потом громко сказала:
– Софья Максимовна тоже фуэте не докрутила. Тридцать вместо тридцати двух…
– Что? Разве? Не заметил… – Исидор точно поперхнулся.
Он в недоумении уставился сперва на Ласскую, потом, с пробуждающимся интересом, – на Гену. Наконец неловко поклонился. Она в ответ присела в насмешливом книксене.
– Это моя жена Марина Александровна, – представил Скорятин. – А это наш главный редактор Исидор Матвеевич. Я о нем, дорогая, рассказывал.
– О да! Вы произвели на моего мужа неизгладимое впечатление!
На ее лице возникло то самое выражение, с каким она когда-то сидела на лавочке у «памятника» и неотрывно смотрела на пепел сигареты.
– Вот вы теперь, значит, какая, Марина Александровна! – грустно заметил Шабельский.
– Да, вот теперь я такая, Исидор Матвеевич!
– Вы знакомы? – оторопел Гена.
– Конечно… – улыбнулся главный, не сводя с нее глаз. – Но я не знал, что вы замужем за… нашим лучшим журналистом. Поздравляю! Ваш супруг – очень светлый человек.
По рядам подхалимов пробежал ропот прозрения, и они уставились на Скорятина так, точно он материализовался в том месте, где еще минуту назад не было ничего, кроме подсиненного табачным дымом воздуха.
– Как дедушка? – участливо спросил Исидор.
– Болеет.
– Привет ему!
– Обязательно передам.
– Вы знаете Бориса Михайловича? – еще больше удивился муж.
– Конечно! Он был моим научным руководителем. И Вере Семеновне – поклон. Она все такая же строгая?
– Уже нет, – пожала плечами Марина.
– Александр Борисович все еще собирает Сомова?
– Нет, теперь Гончарову.
– А вы служите или детей воспитываете?
– Я работаю в «Смене». И у нас сын – Борис.
– Даже так? – Исидор обернулся к недоуволенному сотруднику: – Геннадий Павлович, так вы счастливец?
– А как же… – растерялся Гена, прозревая, как Иоланта.
«А как же…» прозвучало так глупо и унизительно, что Ласская больно вцепилась мужу в локоть. До сих пор, вспоминая это дурацкое «а как же…», он чувствует, как кровь тяжело приливает к затылку и пульсирует, стучит в висках, словно повторяет по слогам: «И-ди-от!» Кто знает, не скажи он тогда «а как же…», может, Марина и не совершила бы то, что совершила. Есть слова, даже междометия, которые меняют жизнь. Но понимаешь это потом, позже. Так же и с Зоей вышло…
– Ерунда какая-то, Ниночка… – Скорятин взял в руки снимок с девушкой у снежной березы. – Невероятно, как много зависит от правильно сказанного и правильно понятого слова!
– Ого, третий звонок! В зал, в зал, товарищи! – скомандовал Исидор. – Держу пари, Софья Максимовна специально не докрутила фуэте, чтобы ободрить эту неумеху Чурилину. А вы, Геннадий Павлович, загляните-ка ко мне завтра. Днем я у Яковлева. Значит, вечерком. Потреплемся…
Когда после спектакля ехали домой в Перово, сначала нехорошо молчали. По вечерам машин в городе было мало, в основном такси, троллейбусы да автобусы, камер слежения еще не придумали, и Гена несся под сто километров на «шестерке», купленной по лимиту Союза журналистов в самом конце царствования Танкиста. Едва он выехал из Варшавского автоцентра, его тут же окружили кавказские пузаны в кепках-аэродромах: «Продай, кацо, тачку! Пятнадцать тысяч даю!» – «Нет!» – «Двадцать даю!» – «Я машинами не торгую!» – гордо ответил спецкор, выложивший за машину семь четыреста.
– Что с тобой сегодня? – наконец спросила Марина.
– А с тобой?
– Не люблю КДС. Аэропорт какой-то.
– Надо было взять бинокль.
– Батманской пора на пенсию.
– Это он?
– Кто?
– Исидор.
– Глупый вопрос.
– Нет, не глупый! Это мой предшественник?
– Что ты имеешь в виду?
– Первопроходчик?
– Не будь пошляком!
– А ты не ври!
– Я не вру. Да, это он. Тебе повезло.
– Мне? Повезло?!
– Конечно! Теперь тебя не уволят.
– Я теперь и сам не останусь.
– Почему же?
– Объяснить?
– Объясни!
– Может, сама поймешь?
– Нет, не пойму…
– Почему ты не сказала раньше? Почему делала из меня дурака?
– Дурака ты сам из себя сегодня сделал!
– Что-о?!
Он затормозил на полном ходу, оставив на асфальте длинный черный след от содранной резины. Остановился потому, что до жуткой отчетливости ему захотелось со всей скорости врезаться в фонарь или стену, а еще лучше – пробив узорный чугун, рухнуть с моста, похоронить в грязной холодной воде и себя, и Ласскую. Марина мотнулась в кресле, как кукла, чуть не ткнувшись лбом в «торпеду».
– Ненормальный!
– Нормальный. Я поеду ночевать к Ренату!
– Хоть на вокзал.
Чтобы успокоиться, он вышел из машины, поднял капот, проверил щупом уровень масла, хотя сразу после движения делать это бессмысленно. Закурил, не сразу попав кончиком сигареты в дрожащий лепесток огня. Рядом остановилась древняя «копейка», подмазанная шпатлевкой, как изуродованный покойник в морге. Из окна высунулся водитель – тогда еще сохранялось особое дорожное братство и взаимовыручка автомобильных горемык.
– Заглох?
– Мотор перегрелся, – соврал Гена. – Вентилятор не крутит.
– Значит, датчик полетел. А вроде машина-то новая?
– Года нет.
– Советское – значит лучшее. Стахановцы гребаные! Мою-то еще итальяшки собирали! – Он с нежностью погладил руль. – Всех переживет.
– Да уж…
– Теперь жди, пока остынет, – посоветовал, уезжая, доброхот. – А то движок заклинит.
Когда, остыв, Гена сел в машину, Марина сказала:
– Ну что ты взбесился? Что, собственно, произошло?
– Почему ты молчала? Я же тебе говорил: к нам пришел новый главный редактор Шабельский. Ша-бель-ский. Редкая довольно-таки фамилия. Не Иванов какой-нибудь. Почему не сказала? Почему прикидывалась?
– Выбирай слова! Что я должна была тебе сказать? Ах, Гена, твой новый главный – мой первый мужчина! Так, что ли?
– Не так.
– А как?
– Не знаю. Но сказать надо было хоть как-нибудь.
– Что? Он первый, а ты последний, да?
– Замолчи, сука!
– Ты еще ударь!
– Живи!
– Может, все-таки поедем? Мне надо домой, к ребенку. Кстати, ты обещал отвезти потом свою мать. Забыл? Она сидит с твоим сыном, пока мы по балетам ходим. Я с ней в квартире не останусь.
– Я ночую у Касимова.
– Хоть на помойке.
До дома они доехали, не проронив ни слова. Но когда вошли в лифт, Марина, засмеявшись, положила руки ему на плечи:
– Дурачок, я давно все забыла. Прошло целых пять лет!
Странно, но именно «пять лет» примирили его со случившимся. В молодости пять лет кажутся необозримым, космическим сроком. В армию на два года он уходил как в вечность, а вся вечность-то – две зимы и два лета. Гена подумал: смешно ревновать, беситься, если это случилось целых пять лет назад, в прошлой жизни. Как же глупа молодость! Потом понимаешь: большинство людей живет в прошлом, а в настоящем только едят, спят и сидят на унитазах. После Зои прошло двадцать пять лет, а он ничего не забыл. Ничего!
– Ты скажи ей об этом, Ниночка!
…В квартиру Гена поднимался, еще полный мстительных грез, оберегая обиду даже от резких движений, но в сердце уже затеплилась плаксивая сладость прощения. Мать, уложив Борьку, смотрела по телевизору «Голубой огонек»: кудлатая Пугачева пела про «старинные часы», а знатная колхозница, воин-афганец и космонавт Леонов слушали, млея. Из кухни пахло свежими щами. В маленькой комнатке спал, зажав в руке пластмассовый пистолет, будущий боец израильских сил самообороны.
– Какой умный мальчик, уже считать умеет! – похвалила мать.
– Анна Степановна, ну куда вы на ночь-то глядя собрались? Оставайтесь! – ласково предложила Марина. – Чайку попьем, поболтаем, у меня семечки есть.
Ни к какому Ренату он, конечно, не поехал, а терпеливо дожидался, когда жена начаевничается со свекровью и, благоухая ночным кремом, придет наконец в постель…
«Надо бы позвонить Касимову!» – вспомнил Скорятин.
Ренат долго не откликался, наконец ответил тяжелым похмельным голосом.
– Как жизнь? – спросил Гена.
– Никогда не пей водку «Русская доля»! – ответил несчастный.
– Заехал бы! Есть кое-что для тебя.
– Как называется?
– «Клептократия».
– Неплохо. Такая башка и такому тихушнику досталась. Давай завтра. Сегодня меня можно только кантовать.
– Договорились.
Ренат, потеряв ногу в Чечне, не ездил больше в горячие точки. Он пил и издавал «Отстой» – четырехполосную газетку полуправдинского формата с невнятной периодичностью: есть деньги – есть свежий номер, нет денег – нет и номера. Он сам набивал текст на компьютере, редактировал, верстал, потом по дешевке печатал в серпуховской типографии две тысячи экземпляров и развозил по киоскам на ржавой «Таврии» с ручным управлением. Киоскеры, давно забывшие, что такое бесплатная выкладка, у Рената газеты брали на реализацию задаром и всовывали между глянцевыми обложечными задницами. Почему? Видимо, из уважения к боевому протезу – старому, скрипучему, деревянному, с черной резиновой присоской. На таких же, подвернув пустые штанины, ковыляли инвалиды Великой Отечественной во времена Гениного детства. Кстати, современные протезы, один даже для спортивного бега, у Рената тоже имелись, но ими он почти не пользовался. Остаток тиража Касимов распространял сам в переходе под Киевским вокзалом. Стоял плечистый, бритоголовый, усатый, в видавшей виды спецназовке и рокотал, сверкая раскосыми черными глазами:
– Товарищ, стой!
Купи «Отстой!»
– А про что газета?
– Про сволочей!
Сдачей он никогда себя не затруднял, но если кто-то, вздыхая, начинал рыться в кошельке, – отдавал газету даром. С Ленкой Батуковой Ренат давно развелся: застал ее, вернувшись из командировки, в постели с загорелым плейбоем, сломал ему нос, собрал чемодан и ушел. Слава богу, детей еще не настрогали. Ленка, понимавшая брак как союз двух свободных индивидуумов, так и не догнала, почему ее бросили из-за какой-то возвратно-поступательной шалости. Зато дед-генерал гонял шалопутную внучку по всему Переделкино, страшно ругаясь и размахивая желтым парадным ремнем. Он любил Рената и купил ему после развода «однушку» в Бескудниково.
Касимов так больше и не женился, хотя баб в его жизни хватало, сами липли, будто железные стружки к магниту. Пришла как-то малярша из ЖЭКа – рамы подкрасить – и задержалась на год. Его обожали продавщицы окрестных гастрономов, отпуская выпивку и закусь в кредит. Впрочем, он всегда расплачивался, едва появлялись деньги. Однажды в него втюрилась польская журналистка Малгожата: познакомились на пресс-конференции, потом переписывались, она прилетала к нему в Москву. Все шло к свадьбе и отъезду в Польшу, где за безногость полагалась приличная пенсия: Европа-с! Но как-то раз под «выборнову» речь зашла о Катыни, и Ренат, простая душа, ляпнул, мол, на месте Сталина он тоже никогда бы не выпустил живыми офицеров армии предполагаемого противника. Война на дворе, а Польша после Германии – главный враг.
– Пся крев! – крикнула Малгожата и навсегда улетела в Варшаву.
– Да и черт с ней! – махнул рукой инвалид. – У нее нос всегда холодный, даже когда кончает.
Квартиру Ренат, несмотря на одинокость и приверженность к спиртному, содержал в чистоте: узкая кровать застелена суконным одеялом и даже «отбита» по армейской привычке. Двуспальную роскошь он не признавал, говорил, что спит или один, или на женщине. На кухне никогда не водилось грязной посуды. Даже пустые бутылки – а их иногда скапливалось в углу до сотни – стояли строем, по ранжиру: коньячные, водочные, винные, пивные и отдельно, как иностранные наблюдатели на военном параде, – затейливые емкости из-под виски, рома, текилы…
После изгнания Рената из «Мымры» Гена по старой памяти захаживал к нему, поговорить, слегка выпить, посплетничать о том, что творится в редакции и в мире, какое новое вольнолюбивое чудачество затеял Исидор.
– Ну и как там тебе в демократическом зоопарке? Ты уже прораб или все кирпичи таскаешь?
– Какой там прораб…
– Значит, гранд гласности?
– Иди ты…
– Плохо это кончится! – вздыхал Ренат, снайперским движением наполняя стаканы. – Очень плохо!
– Почему? Ты же сам говорил, что нельзя дышать по команде.
– А они разве не по команде дышат? Просто командуют другие.
– Ты против гласности? – усмехался Гена.
– Брось ты! Вся ваша гласность – вроде стишков Асадова, которые читают бедной девушке пред тем, как боеприпас в казенник дослать. Что у тебя, кстати, с Маринкой?
– Нормально, – отвечал страдающий муж, не в силах поведать другу правду.
После памятного культпохода участь Скорятина сказочно переменилась. Потрепавшись с Геной на следующий день после «Спящей красавицы», Шабельский не уволил его, а наоборот, ко всеобщему удивлению, возвел в спецкоры при главной редакции. Мечта всякого пишущего журналиста: зарплата и полная свобода. Мотайся по командировкам, смотри мир, пиши, печатай, получай гонорары. Обзавидуешься! О том, что благодеяниями его осыпал бывший любовник жены, он старался не думать. Но иногда, на планерке, слушая вполуха витийства Исидора о кознях агрессивно-послушного большинства, бедный муж воображал Исидора и Марину в бесстыдной совокупности и цепенел от желания при всех набить «главнюку» морду, провезти изысканной лысиной по мраморному подоконнику, а потом уехать с Ренатом в «горячую точку» и там пасть под пулями. Но, конечно, сдерживался, копя в сердце мстительные грёзы. В супружеской спальне, налегая на трудоемкое тело Ласской, Скорятин иногда зверел от внезапной тошнотворной ревности, скрипел зубами, а она, приняв ненависть за кульминацию, шептала нарочито вскидывая бедра:
– Не думай обо мне! Я потом, потом…
А как он мог о ней не думать? Ведь Шабельский на планерках, рассказывая, к примеру, о тайном совещании у Яковлева, мог бросить лукаво-горделивый взор или даже подмигнуть. Гене казалось, что первый мужчина его жены таким способом напоминал о своем приоритете, мол, живи, дружок, и помни! Однажды обсуждали статью «Что за комиссия, создатель!» – о дороговизне комиссионных магазинов в СССР и дешевизне «секонд-хендов» в Европе. Исидор привычно похвалил спецкора за лихой заголовок и вдруг повел речь о вторичности русской культуры, веками донашивающей западные идеи, моды, образы…
– Ну кто такой, в сущности, Онегин? Подержанный Чайльд-Гарольд… Так ведь, Геннадий Павлович?
Промычав что-то вроде очередного «а как же…», он позже осознал, что Шабельский намекал на Марину и свое первенство. Гад! Дострадавшись до ревнивого изнеможения, Гена начинал себя стыдить и оправдывать Ласскую: ведь она ничего не скрывала, а жениться его никто не заставлял. Другое дело Вамдамская колонна! Переспав со всем журфаком, она завлекла в постель первокурсника, объявила себя порушенной девственницей и оттащила беднягу в загс. Со временем Скорятин начал уставать от ревности, отмахивался, даже корил себя, но обида ела изнутри. Чуткий Александр Борисович как-то зазвал его на саке, привезенное из Токио, и молвил, приязненно глядя на зятя:
– Знаешь, Гена, иногда кажется, что любовь больше жизни. Это не так. Жизнь куда больше любви. Лучше изменять, чем ревновать. Но я тебе этого не говорил.
Однако он не мог изменить Марине, хотя в редакции и в поездках соблазны караулили его, как минные растяжки спецназовца. Взять ту же Аннет: удивительно, сколько в нашем Отечестве и за рубежом слоняется невостребованных дам, готовых познавательно раскинуть ноги при любом подходящем случае. Его верность жене была похожа на болезнь, фобию, вроде боязни открытого пространства: казалось, стоит вырваться из обжитого домашнего греха, высвободиться из привычных сонных объятий, убежать от родной двуспальной рутины – и случится катастрофа. Какая именно – не ясно, но обязательно случится! Однажды, после обидной ссоры с Мариной, похвалившей за ужином Исидорову начитанность, он не выдержал и позвонил Вамдамской колонне. Та легко согласилась на свидание, пришла в кафе, а точнее, внесла в помещение огромный восьмимесячный живот и потом, поедая мороженое, рассказывала, как любит мужа, который хочет пятерых детей…
Так прошел, кажется, год. Гена вернулся из Парижа, привез Марине умопомрачительное черное платье в обтяжку, напечатал в «Мымре» нашумевшее интервью с Лимоновым и почувствовал себя лучше. Слушая на планерках разглагольствования Исидора о необходимости убить дракона в себе, Скорятин вдруг впервые осознал простую вещь: глупо переживать из-за того, что Шабельский когда-то спал с Ласской. Ерунда. Пшено! Пусть лучше-ка он мучается, что упустил такую женщину! Счастливый обладатель вспомнил, как жена меряла новое платье прямо на голое тело, а потом, снимая через голову, запуталась, беззащитно обнажив загоревшие в Ялте чресла с белым – от купальника – треугольником, в который был вписан треугольник поменьше – черный и курчавый.
– В Америке тебя бы посадили за сексуальное насилие в семье! – сказала она, отдышавшись.
– А там есть камеры для семейных?
– В Америке все есть!
– Геннадий Павлович, что это вы так улыбаетесь? – подозрительно спросил Шабельский, остановив обсуждение свежего номера. – Что-то не так?
– Радуюсь свободе.
– Рано. У свободы много врагов, а дракон, даже порубленный на кусочки, может срастись. Зайдите ко мне после обеда. Как раз по этому поводу.
…В приемной Гена обнаружил праздную Генриетту. Она грызла сушеные черноморские бычки, запивая пивом: в редакционном буфете, несмотря на полусухой закон, продавали баночное «Золотое кольцо» – редкость по тем временам. Большой кремлевский брат думал о журналистах.
– На месте? – спросил спецкор, кивая на черную дерматиновую дверь.
– Сегодня уже не будет.
– А зачем вызывал?
– Не знаю. Ждал тебя. Потом собрался и уехал. Ты-то где был?
– Обедал.
– Ты бы еще и поужинал.
– А чего он хотел?
– В командировку тебя отправить, – сощурилась Генриетта.
– Опять?
– Не опять, а снова. Не радуйся, не в загранку.
– А куда?
– Куда-то на Волгу. Бери! – она кивнула на рыбешек. – Свежие. Исидор в Ялте купил.
– Почему в Ялте?
– Потому что вобла водится в Волге, а бычки в Черном море.
– А когда он в Ялту ездил?
– Когда ты в Париже гулял. Привези старушке воблочки – побалуй! Ты чего такой бледный стал?
– Жарко.
Дома на подоконнике лежала связка бычков, привезенных женой из Ялты. Были они того же калибра и цвета, как те, что, причмокивая, ела Генриетта. Скорятин бегом вернулся в кабинет, позвонил в «Смену», ему ответили, что Марины сегодня не будет – на задании. Гена все понял: купил водки и поехал к Ренату.
– М-да, этого следовало ожидать, – произнес Касимов, когда вторая бутылка встала в строй опорожненной стеклотары.
– Почему?
– Первая любовь как первый бой. Захочешь – не забудешь…
– Ты знал?
– Мне еще Ленка говорила, как Маринка из-за него травилась.
– Почему мне-то не сказал?
– А что бы изменилось? Мне тоже докладывали, что Батукова со всеми дачными сосунками перетрахалась. Любовь, Геныч, слепа, глуха и глупа. Но пока не кончилась – штука приятная…
– И что же мне делать?
– Выпить.
– А потом?
– Трахнуть кого-нибудь.
– Ты тоже так считаешь?
– А кто еще так считает?
– Тесть.
– Хороший у тебя тесть. Береги его! Вызвать кого-нибудь?
– Например?
– Есть одна письмоноша. Не женщина – центрифуга!
– А потом?
– Потом будешь решать, так сказать, на холодную головку. У тебя сын. Ну, за атом на службе у человечества!
– Да уж…
– Помнишь у Веньки:
Двести на завтрак, двести в редакции,
Двести с бомжихой красивой,
Жизнь моя – ядерная реакция
С утренней Хиросимой.
– А если я у тебя немного поживу? – спросил Гена, закинув в рот водку.
– Живи.
В тот вечер он, легко и радостно, не страшась тещиного херема, напился так, что мир, став смешным до неузнаваемости, шатался и звенел, как огромная потревоженная люстра. Появилась Центрифуга, выпила водки, посмотрела на двух неживых бойцов, помыла посуду, покачала головой и ушла. Из последних сил он позвонил Марине, хотел объявить, что все знает про Ялту, но смог лишь сообщить: это я… Жена посоветовала остаться у Рената, чтобы не попасть в милицию. По стране катилась война с пьянством: за отдых в вытрезвителе расплачивались партбилетами и должностями. Из «Смены» уволили корреспондента, уснувшего в сквере на лавочке после дружеской пирушки. Веня, возвращаясь навеселе от знакомых, пристал в метро со стихами к молоденькой пассажирке, его забрали, и Шабельский выручал соратника Бродского чуть ли не через ЦК партии. Но главное – Марина боялась, что муж напугает пьяным вторжением Борьку и сын проболтается дяде Мише, а тот, как истинный «О. Шмерц», привыкший ябедничать Западу на СССР, стукнет Вере Семеновне на чуждого свояка-алкоголика.
– А если я тут с женщиной? – перекатывая слова, как валуны, спросил Гена.
– Пусть даст тебе на ночь аспирин, а утром крепкий чай. Адрес венерического диспансера возьми у Касимова.
Утром бедолага едва дополз до редакции и обрел исцеление, припав к спасительной канистре Шаронова. Когда беседа подернулась поэтической невнятностью, а Веня пустился в философские спекуляции о пользе семейного рукоприкладства, в кабинет влетела Генриетта:
– Спятил? Тебя с утра главный ищет!
– Яволь! – вскочил Скорятин.
– Сдурел! – ругалась она, ведя нетвердого спецкора на ковер. – В стране антиалкогольная кампания. Уволят, если будешь с утра хлебать. С Веньки пример не бери, он друг Бродского, ему все по барабану. На Исидора только не дыши!
Однако шеф и не заметил несвежести сотрудника. Благодушно млея от причастности к гостайнам, он рассказывал, как весь вечер совещались на Старой площади, обсуждали «Авансы и долги» Шмелева в «Новом мире», прикидывали, что делать с агрессивно-послушным большинством. А тут еще генеральный с Патриархом в Кремле встречался.
– Если церковь поддержит перестройку, мы непобедимы! Говорю тебе как специалист по атеизму. Плохо, что Ельцин второй центр силы пытается сколотить. Горбачев психует. Как некстати Раиса их рассорила! Зачем, зачем в политику вмешивается?
– А что, лезет? – вяло поинтересовался Скорятин.
– Еще как! Во все встревает. Генерального накручивает. Тяжелая женщина. Ремонт в Форосе делала – прораба до самоубийства довела. Дотошная…
– Как вошь портошная.
– Что?
– Бабушка Марфуша так говорила.
– А-а-а… Не хватает нам только раскола. Разругаемся – погубим перестройку. А ты-то что сегодня такой мрачный, Геннадио?
– А чего радоваться-то? – ответил он, стараясь дышать в сторону.
– Это верно! Того и гляди, Лигачев дожмет. Не зря они пробный шар запустили…
– Какой?
– «Не могу поступаться принципами!» Знаем мы эти принципы – всех к стенке поставить. Ты понимаешь, что начнется и что будет с нами?
– Расстреляют?
– Не исключаю. Хотя, скорее, просто загонят назад, в тоталитарное стойло. Представь! Сами на себя тогда руки наложим.
– Как тот прораб?
– Ну да… Никому про это не говори! Секрет.
– Ни-ни.
– Ты хочешь назад, в застой?
– Не хочу.
– Вот! А кто-то спит и видит! Многое сегодня зависит от нас. Иного не дано!
Гена слушал и думал о том, что в прежние-то времена главный редактор вряд ли решился бы откровенно путаться с женой подчиненного. За аморалку могли бы и с должности попереть. А теперь… Он кивал Исидору, а сам ловил в себе странную новизну, поначалу приписывая ее похмельной чудноватости бытия, но потом понял, в чем дело. Теперь, когда вышла наружу вся правда, его перестали терзать ревнивые фантазии. Обманутый муж больше не воображал, мучаясь, постельное сообщничество Ласской и шефа. Наоборот, он словно накрыл дорогие останки любви гробовой крышкой, оставив дотлевать в безвестной темноте.
– …Вот почему ты и едешь в Тихославль. Мне нужен скандал!
– Постараюсь.
– Постарайся! Найди! Накопай! Нарой! Очень нужно.
– А что так?
– Талантливый ты, Гена, журналист, но политического чутья у тебя нет. Так всю жизнь в спецкорах и проходишь. Кто там первый секретарь обкома?
– Не помню.
– Врагов перестройки надо помнить! Суровцев – правая рука Лигачева. Умный. Волевой. Хитрый. Ты вспомни, что он городил на пленуме? Нес какой-то красно-коричневый бред! Ну кто хочет реставрировать капитализм? Паранойя. Генеральный его с трибуны гнал, а он не уходил. Но главное: зал не отпускал. Хлопал! Теперь они готовят переворот на партконференции. Понял?
– Понял.
– Нет, у тебя все-таки что-то случилось. Дома?
– Ничего у меня не случилось.
– Тогда выезжай сегодня ночным поездом и без бомбы не возвращайся. Билет тебе забронировали. Возьмешь в депутатской кассе.
Складывая в дорогу вещи, Гена брал с запасом, чтобы хватило на первое время: возвращаться из командировки домой он не собирался, предполагая пожить сначала у Рената, потом найти недорогую съемную квартиру, а там видно будет. Вроде бы Союз журналистов кооперативный дом достраивает. Марина, чувствуя неладное, ходила вокруг и слегка поругивала за вчерашний загул.
– Ну нельзя же так!
– Больше не буду. В последний раз. Обещаю!
– Надолго уезжаешь?
– С чего ты взяла?
– Вещей много берешь.
– Там грязное стирать негде. Может, и надолго. Как получится. Я должен привезти скандал.
– Привезешь?
– Постараюсь.
– Хочешь, поговорю с Шабельским? – Фамилию любовника она произнесла с намеренным небрежением. – Он тебя совсем загонял.
– Не стоит. Если не гонять – никто напрягаться не будет.
– Приляжем на дорожку? – заманчиво улыбнулась Ласская, совсем как прежде.
Так у них повелось с самого начала, с медовых месяцев: если он или она отправлялись в командировку, то любили друг друга впрок, жадно, не в силах оторваться, рискуя не поспеть к рейсу. Однажды Гена опоздал-таки на поезд и догнал состав только в Туле, наняв «неотложку», возвращавшуюся с дежурства. Мчались, оглашая окрестности сиреной и греясь медицинским спиртом. Предприимчивая проводница кого-то уже пристроила на его полку, пришлось размахивать редакционным удостоверением, вызывать начальника поезда…
– Не успеем, – он снял просящие Маринины руки со своих плеч. – И я сегодня не в форме…
– Ты что, мне вчера изменил? – улыбнулась жена.
– Не сложилось, – ответил он. – Все водка проклятая!
– Геночка, прошу тебя, не пей в Тихославле!
– Попробую.
– Ну что с тобой происходит?
«Моя жена налево ходит!» – мысленно срифмовал Скорятин, а вслух вяло ответил: – Ничего особенного…
– Я буду скучать!
– Я тоже, – с наслаждением соврал командированный.
Утром он был в Тихославле.
Проходящий поезд прибыл рано, и на перрон областного города вышли всего несколько человек, в основном «мешочницы», ехавшие в плацкарте. Одна интеллигентная дама была обвешена связками туалетной бумаги, как революционный матрос пулеметными лентами. У второй из тугого рюкзака высовывались, точно боеголовки, батоны колбасы. У третьей из кошелки, покрытой платком, бежала струйка гречневой крупы: видно, порвался пакет. Столица питала страну не только идеями гласности, перестройки, ускорения, но и дефицитными продуктами.
Не выспавшийся и хмурый после вчерашнего повторного пьянства Гена вышел из СВ, огляделся, ища встречающих, но не обнаружил на опустевшей платформе никого, кроме молодого человека с битловской прической и усами подковой, как у Ринго Старра. Посланец райкома так выглядеть не мог, не имел права, но это был как раз он – в джинсах и штормовке. Прислонившись к витой чугунной колонне, «битл» читал «Мымру», номер недельной давности.
«Интересные в провинции партократы!» – подумал Гена.
Будучи исправным членом КПСС, Скорятин давно уже с раздражением относился к «руководящей и направляющей силе общества», так квартиросъемщик злобится на жилконтору, где все пошло вразнос: то канализация фонтанирует, то крыша течет, то кончается тепло в батареях… Отец – другое дело, тот до последнего верил партии, как жене. В девятом классе Гена по совету дяди Юры стал слушать на ночь «Голос Америки», гундевший сквозь треск глушилок убедительные гадости про СССР. Павел Трофимович выявил крамолу и выпорол сына, приговаривая: «Слушай, что положено, засранец!» В армии на политзанятиях капитан-пропагандист, зевая, бубнил им статьи из «Агитатора армии и флота». Слова тянулись, как бесконечный караван верблюдов, покрытых кумачовыми попонами, но смысл прочитанного был одинаково непонятен и рядовому Торнырдаеву, почти не знавшему по-русски, и самому капитану – выпускнику высшего военно-политического училища. На журфаке скепсис к «уму, чести и совести нашей эпохи» только окреп: даже преподаватели показательно читали «Известия», парламентский орган, а не «Правду», рупор однопартийного маразма, хотя обе газеты были похожи, словно башни Кремля. Попав в семью Ласских, Гена не только укрепился в презрении к совку, но и усвоил улыбчивое снисхождение к этой стране, сразу выдающее в человеке врожденную интеллигентность. К 1988-му неприязнь к советской власти расползлась, точно эпидемия осеннего гриппа. Люди заражались друг от друга в метро, в кино, на собрании, в гостях. Все, будто зачарованные, повторяли: «так жить нельзя». И чем лучше человек жил, тем невыносимее страдал.
Скорятин по разнарядке Союза журналистов купил свою первую машину – кофейную «шестерку», и прежнее недовольство «Верхней Вольтой с ракетами» сменилось вялым бешенством. А как иначе? Чтобы залить бак бензина, приходилось стоять в очереди. Новый аккумулятор взамен осыпавшегося мог достать только тесть. Чтобы загнать машину на «яму», даже по знакомству, нужно было в техцентре лебезить перед механиками, величавыми, как потомственные аристократы. А возле накануне поставленного дорожного знака тебя алчно ждал красномордый гаишник с никелированной штучкой, которой делают просечки в правах. Хотелось плюнуть и взять штурмом какой-нибудь райком.
Заметив Гену, незнакомец встрепенулся, свернул газету в трубочку и радушно пошел навстречу:
– Вы Скорятин?
– Да. Как догадались?
– А журналисты всегда – или в коже, или в замше.
На москвиче была новая замшевая куртка, клетчатый шарф и кепи с кокетливым помпоном. В таком виде он мог сыграть иностранного шпиона в советском кинофильме.
– А вы, значит… – Он улыбнулся битлу.
– Колобков. Илья Сергеевич. Можно просто Илья. Заведующий отделом агитации и пропаганды Тихославльского райкома партии.
– Очень приятно. Геннадий Павлович. Можно Геннадий. – Спецкор протянул руку, дивясь странному ответработнику с забавной фамилией.
– Не верите, что я из райкома? – усмехнулся тот. – Я бы тоже год назад не поверил. Пойдемте в машину! Давайте чемоданчик!
– Спасибо, я сам.
– Отличная у вас статья в номере! – на ходу похвалил Илья. – И название хлесткое: «Ускорение перестройки или перестройка ускорения?» Умеете вы словцо завернуть!
– На том стоим, – веско улыбнулся гость.
На привокзальной площади их ждала «Волга» майонезного цвета, как такси, но только без «шашечек». За рулем сидел седой солидный водитель в пиджаке, белой рубашке и черном галстуке. Он куда больше походил на ответственного работника, чем чудной Колобков.
– Поехали, пожалуй, Николай Иванович? – осторожно спросил райкомовец.
Шофер неторопливо кивнул – словно мог отказаться.
По длинной Коммунистической улице (бывшей Дворянской, уточнил Илья) промахнули центр города. С высокого арочного моста открылась Волга, еще подернутая остатками ночного тумана. У берегов мутно чернели лодки со сгорбившимися рыбаками, а по фарватеру летела, приподняв нос и раздвигая волны крыльями, ранняя «ракета». Над дальними лесами висело умеренное утреннее солнце.
– Посмотрите направо! – предложил Колобков и перешел на скороговорку, как заправский гид. – Покровский монастырь основан в тринадцатом веке князем Михаилом Всеволодовичем. Справа Львиные ворота – архитектурная доминанта северного фасада. К воротам пристроен захаб для контроля над переправой через речку Вереслу…
«Захаб? – подумал Скорятин. – Надо посмотреть в словаре…»
По нормальному шоссе ехали недолго, вскоре оно превратилось в подобие бесконечной стиральной доски.
– Вот на таких путях-дороженьках и обломала железные клыки стальная машина вермахта! – хихикнул Илья.
– А разве немцы здесь были? – удивился москвич.
– Я и говорю: не дошли – обломались…
Водитель кашлянул и засопел. Вдоль дороги поднимался уступами свежий майский лес, за голубым клубящимся кустарником шел нежно-зеленый березняк, а дальше вставали синие готические ели. По обочинам мелькали золотые одуванчики, лиловые фиалки и белые островки звездчатки. Когда машина, рыча от натуги, вползла на взгорок, открылась Волга. Река ослепительно рябила, извиваясь на солнце. Колобков говорил и говорил, он просто физически не мог молчать.
– В отдаленье видны курганы Долгий, Олений и Груздевой. Интересно, что расположены они на одной линии, которая ведет к селу Алтунино, где, по легенде, и находился знаменитый камень Алатырь…
– А вы не экскурсовод?
– А вы не следователь?
Через полчаса Гена знал про Колобкова всё.
Год назад тот еще работал в областном краеведческом музее младшим научным сотрудником, заканчивал «диссер» о дохристианских памятниках Среднего Поволжья – в общем, жил не тужил. Как-то лежал дома с температурой, перечитывал Татищева под кантаты Бортнянского и пил чай с лимоном. Счастье! Никто не беспокоил: телефона в коммунальной квартире нет, очередь подойдет лет через пять. Нирвана! Вдруг в панике прибежали из обкома: «Спасай!» В город нагрянул секретарь ЦК КПСС Волков. С началом перестройки руководство повадилось наезжать внезапно. Раньше загодя предупреждали, чтобы успели фасады на главной улице подновить, прикрыть заборами недострой да травку на газонах подзеленить. А теперь – здравствуйте, как живете, что жуете, куда ускоряетесь? В общем, начальство надо срочно занять, провести экскурсию, а в музее никого, все ушли на фронт. Пятницу объявили санитарным днем, чтобы народ урожай дособирал, заложил в погреба, перекопал под зиму огороды. В магазинах-то шаром покати. Да еще, как на грех, опята поперли, точно спятили, – стволов в лесу под шляпками не видно.
– В общем, продовольственная программа на марше, – хихикнул Колобков. – Нечерноземье – наша целина!
Водитель снова кашлянул и всхрапнул – уже громче.
…Секретарь ЦК Волков оказался нормальным мужиком, спокойным, любознательным, даже кое-что в истории петрил. Когда ехали по городу, он все крутил головой и спрашивал: «А это у вас что, а там что еще такое?» Гид объяснял: особняк купца Полупудова. Уникальный образчик поволжского модерна по проекту самого Евланова. Знал хлебопродавец толк в зодчестве! Сейчас там венерологический диспансер, а по уму должна художественная галерея быть…
– Разве в городе нет галереи? – удивился Волков.
– Как не быть! Целых четыре зала в краеведческом музее: Васнецов и Репин рядом с чучелом медведя и макетом курной избы. А в запаснике шедевры штабелями пылятся. Когда в революцию поместья громили, все, что уцелело, сюда свезли. У нас даже свой Мурильо есть – «Кающаяся Магдалина». Авторство под вопросом. Но я-то знаю: Мурильо!
– Откуда?
– У него мазок особенный. Нежный как поцелуй!
– Вот даже как?! – улыбнулся Волков и повернулся к первому секретарю обкома Суровцеву: – Что ж вы, Петр Петрович, так плохо с «Кающейся Магдалиной» поступаете? К медведям загнали…
– Ну, наш-то Пе-Пе в карман за словом не полезет, – захихикал Колобков. – Сказанул – так сказанул: «Виноват, говорит, в следующем году поместим блудницу куда ей следует – в вендиспансер!»
Посмеялись, но как-то нехорошо, и дальше поехали. Остановились на пустыре, и гид объяснил удивленному гостю, что перед ними знаменитые Сухановские сады, где при царе-батюшке росла лучшая в России антоновка. За мочеными сухановскими яблоками на московских и питерских базарах в очередях давились. Только дай!
– А где ж сады-то? – державно озаботился Волков.
– Вон, видите, три дерева остались!
– А что ж так, Петр Петрович? Мы тут с Михаилом Сергеевичем в цирке у Никулина были, зашли заодно на Центральный рынок. Не видел я там никаких моченых яблок…
– Из-под прилавка торгуют, – серьезно ответил Суровцев.
– Почему из-под прилавка? – удивился секретарь ЦК.
– Боятся.
– Чего?
– Что неправильно поймут и накажут. Моченые яблоки – лучшая закуска под водку.
Два партийных супротивника несколько мгновений смотрели друг другу в глаза, а потом снова рассмеялись: центровой – злопамятно, местный – дерзко. В этом вопросе Колобков был на стороне Пе-Пе. Ну что за дурацкий антиалкогольный указ? Вытрезвитель на одной шестой части суши затеяли. Зачем? Народ злить, казну пустошить да самогонщиков плодить? Вон в Грузии виноградники вырубили, а один директор совхоза с горя застрелился.
– Надо возрождать традиции! – веско произнес Волков, имея в виду антоновку.
– И я так думаю! – кивнул Суровцев, подразумевая питие на Руси.
– Я про яблоки.
– А-а…
Сановные дядьки набычились, точно бабу не поделили. Власть ее зовут.
– Не получится, – встрял, чтобы разрядить обстановку, Колобков. – Место здесь проклятое. В 1919-м чекисты расстреляли монархическое подполье. И пошло-поехало: до 1952-го тут всех и кончали…
– И что вы предлагаете? – спросил московский чин.
– Предлагаю – монумент жертвам террора.
– Дельная мысль!
– Может, и Николаю Кровавому памятничек поставим? – поинтересовался Суровцев.
– Может, и поставим! – строго, явно мстя за моченые яблоки, ответил Волков. – Отвыкать надо, Петр Петрович, от красно-белого мышления. Не те времена!
Местный владыка промолчал, играя желваками. Большая политика делалась в столице, там решали, кому ставить памятники, а кого, наоборот, вымарывать из учебников. Спорить бесполезно. Партийная дисциплина. Не согласен? Дослужись до Москвы, сядь в Кремле и вытворяй свою историю, пока тебя товарищи по партии не сковырнут и на казенной даче не закроют.
Волков поблагодарил за экскурсию и уехал, а вскоре Илью вызвали в отдел агитации и пропаганды обкома и предложили место инструктора, пообещав телефон в коммуналку немедленно, через год – однокомнатную квартиру в новом доме, а если женится – «двушку». «Вы меня с кем-то путаете!» – удивился музейщик. «Не путаем. Москва велела привлекать на партийную работу научную интеллигенцию со свежими взглядами…» Вот оно как!
– У меня свежий взгляд? – спросил Илья, невинно моргая.
– Диетический, – кивнул Скорятин и ехидно поинтересовался: – А в партию они вас принять не пообещали?
– Так в том-то и петрушка – я же член со стажем.
– В музее вступил? Разнарядку дали? – сомнительно усмехнулся Гена.
– Ага, дали, догнали и еще добавили! Музей – не завод скорострельных сеялок и самонаводящихся веялок. Я в армии сподобился. У нас часть была – раздолбай на раздолбае. Ротный – мужик хороший, но лютый алкаш, личным составом не занимался, только личной жизнью: жену из-под прапорщиков вытаскивал. А у замполита план: застрелись, а одного бойца-срочника прими. Я по всем пунктам подходил. В самоволку бегал, но не попадался. Водку пил, но сапоги с бодуна задом наперед не надевал. Дочек офицерских клеил, но интеллигентно, без последствий. Только по согласию.
– Ого!
– Были и мы рысаками! Стрелял я тоже прилично – не мимо мишени. А про козни американской военщины на политзанятиях так пел, что самому страшно делалось. Вот он и пристал: вступи да вступи. Но я же не дурак, спрашиваю: «На дембель первой партией отправите?» «Отправлю, честное партийное. Пиши заявление!» Обманул, подлец: я ему ленкомнату до Дня конституции оформлял. Рисую звезды и ною: «За что, товарищ капитан?» А он мне: «Ты теперь молодой коммунист, работай – солнце еще высоко!» Домой вернулся, когда сугробы лежали…
– А как в Тихославле очутился?
– Сослали. Я фестиваль бардовской песни затеял. «Солнышко лесное». Ребята хорошие, но подрались из-за девчонок, одному почки отбили, до реанимации еле довезли. Пе-Пе только этого и ждал, вызвал и нахлобучил. Но я теперь даже рад…
– Почему?
– Ты города не видел! Но есть и другие причины… – Он усмехнулся в битловские усы.
– А как он вообще-то, Суровцев? – осторожно приступил к делу Скорятин.
– Крепкий руководитель с большим опытом! – ненастоящим голосом сообщил Илья, покосился на внимательную спину водителя и забарабанил пальцами по велюру сиденья, мол: «Осторожно, здесь стучат!»
Потом Колобков со старательным восторгом исполнил величальную песнь первому секретарю: мол, Петр Петрович – настоящий отец области, всё у него на карандаше, всё на примете, всё в горсти. Выслушает на бюро обкома рапорт об успешном завершении уборочной и закладке урожая на зиму, возьмет у военных вертолет, облетит угодья, заметит в поле припорошенный холмик картошки, и – бац, без разговоров, по «строгачу» председателю колхоза да секретарю парткома за вранье. С прежних, жестоких времен у Пе-Пе осталась привычка, позаимствованная, говорят, у железного латыша Пельше: когда подчиненный вставал для доклада, Петр Петрович участливо спрашивал: «А партбилет у вас, товарищ, с собой?» От этой участливости холодел мозг и предынфарктно сжималось сердце. Впрочем, себя Суровцев тоже не щадил. Пообещал на партактиве, что через три года горожанам не придется ездить в Москву за мясом и колбасой. Да, для этого надо построить мощный комплекс – птицефабрику и свиноферму.
Косыгин любил Суровцева и помог выбить из Госплана бюджетную строку, а из Госстроя – фондированные материалы. Выбили, вышли на землю. Каждую неделю Пе-Пе объезжал стройки, во все влезал, следил, чтобы не бодяжили бетон, ощупывал каждую балку, лазил на перекрытия. Кур, несущихся, как пулеметы, за валюту по особому решению Политбюро закупили в Голландии, а хрюшек размером с бегемотов – в Германии. Через четыре года на прилавках появились мясо, птица, яйца… Но авральное изобилие продержалось недолго. Сначала потянулись нахлебники из соседних областей, потом в столице очухались и половину продукции стали забирать себе. В довершение бед на кур напал грипп, и за неделю все до одной передохли, а свиньи, едва прекратился завоз импортных кормов, отощали. Суровцев от огорчения рухнул с инфарктом, но откачали.
– Любит его народ? – спросил Скорятин.
– Любит, – не оборачиваясь, ответил за Колобкова водитель.
– Николай Иванович у нас патриот! – сообщил с тонкой улыбкой Илья.
– А вы, стало быть, не патриот? – подъязвил шофер и оглянулся.
Гена наконец его рассмотрел: хороший трудовой облик, волевой подбородок, умные глаза, добрые морщины, седая щетинка усов. Ну, точно – мастер-наставник с плаката «Молодому порыву – опыт отцов!» Только нос жестоко перебит и вдавлен, из-за чего недовольное сопение превращалось у шофера в похрапывание.
– А вот и наш Китеж! – вскрикнул бывший экскурсовод. – Впечатлительных прошу принять валидол!
На фоне эмалевого неба, как на картинке, возник город, спускавшийся с холмов к Волге. Скорятин обомлел. Он вволю поколесил по матушке Совдепии (при Танкисте – добывая духоподъемные, а при Исидоре – выискивая подлые факты жизни), но никогда еще не видел такого обилия храмов в отдельно взятом городе. Золотые, зеленые и звездно-голубые купола, покоящиеся на белых плечах закомар или на тонких, как шеи, барабанах, застили небо. Церкви гурьбой спускались к плесу. Один белый храм с витой многоцветной маковкой вынесся впереди других и застыл на тонкой песчаной стрелке, разделявшей, как объяснил Илья, Волгу с речкой Тихой.
– Как же это все сохранилось-то?! – ахнул Гена.
Он привык к обглоданным кирпичным остовам, к заросшим кучам щебня вместо кафедральных соборов, к дощатым закромам в уцелевших приделах, к кумачовой клубной суете на амвоне, – к лицедейской сцене на месте алтаря, как у них в университете.
– Загадка истории! – усмехнулся Колобков.
– Никакая не загадка, – объяснил Николай Иванович, сопя, – комиссарил тут свой, местный, – Сапронов. Когда народ разгулялся, приструнил, а потом сами утихли. Простые-то долго не озоруют, коль грамотные не подначивают.
– Ну, не так все просто, – возразил Илья. – Сапронова самого чуть не шлепнули. Но Сталин в обиду не дал, они вместе под Царицыном воевали. Наш чуть что не так – к нему. До самого Хрущева и руководил. Закончил директором краеведческого музея. Он, кстати, и раскопал детинец…
Экскурсовод указал на самый высокий городской холм. На вершине виднелся обломок стены, похожий на гнилой зуб с выеденной кариесом середкой.
– Считают, четырнадцатый век. Изяслав Тихий строил. Но фундамент гораздо древнее.
– Домонгольский? – со знанием уточнил Гена.
– Дорюриковский.
– А кто здесь был до Рюрика?
– Святогор. Город стоял на острове. Помнишь, «мимо острова Буяна, в царство славного Салтана…»
– А море где?
– Выпили, – буркнул водитель.
– Ха-ха! Не море, а Русский Океан. Схлынул. Остались только реки. Ока… Океан. Улавливаешь, откуда название?
– Улавливаю… – вздохнул Скорятин. – И еще осталась Клязьма. Называется так, потому что воды в ней, как в клизме.
– Прямо сейчас придумал?
– Угу.
В «Мымре» штабелями лежали трактаты о том, что Россия – родина динозавров, старец Ной доплывал до Котельнической набережной и пил там крепкий мед под москворецкую стерлядку с князем Русом, а княжата Чех и Лях бегали в лес к бортникам за добавкой, когда не хватило.
Спецкор отвернулся и стал смотреть в окно: они въезжали в Тихославль, точнее – в большое село, ставшее окраиной города. Машина пробиралась мимо рубленых изб и покосившихся сараев, огородов с распяленными пугалами, мимо прудиков с утками, колодезных срубов с цепями, намотанными на ворот, мимо цветущих яблонь и вишен. Вдруг среди деревенского захолустья поднималась новенькая типовая школа, сложенная из серых блоков, или возникала стекляшка с гордой вывеской «Универмаг». Да и люди на разъезженных улицах попадались разные: на завалинке сидела старуха в пуховом платке и плюшевом жакете, а мимо вышагивал городской гражданин в костюме, галстуке, с портфелем или даже с кейсом. И только смешная капроновая шляпа выдавала его сельское простодушие.
Колобков молотил что-то про Царьград на месте Нижнего Новгорода и Святоград на месте Тихославля, про послеледниковый Океан, доходивший до Тамбова, а Гена вспоминал вчерашний день. Выпив в вагоне-ресторане, он курил в грохочущем тамбуре и мечтал, что, вернувшись, войдет к Исидору, посмотрит ему в глаза и скажет, как любила говаривать бабушка Марфуша: «Владей, Фаддей, моей Маланьей!» Тот начнет отнекиваться, стыдить за густопсовую ревность, врать про остаточную дружбу между мужчиной и женщиной. Скорятин внимательно выслушает и молвит: «Эх ты, бычок коктебельский!» Даст «главнюку» в морду и уволится.
– Геннадий Павлович, – донесся из селектора голос Ольги. – К вам Инна Викторовна.
– Пусть подождет! Я занят…
– Инна Викторовна торопятся!
– А я говорю с Ниццей! – соврал он и покраснел от ненависти.
Скорятин мог уесть Заходырку одним способом – подержать в приемной. Но недолго. Боже, откуда они только взялись, все эти гоп-стоп-менеджеры? Завелись точно моль в гардеробе. Неведомое семя, занесенное на Землю с инопланетных джунглей, где каждая былинка готова впиться и высосать через копчик твой спинной мозг. Какой-то новый класс-паразит… Паразитариат. Узнать паразитария легко: одет-обут модно и дорого, в руках новейший айфон, без него никуда, как монах без четок. В кабинете, за креслом, висят дипломы и сертификаты об окончании чуть ли не Кембриджа, а то и золотая дощечка «Человек года» по версии Всемирной академии управления (ВАУ). Паразитарий знает все и не умеет ничего, может только контролировать финансовые потоки, что в переводе на обыкновенный язык означает: воровать заработанное другими. Но главный, отличительный признак: они никогда не признают своих ошибок, промахов, а то и просто глупостей.
Когда готовились к 50-летию «Мымры», решили выпустить памятный значок, заказали эскиз – золотой глобус в серебряных ладонях, перечислили аванс Монетному двору. Оттуда в недоумении позвонили Заходырке:
– Вы забыли указать процент.
– Десять! – твердо ответила она.
– А не маловато будет? – удивились чеканщики.
– Пятнадцать! – еще тверже объявила Заходырка.
– Ну как знаете, пятнадцать так пятнадцать…
Ее-то спрашивали про размер изделия по отношению к эскизу, а она подумала, уточняют откат за размещение заказа. В результате значок вышел размером с мандавошку, и гостям юбилейного вечера его даже не показали, чтобы не позориться. Правда, среди собирателей микрофолеристики значок пользуется диким спросом. И что – повинилась она? Нет, разогнала весь пиар-отдел, чтобы за спиной не хихикали. Кстати, еще один верный признак паразитария – людей увольняют, как лишние файлы в корзину сбрасывают: клик – и нету.
А с приглашениями на тот же юбилей что вышло? Позорище! Гена хотел, как всегда, распределить конверты между сотрудниками, чтобы развезли по адресам и с поклонами отдали в надлежащие руки.
– Это каменный век! Просто смешно! – возмутилась, узнав, Заходырка. – Так теперь никто не работает.
– А как?
– Очень просто. Заключим договор с фирмой «Русский скороход». Они доставят приглашения от двери к двери.
Заключили. Но не заметили маленького примечания в контракте, а там черным по белому: «Корреспонденция доставляется только в помещения, не оборудованные кодовыми замками и не имеющие контрольно-пропускной системы». А где вы найдете офис без секьюрити или дом без кодового замка? Разве в какой-нибудь вьетнамской лавке или в разваливающейся пятиэтажке на краю Москвы. Даже здесь, на выселках, куда сволочь Кошмарик загнал газету, без пропуска в здание не войдешь и не выйдешь. В итоге вечером, накануне юбилея, в редакцию приехал курьер «Русского скорохода», смуглый таджик, и вывалил из мешка кучу недоставленных приглашений.
– Это что такое? – схватился за сердце Гена.
– Двэр закрыт! – ответил, улыбаясь, азиат.
Всю ночь, как гексогеновые злоумышленники, мымринцы сновали по Москве и окрестностям, звонили в спящие квартиры, подсовывали, страшась собак, конверты под ворота особняков, валялись в ногах у сонных офисных охранников, чтобы утром, не позже, те передали приглашения своим боссам. Фельетониста Бунтмана, заподозрив, взял наряд милиции, а когда он стал махать редакционным удостоверением, грозя связями в ФСБ и Европейском парламенте, ему сломали ребро и посадили в обезьянник, где бедняга и встретил юбилей газеты. Не любят у нас журналистов. Собрать удалось едва четверть зала театра Ленинского комсомола. Пришлось платить съемочной группе «Новостей», чтобы не давали панораму пустых кресел, а выхватывали те места, где кучно сидели невыспавшиеся сотрудники «Мымры», кемаря под капустные куплеты «Ленкома»:
Ты меня на рассвете разбудишь,
Чтоб заняться, как водится, этим,
Но тотчас про меня позабудешь,
«Мир и мы» на подушке заметив…
Императрица эстрады Элла Злыдённая, похожая после дюжины пластических операций на пожилую куклу Барби, отказалась петь перед пустым залом: «Я стадионы собираю! Пошли вы на х!..» Однако аванс не вернула. Телеведущий Вован Пургант, приглашенный за бешеные деньги, пошутил: в зале столько свободных мест оттого, что в «Ленком» нельзя достать билеты, долго гоготал над своей шуткой, надеясь на отзыв публики, не дождался и отбыл в ночной эфир – смешить перед сном население. Приехал поздравлять министр печати, похожий на вороватого советского снабженца. Огласив с днепропетровским выговором приветствие премьера и презрительно бросив Гене: «Мелко плаваете!», прямо из театра улетел бить китов: новая мода у богатых. Главный редактор готов был провалиться сквозь землю. Фуршетное изобилие пропало, остались даже устрицы, которые для «випов» прислал из Ниццы Кошмарик. Воспользовавшись излишками алкоголя, огорченная редакция набралась так, что ближайший номер пришлось пропустить «по техническим причинам». Одним словом, позор! И что? Заходырка смутилась, извинилась, исправилась? Ничуть. Наоборот, вела себя так, будто никакого отношения к катастрофе не имела, да еще настучала боссу, будто именно Скорятин провалил юбилей. Кажется, после этого его и лишили прямого телефонного доступа к хозяйскому уху. Невыразимая сука!
– Оля, пригласите, пожалуйста, Инну Викторовну! – ласково молвил он в селектор.
И она вошла. Странная все-таки баба! Красивая, бледная, под больными глазами серые тени. Бесцветные волосы тщательно уложены. Нездоровая худоба затянута в черный брючный костюм от Армани. И, как вызов здравому смыслу, два силиконовых полумяча, выпирающие из белой ажурной блузки. Говорят, Кошмарик заметил ее на каком-то инвестиционном форуме и по обыкновению уложил в койку. Леня славился шкодливой озабоченностью и, когда преподавал в МГУ, получил выговор за совращение абитуриентки. Впрочем, еще неизвестно, кто кого в постель затащил. Утром он признался начальнику охраны:
– Такого у меня еще не было. Веришь, просто выела!
И взял умелицу в команду. Все знали, что в минуты принятия важных решений Кошмарик возбуждается и вызывает кого-нибудь в кабинет для успокоения нервов. Заходырка ходила к нему чаще других. Когда, нашкодив с пенсионным фондом «Честная старость», он ударился в бега, она поначалу уехала с ним, но потом вернулась с полномочиями гендиректора «Мымры», время от времени летала на Лазурку за инструкциями, которые нельзя доверить ни бумаге, ни телефону, ни электронной почте. В последний раз была у него две недели назад и привезла компромат на Дронова. Скорятин почитал: ничего особенного, все как у прочей притронной челяди. Ну, вилла на Капферра, появившаяся сразу после того, как в Верховном суде развалилось дело об исчезновении двух миллиардов бюджетных денег в корпорации «Моноплан». Ну, взятки от кандидатов в губернаторы за теплые рекомендации на высшем уровне. На аппаратном жаргоне такая взятка называлась «кульком». А проигрыш в Монако двухсот тысяч евро и вообще к делу не относился, добавлен так, для колорита. В общем, ничего особенного за Дроновым не водилось. Но теперь, когда он повис на нитке, когда любая мелочь может стоить ему места, Кошмарик решил сквитаться за давние обиды и передал с Заходыркой приказ: «Мочить!»
– Здравствуйте, Геннадий Павлович!
– Здравствуйте, Инна Викторовна! – Он очнулся, привстал в кресле, но из-за стола не вышел.
– Неважно выглядите! – Она села, передернула плечами, упорядочивая новую грудь, положила перед собой «планшет» и посмотрела на главреда глазами вампирши, глотнувшей вечор несвежей крови.
– Не выспался.
– Пейте на ночь пустырник.
– Попробую.
– Ну, вы подумали?
– Это невозможно! – гордо ответил Скорятин.
– Это неизбежно! Невозможно дальше терпеть такой раздутый штат. Необходима оптимизация. В редакции много стариков. Мы не хоспис. Им пора на пенсию. Возьмем молодежь. В Интернете полно предложений.
– Это не старики.
– А кто же?
– Это профессионалы высокого класса! Это легенды отечественной журналистики! – вскричал Гена и засмущался пафоса.
– Ну, да, сказки и легенды… Вы знаете, что Бунтман пишет от руки и не владеет компьютером?
– А вы читали, как он пишет? Он дважды «золотое перо» России!
– Хоть трижды. Пять человек надо уволить. Как минимум. Это решение Леонида Даниловича. Оно не обсуждается. Мы же обо всем с вами договорились!
– Ни о чем мы не договаривались.
– Но вы же не возражали!
– Возражают на аргументы, а не на бред. Ваша компьютерная молодежь не умеет писать. Девица, которую вы мне прислали, даже не догадывается, что существует двоеточие, и уверена, что Пушкина убил граф Монте-Кристо.
– Почему?
– Потому что до тюрьмы его звали Эдмон Дантес.
– Кого?
– Монте-Кристо.
– Она даже это знает? Видите, какая начитанная девочка!
– Вы издеваетесь?
– Геннадий Павлович, вернитесь в жизнь, очень прошу вас! Тем, кто не умеет читать, умеющие писать не нужны. Достаточно картинок с подписями.
– Будем растить нацию дебилов?
– Будем просвещать уже выращенных дебилов.
– Я позвоню Леониду Даниловичу.
– А сейчас вы кому звонили?
– Я… я по другому вопросу…
– Разве Леонид Данилович не напомнил вам об оптимизации? Странно! – усмехнулась она. – Кстати, и с Дормидошиным надо решать: ночует в редакции, спит на столе, носки стирает в туалете, сушит на батарее. Бомжатник!
– Он разошелся с женой. Ему негде жить.
– Я тоже развелась, но я же не сплю на столе!
«Зато ты на столе е…ся!» – подумал Гена, вспомнив сплетню, гулявшую по банку «Щедрость».
Дело было так: собрали совещание гоп-стоп-менеджеров по кредитованию. Но секретарша не пускает, томит в приемной. Наконец из кабинета вышла Инна и, прикрывая платочком разъехавшуюся на губах помаду, скрылась в дамской комнате. Все зашли, расселись, Кошмарик стал жужжать про кредитные ставки и плохую работу группы коллекторов, проще говоря, выбивальщиков долгов. Но никто не слушает, все уставились в одну точку и кривенько так улыбаются. Босс тоже заметил на полировке стола отчетливый отпечаток, оставленный потными женскими ягодицами.
Немая сцена.
– Жопы никогда не видели! – заорал Кошмарик. – Вы лучше посмотрите график роста бытовых кредитов. Разве это рост? Вот это жопа настоящая!
– О чем вы задумались? – подозрительно спросила Заходырка, словно угадав ход его мыслей.
– О том, какой след мы оставим в истории.
– Никакого. Когда начнем увольнять?
– Так сразу нельзя…
– Тогда будут задержки по зарплате. Денег нет. Разве Леонид Данилович вас не предупредил?
– Предупредил. Но, может быть, лучше экономить на устрицах и значках, чем на людях?
– Позвольте мне как гендиректору заботиться об имидже газеты.
– Имидж – это когда над нами смеются?
– Подумайте лучше о себе! Кстати, я приняла решение: мы ликвидируем отдел распространения. Аутсорсинг дешевле.
– Аут… простите… что? – съёрничал Скорятин.
– Аутсорсинг. Теперь газету будет распространять специальная фирма «Прессглобалсервис».
– Что-то вроде «Русского скорохода»? – невинно уточнил Гена.
– Напрасно вы это! – Ее бледное лицо пошло красными пятнами. – Я не позволю превращать мою газету в свалку совковой рухляди!
– Это не ваша газета!
– Моя! Кстати, что со статьей?
– В работе…
– Она должна выйти в этом номере.
– Решение о публикации материалов принимает главный редактор.
– Вот и примите!
– Думаю, еще не время.
– А я думаю, как раз время!
– Вы как генеральный директор лучше думайте о том, чтобы в туалете была бумага.
– Не хватает?
– Не хватает.
– Вот и увольте пять задниц – сразу хватит.
– Пять включая меня? – с угрозой уточнил Скорятин.
– Включая вас – шесть! – усмехнулась Заходырка.
– А может, лучше сэкономить на зарплате генерального директора? – во весь рот улыбнулся Гена. – У вас какая зарплата?
– Это коммерческая тайна.
– В редакции нет ни коммерческих, ни постельных тайн. Вы себе платите столько, сколько получают как раз пять журналистов.
– Да, люди, как и вещи, стоят по-разному. Все зависит от того, насколько полезен сотрудник. Есть дорогие. Есть дешевые. А кого-то надо выбросить, чтобы место не занимали.
– А в чем же ваша польза, Инна Викторовна? Вы-то чего хорошего нам сделали? Наштамповали значков размером с бледную спирохету?
– А ваша в чем польза? «Джинсу» за нал в номер ставить и водителя держать у подъезда любовницы? Куда вы отправили его сегодня?
– Материал визировать.
– Проверю!
– Проверьте! А что касается подъездов и любовниц – виноват, простите, не приучен… на рабочем месте пялиться!
– Что-о-о? Разговор окончен! – она встала так резко, что силиконовые мячи подпрыгнули, едва не ткнувшись в подбородок. – Напоминаю, статью – в номер. В понедельник – список на увольнение.
– А я напоминаю, что в туалете нет бумаги!
Она вышла, грохнув дверью. Скорятин остался сидеть, обхватив голову руками. Гена понимал, что совершил чудовищную глупость. На повышенных тонах они говорили давно, но это было вроде спортивного фехтования, когда на остриях шпаг навинчены шарики. Сегодня пошла настоящая рубка, в кровь, в лапшу, в азу по-татарски. Правда, первой начала она: «С вами – шесть!» Лярва настольная! Но и сам он тоже хорош, конспиратор! Мастер выездного секса. На ее особые отношения с хозяином намекать не следовало ни в коем случае. Есть слова, меняющие, даже ломающие жизнь. Сказал – и назад не вернешь. Прав был незабвенный тесть: «Уши женщины не вынесут и половины из того, на что способны ее чресла!» Теперь Заходырка – окончательный враг.
Но почему она требует уволить сразу пятерых сотрудников? Конечно, штат подраздут, Кошмарик дает на газету все меньше: наигрался – да и денег жалко. Раньше, как все олигархи, он сосал бюджет и, как все гении первичного накопления, скукожился, едва его оторвали от груди волчицы-кормилицы. Только у нас в Отечестве можно тырить из казны, слегка делясь с начальством, и считаться капитаном большого бизнеса. Кроме того, в Ницце он спутался с несовершеннолетней и заплатил дикие отступные, чтобы не загреметь в тюрьму. Это тебе опять же не Россия-матушка: сунул штуку «евриков» участковому – и блуди хоть с грудным младенцем! Конечно, увольнять все равно придется, но постепенно, не раздражая коллектив. Это как на расстреле: каждый до последнего верит, что на нем кончатся патроны или подоспеет помилование. Зачем сразу пятерых? Круто даже по нынешним бесчеловечным временам!
Гена какой-то боковой линией (а такая есть не только у рыб, но и у всякого успешного человека) почувствовал: творится непонятное. Почему хозяин торопит с «Клептократией», если пошли слухи, что Дронов может отбиться? Недавно на самом верху ему устроили выволочку, но исполнение приговора отложили. Так принято. Оттуда, с державного высокогорья, сразу не скидывают, большой чиновник заслужил право потомиться в ожидании падения, гадая, куда грохнется: в посольство, госкорпорацию или – самое страшное – на собственную виллу с павлинами. А Дронов заслуженный. Он придумал гениальную вещь – виртуальную либерализацию России. Его призвали «в голубые ели» из Академии, где он осваивал научные сокровища – особняки в центре Москвы. В ту пору стало окончательно ясно: в России мечтательная демократия, ради которой раскурочили страну в 1991-м и добили в 1993-м, невозможна в принципе. Это что-то вроде бабской грезы об идеальном муже, красивом, умном, любвемобильном, богатом и в то же время верном и моющем за собой посуду. Таких нет в природе, а державу после самопогрома надо восстанавливать. Ракетный крейсер не может долго служить плавучим борделем: или утонет, проржавев, или снова наладится пострелять.
А как, как восстановишь, если «западнюги» отпраздновали победу в холодной войне и бдительно ждут, когда это географическое недоразумение от Бреста до Курил рассосется в борьбе за общечеловеческие ценности? Чтобы заокеанцы не толкали под руку, не совали нос в ВПК, не терзали правозащитной чесоткой, нужно было изобразить мучительное торжество либерализма на снежных просторах России. Очень похоже на голливудскую уловку при ограблении банка: злоумышленники вставляют специальный чип – и на мониторах охрана видит спокойную картинку, а не то, что на самом деле происходит в сейфе размером с вагонное депо. Между тем радостные налетчики набивают спортивные сумки зелеными брикетами – кирпичиками, из которых сложен нынешний мир.
Дронов организовал такую же картинку. Договорился с либералами, которых знал еще по баррикадам 1991-го: вам вершки, а нам корешки. Вы говорите все, что взбредет, а мы делаем все, что считаем нужным. Вы нас клеймите, а мы киваем. Вы нас западными ценностями по башке – а мы вам гранты и цацки за заслуги перед Отечеством всех степеней. Лады? Лады! И пошло-поехало: из телевизора разило чесночной остротой, а в армии снова учились ходить в ногу. За умение морочить граждан вроде заправского иллюзиониста Дронова и прозвали «Кио».
Однажды он пригласил к себе за Стену Скорятина: любил поговорить с думающим классом, спросить, что читают, о чем спорят, какие планы вынашивают. Вроде факультетского «Скалозуба»…
– Как, вы не читали роман Натана Дубовицкого? Напрасно. Хорошая литература – тонкий сейсмограф социальных землетрясений. Политология – позапрошлый век. Они сыпят горох на барабан и смотрят: подпрыгивает или не подпрыгивает. А вот литература… Вы читали Эпронова?
– Некогда, Игорь Вадимович, читать. Выживаем…
– А как же Корчмарик, разве не помогает?
В ответ Гена закатил глаза, как бы стесняясь говорить о домашних кошмарах «Мымры», и запел про кризис, подорожание полиграфических услуг, натиск Интернета на бумажные издания и робко попросил казенной помощи. Кио сразу заскучал, неопределенно кивнул, что-то чиркнул на листочке и посочувствовал, что еженедельник лишился своего золотого пера – Варвары Дорошенко. Дронов встал, извлек из холодильника, таившегося за портьерой, ледяную водку «Альфа-вита», и они помянули погибшую, закусив китайскими корнишонами размером с фасоль.
– Смелая была баба!
– Очень! – подтвердил Гена.
Варвара прославилась еще во время первой кавказской войны, когда кочевала по лагерям боевиков и писала лихие репортажи о «бородатых джигитах свободы», восставших против злой северной империи. На Кавказе ее принимали с радостью. Особенно она любила погостить у полевого командира Максуда Дусарова, у них даже закрутился роман. Заводной журналистке явно не хватало жесткой мужской ласки, а супруг ей попался странный, с балетным уклоном. Скорятин тоже однажды оскоромился: после редакционной вечеринки поехал куда-то с Варварой, а наутро болело все тело, будто переночевал в стремнине. Наверное, в диких объятьях Дусарова Варя нашла свою утеху. Женщиной она была дурной, но отзывчивой. Когда Касимов подорвался на растяжке и попал, обезноженный, к «чехам», она упросила Дусарова отдать умиравшего от потери крови журналиста федералам. И тот отдал. После замирения с гяурами Максуд спустился с гор, сдал оружие, сделался не последним человеком на равнине, женился на юной солистке ансамбля «Горянка» и попросил Варвару больше не беспокоить. Она жутко обиделась, выступила по телевидению и заявила, что пришло время рассказать, кто именно в Кремле крышевал сепаратистов и слил генерала Головача, бесследно сгинувшего в горах. Нашли только его нижнюю челюсть с железной коронкой. Говорят, Дусаров играл на бильярде, когда увидел в телевизоре свою полевую подругу. Он грустно покачал головой, поцокал языком и покрутил пальцем у лба, мол, совсем спятила от недосыпа. Через неделю Варю нашли на подземной парковке с двумя пулями в голове…
– Что-то вы, Геннадий Павлович, совсем писать перестали, – Кио посмотрел с хитрым прищуром. – Раньше-то я вами зачитывался…
У Дронова были чуть раскосые, нерусские глаза.
– Некогда, Игорь Вадимович, – вздохнул Скорятин. – Главный редактор, как дирижер. Нельзя оркестром управлять и при этом играть на инструменте.
– А я однажды, кажется, в Венской опере видел, как дирижер достал из-под пюпитра скрипку и заиграл. И вы нас иногда балуйте! Если что-нибудь напишете, сразу мне сбросьте… – Он протянул карточку. – На «емельку». Планшет всегда со мной. Знаете, люблю заранее почитать. Мама моя корректором в «Комсомолке» работала и всегда, если готовилось что-то сенсационное, мне гранки приносила. Удивительное ощущение! Держишь в руках, допустим, статью про летающую тарелку и знаешь: вся страна прочтет об этом только завтра, а ты – сегодня! Побалуйте как-нибудь аппаратного сверчка! – И Кио улыбнулся кукурузными зубами.
Поговаривали: его настоящим отцом был не унылый инженер Дронов, а молодой курдский коммунист, носивший в «Комсомолку» слабенькие национально-освободительные стихи и с налету перелюбивший немало зазевавшихся москвичек. Кажется, вернувшись на родину, он стал правой рукой Оджалана и сел вместе с ним пожизненно.
– Обязательно пришлю, – пообещал Гена.
– Кстати, если надо посоветоваться, не стесняйтесь – звоните! А если вашему «ниццианцу» какая-нибудь блажь в голову стукнет, не сочтите за труд, поделитесь. Подскажу…
– Всенепременно!
На том и расстались. Денег Дронов так и не дал.
Схема виртуальной либерализации какое-то время работала исправно. За Стеной радовались, Кио ходил по коридорам власти с утомленной улыбкой забисированного тенора. Однако затея была обречена с самого начала. Приближенный Исидором Скорятин хорошо изучил «наоборотников». Они относились ко всему, кроме самих себя, с истерической непримиримостью, как в анекдоте, который так любил незабвенный Веня Шаронов.
Утром к лорду-канцлеру входит дворецкий:
– Ваш вечерний отдых отменяется, сэр.
– Почему же, мой добрый Патрик?
– Центральный лондонский бордель бастует, сэр.
– А в чем дело, Патрик? Девочек плохо кормят?
– Нет, они получают блюда из лучших ресторанов, сэр.
– Возможно, они недовольны своим гардеробом?
– Им присылают новинки от парижских кутюрье, сэр!
– Может, они мало зарабатывают?
– Больше, чем я, сэр!
– Тогда почему же они бастуют, мой добрый Патрик?
– Бляди, сэр!
У «наоборотников» аллергия на государство. Их даже нельзя в этом винить, как бессмысленно упрекать человека за то, что у него от кошачьей шерсти текут сопли. Сделать с этой «аллергией» ничего нельзя, убивать по примеру Сталина – бесполезно. Размножатся. Из-за некоего генетического сбоя люди, презирающие свою страну, так же неистребимы, как алкоголики. Единственный способ – не допускать «наоборотников» к власти. Но как раз рулить страной они жаждут с той непреодолимой тягой, с какой тайный педофил мечтает дирижировать хором мальчиков.
Либеральная дымовая завеса сгустилась в тучи, налилась грозовым мраком, грянула уличными беспорядками, ябедами в «вашингтонский обком» и такими вот картинками в журналах. Гена посмотрел на обложку «Денди-ревю». Вроде бы ничего страшного – обычное зубоскальство. Но перед тем, как разнести в клочья СССР, тоже митинговали, строились в «живое кольцо», издевались над «бровеносцем» Брежневым, вопили: «Так жить нельзя!» А потом все грохнулось… В общем, за Стеной напряглись. А кто виноват? Ясен хрен: Кио. Силовики потребовали: убрать! Вот тут-то Кошмарик и решил по случаю сквитаться с Дроновым, который вышиб банк «Щедрость» из кремлевского пула, освобождая место для друзей. Потому-то Заходырка и торопит с публикацией: босс хочет подыграть силовикам, чтобы получить послабление и вернуться в Россию – деньги-то кончаются. К тому же никакие силиконовые топ-модели, голышом ныряющие в море с авианосной яхты, не заменят остроты успешной политической интриги, когда ты вечером под рюмочку шепчешь что-то в державное ухо, а утром во всех газетах: «Сегодня на заседании Совета безопасности принято решение…» И огромная страна, кряхтя и скрипя, разворачивается, движимая дуновением твоего коньячного шепота.
…Скорятин щелкнул снеговика по рыжему замшевому носу и посмотрел в безмятежные глаза девушки, прислонившейся к березке.
– Нет, Ниночка, для Кошмарика слишком просто. Скорее, он задумал, как всегда, многоходовку. Если станет ясно, что Кио вывернулся, жуткая статья о нем в последний момент снимается из номера и отправляется Дронову вместе с приказом об увольнении главного редактора. Так султану прежде посылали в шелковом мешке голову оплошавшего визиря. Поверит кремлевский политтихоня или нет, не суть важно: главное – прогнуться и просигналить: «Я свой, я за вас!» И коллектив тоже обрадуется: хозяин покарал злодея, который чохом выгнал пятерых сотрудников. А если новый главный хотя бы одного из уволенных вернет – отличный старт для новой метлы: месяц только и будут говорить о доброте и человечности преемника.
Гена поморщился и решил позвонить Оковитому – своему человеку в администрации. Познакомились они лет десять назад в Карловых Варах. Пока голые жены лежали в целебной грязи и говорили о ничтожестве летней коллекции «Макс-Мары», мужчины шли к источникам, однако сворачивали в пивницу. По пути Оковитый, увлекавшийся курортной собственностью, указывал на отреставрированные отели и называл звонкие фамилии владельцев – олигархов, политиков, чиновников. Но чаще всех повторялось святое имя режиссера Хохолкова.
– Казимирыч, а это чей домишко? – простодушно спросил Скорятин, когда они миновали затейливый особняк с двумя каменными крестоносцами, подпиравшими фронтон.
– Этот? – вяло переспросил Оковитый.
– Этот.
– Без передачи?
– Могила!
– Мой.
В тот день, сплоченные общим секретом, они насосались пива с бехеровкой до скупого братского мычания и стали друзьями. Толик, сын Казимирыча, как раз закончил МГУ, и Гена взял его на работу. В отличие от отца, парень оказался на редкость тупым, природа на нем даже не отдохнула, а просто вырубилась. Писать он не умел, и зачем его понесло на журфак, никто не знал. Зато юноша говорил на трех языках – испанском, английском, чешском: в этих странах у папы имелась недвижимость. Толя промаялся в редакции год, играя на компьютере в покер, собирая цепочки из скрепок и склоняя к спортивному сексу практиканток, а также зрелых сотрудниц, утомленных постельной бесприютностью, которая обострялась во время корпоративных пирушек. Наконец папа пристроил его в ЮНЕСКО. Но дружба, точнее, взаимная заинтересованность не ослабла, продолжилась. Через «Мымру» Оковитый вбросил в народ пару компроматиков, понадобившихся ему в аппаратной борьбе, тихой и опасной, как забавы с ручным тарантулом. А Гена проверял через сановного приятеля слухи, которые окутывали Кремль, словно пикантные пересуды грешный дом.
– Привет, Казимирыч, это я… Жив?
– Полу… жив.
– А что так?
– Бумаг много. Знаешь, кто больше всех пишет?
– Писатели?
– Нет. Чекисты. Мы на втором месте. Писатели на третьем.
– Здорово сказал! Ну а как там наш Кио?
– Кто ж его поймет? Народный артист! – ответил Оковитый с той мягкой иронией, какая встречается лишь у чиновников и врачей-венерологов. – Вчера ходил как опущенный. Утром на совещании улыбался. А потом снова загрустил…
– Думаешь, отобьется?
– А что ты за него переживаешь? Он в порядке. Я тебе как-нибудь расскажу, что у него, где и почем.
– За себя я переживаю. Тут у нас про него сюжетик созрел.
– Не связывайся!
– Не моя идея – хозяйская.
– Не угомонился еще твой Хумберт-Хумберт?
– Как видишь.
– Понятно. По уму-то, не должен он отмазаться. При Сталине за такое просто расстреливали. Но теперь у нас гуманизм без берегов. Да и людей нет. Совсем нет, понимаешь?
– Еще бы! Второй год нормального ответсека не могу найти. Как Анатолий?
– Да ну его к лешему! На француженке женится.
– И хорошая девушка?
– Как тебе сказать… Я бы не отказался. Но не совсем она француженка. Темненькая. Помнишь, мы с тобой в Карлушах «крушовицей» баловались? Такого же вот цвета. Привет дедушке Ле Пену из колониального прошлого.
– Ну, это ничего, вот если бы как «черный козел»…
– Не успокаивай! Неизвестно еще, какие внуки вылезут.
– Слушай, а на тебе это… не отразится?
– Брось ты, отец за сына не отвечает. У наших тут дети хрен знает куда разъехались… Один даже в ЦРУ служит. И ничего. Говорю же, людей совсем нет. Ладно, если что узнаю, сразу отзвоню.
– Спасибо!
– Маринка пьет?
– Пьет.
– Береги ее! Пьющая жена – залог свободы.
Скорятин положил трубку, поглядел на все еще праздный шестой гвоздик и вздохнул. С надежными, исполнительными людьми в самом деле вышла засада. В 1990-е самые энергичные и смышленые ломанули в бизнес, где за пару лет можно было омиллиониться, если есть связи или наглость, а лучше – то и другое вместе. При рычагах остались косорукие романтики с баррикад да еще те, кто умел брать взятки и откаты. Жулье. Но не это самое печальное. Когда, радея о державе, подворовывают, не беда: дело, как говорил Карлсон, житейское. Беда в другом: при пьяном ЕБНе – вышибли всех, кому Держава была хоть чуточку дороже мамоны, турнули всех, кто обладал государственной завитушкой в мозгах. Отовсюду, как навозники на свежую лепешку, набежали «наоборотники». Их даже не хватало, как в 1917-м расседланных местечковых буянов. Из-за границы выписывали. Самолетами из Америки в Москву на работу летали. Срочно требовались ломатели и крушители. Особая склонность! Гена еще в раннем отцовстве, водя Борьку на ребячью площадку, заметил: дети делятся на две разновидности, первые, высунув язык, возводят в песочнице домики, а вторые норовят, улучив момент, разрушить. Одни потом на руинах плачут от горя, а другие хохочут от восторга. Есть еще и третьи: сосут палец и млеют от своего мудрого невмешательства.
В 1990-е понадобились ломатели. Ведь только они могли быстро и весело развалить совок до основания, не задумываясь, не жалея. Как бабушка Марфуша-то говорила? «Кто комель тешет, кто удаль тешит». Снесли. А дальше? Дальше – надо строить. На обломках не поцарствуешь. Снова понадобились нормальные, тщательные люди, выросшие из тех детей, что усердствуют в песочницах. Но мало быть просто нормальным. Хорошего чиновника без государственной завитушки не бывает, как не бывает скрипача без слуха, боксера без удара, а писателя без слова. Впрочем, последнее теперь вовсе не обязательно, пишут романы как чешутся. А с завитушкой – надо искать, взращивать, лелеять, точно дедушка Мичурин яблочки со вкусом ананаса. Но поздно, поздно… Где-то написано, что в русской армии был такой обычай: если полк шел в последний бой, в тылу оставляли от каждой роты одного офицера, двух унтеров и десять рядовых – на развод, чтобы из новобранцев, деревенских увальней, вырастить новый полк с прежними традициями и геройством. Похоже, в 1991-м на развод или совсем не оставили, или очень уж мало…
Скорятин вспомнил, как Исидор с пылающим лицом вошел в кабинет, где, томясь, дожидался коллектив, собранный для сверхважного сообщения. После победы над гэкачепистами главных редакторов правильных газет собрал у себя Яковлев. Видно, они там не только совещались, но и отмечали триумф демократии. Шабельский был элегантно нетрезв и трогательно счастлив. Он обвел присных влажным отеческим взором и улыбнулся:
– Господа, поздравляю – Пуго застрелился!
Народ почему-то захлопал, а Веня Шаронов выкрикнул экспромт:
Пуго от испуга Скушало друг друга!
Все захохотали. Скорятин тоже смеялся. Но, хихикая, он удивлялся не тому, что покончил с собой суровый латыш – министр внутренних дел, на которого очень рассчитывали и красно-коричневые, и все нормальные люди, уставшие от горбачевских виньеток. Гену поразило другое – небывалое прежде обращение «господа». Еще вчера все они были товарищами.
– Шампанское! – крикнул Исидор.
Распахнулись двери, и черно-белые официанты внесли подносы с шипучими бокалами.
– Ура, до дна за нашу и вашу свободу!
Именно в тот вечер спецкор впервые ощутил себя Штирлицем, потерявшим связь с «большой землей», которая куда-то вдруг исчезла, спряталась за Уралом или, еще хуже, провалилась, как Атлантида. Он зарыл в саду передатчик, сжег шифры и стал забывать русский язык. Но порой, если какой-нибудь одноглазый Айсман слишком громко кричал «Хайль Гитлер!», Юстасу очень хотелось взять бутылку шнапса и разбить о лысую голову врага. А иногда он пёк в камине картошку и тихо пел, полузакрыв глаза: «среди долины ровныя…»
…Зазвонил мобильный.
– Ну, Палыч, у тебя нюх, как у сеттера! – хохотнул Оковитый.
– Что такое?
– Кио вызвали наверх.
– На самый?
– Да. Теперь или грудь в крестах, или голова в кустах. Перезвоню.
– Спасибо. Очень жду! С меня – сам знаешь…
– Сказал: перезвоню.
Скорятин взял в руки фотографию и с тоской посмотрел на белокурую девушку в сером берете.
– Да, Ниночка, это тебе не Тихославль!
– А вот и наша библиотека, – Колобков широко взмахнул рукой, точно показывал бескрайние поля маркиза Карабаса.
«Волга» остановилась возле желтого трехколонного особняка, почти скрытого сиренью, навалившейся на старинную ограду. Сквозь кованый ажур ворот виднелся безводный мраморный фонтан с безносой наядой, а дальше начинался цветущий сад. Они вышли из машины. Скорятин размял ноги и огляделся: мощенная крупным булыжником улица спускалась к солнечной реке. По обеим сторонам стояли двухэтажные купеческие дома – кирпичный низ, бревенчатый верх. За белыми купами яблонь поднималась пятиглавая церковь с уступчатой колокольней. Барабаны под куполами были тонкими, как ребячьи шейки. Высунув морды из-под могучих рассохшихся ворот, тявкали собаки, взволнованные шумом автомобиля. Возле низких подзаборных лавок бродили взыскующе куры и сосредоточенно рылись в шелухе подсолнуха.
– Вы чувствуете дыхание истории? – спросил Колобков.
– По-моему, история остановилась здесь лет сто назад.
– О, как вы не правы!
– Может, сначала лучше в гостиницу?
– И гостиница тоже здесь. Пойдемте!
За особняком, в саду, затаился флигель. Илья, владевший уникальным даром выбалтывать максимум информации в минимум времени, успел, пока шли от ворот к домику, сообщить, что прежде тут жила директор библиотеки Елизавета Михайловна с детьми. Дальше под нарастающее сопение водителя он поведал о квартире, которую год назад дали ей в новом доме, прозванном в народе «осетром», то ли за длину, то ли за балконы, напоминающие костяные бляшки на рыбьем теле. А может, и с намеком на недоступность такого жилья простым смертным.
– Можно сказать, ради нее дом-то и построили.
– В каком смысле? – сделал стойку спецкор.
– К-х-х-е, – кашлянул шофер.
– Пошутил, пошутил. Не бери в голову! – Колобков подмигнул москвичу. – Освежись и приходи. Николай Иванович, миленький, подсоби! Ты лучше знаешь, что здесь и как! А я побегу – мне надо один вопросик срочный порешать.
И бывший музейщик, трепеща и шевеля ноздрями, как юный конь, взбежал по ступенями и скрылся за колоннами.
Водитель по гравиевой дорожке провел гостя во флигель, состоявший из двух комнаток, кухни и удобств, пристроенных, по всему, недавно. От прежней непритязательности в саду остался покосившийся дощатый нужник, но тропа к нему успела зарасти молодой зубчатой крапивой. Да еще к яблоневому стволу был прибит медный рукомойник, вероятно подернутый внутри паутиной.
– Дверь отперта. Там все есть. Разберетесь. Я тут на скамейке подожду, – строго объявил Николай Иванович, усаживаясь.
– А почему Илья сказал, что «осетра» ради Елизаветы Михайловны строили? – спросил Гена.
– Мало ли болтают, – нахмурился шофер, достал из кармана «Правду» и закрылся развернутой газетой, где на первой полосе, под шапкой «Быть хозяином на земле!», Горбачев учил ускорению благоговеющих доярок. Затейливое родимое пятно с его лысины исчезло благодаря заботам ретушера.
…Комнаты флигеля еще сохранили следы чужой жизни: спаленку от гостиной отделяли веселые ситцевые занавески, на подоконниках стояли треснувшие горшки с геранью и столетником. Земля для доморощенной флоры была удобрена спитым чаем – так же делали и в семье Скорятиных. На стене висела дешевая репродукция осенней левитановской грусти. Дверной косяк ощерился зарубками с надписями: 3 года, 4 года, 5 лет… Отец в день рождения тоже ставил Гену затылком к притолоке и делал охотничьим ножом затеси.
– Сколько? – спрашивала мать.
– Пять сантиметров прибавил, жираф! Еще десять сантиметров – и можно в армию сдавать.
– Какая-ить, армия? Паренька в ремесленное не возьмут, – вздыхала бабушка Марфуша, по старинке называя ПТУ «ремесленным училищем».
– Да бросьте вы, мама!
– Хошь брось, а хошь подними!
Спор шел из-за довольно большой, с двухкопеечную монету бородавки, выросшей у ребенка на правой ладони, прямо посередке. Виновата была, без сомнений, серая пупырчатая жаба, жившая под крыльцом мальчикового корпуса в пионерском лагере «Дружба». В самом конце смены Гена с приятелем жестоко замучили бедную тварь, изошедшую перед кончиной мстительной слизью, от которой, как известно, и случаются бородавки. Теперь бабушка стенала, что мальчик не способен сжимать в руке молоток или напильник, а значит, не сможет заработать себе на хлеб. То, что ее внук во взрослой жизни может предаться иному – не рукомесленному делу, – старушке даже не заходило в голову. Родителям, кстати, тоже: обычное дело в простых русских семьях. Но странно завивается жизнь! Отец Гениного одноклассника, носившего трудную фамилию Верлиорский, ходил к Анне Марковне и требовал, чтобы сына освободили от уроков труда.
– Константин – скрипач, понимаете, музыкант! И молоток никогда в руках держать не будет. Зачем же зря тратить время? Он может получить травму, не совместимую с творчеством. Он должен держать в руках только скрипку и смычок!
Директриса понимающе кивала и предлагала будущему Ойстраху заняться вместе с девочками кройкой и шитьем. Отец гения оскорблялся, обещая дойти до министра, хлопал дверью. А ведь если бы Костя отхватил себе стамеской виртуозный мизинец, его жизнь сложилась бы не в пример счастливее. Учась в консерватории, Верлиорский, тихий глазастый паренек, зарезал неверную арфистку Эльзу (об этом писали в «Вечерке») и получил в руки кайло, сев на пятнадцать лет. От вышки спасла уважительная причина – ревность. А Гена Скорятин со своей непролетарской бородавкой стал знаменитым журналистом, золотым пером России. Странно кантует людей жизнь…
Умывшись, надев свежую сорочку, с интересом посмотрев на себя в зеркало и спрыснувшись модным одеколоном «One men show», московский гость взял диктофон, тот самый, крошечный, японский, и вышел в сад. Птицы, намолчавшись за зиму, орали как безумные. По белым и розовым ветвям ползали отяжелевшие пчелы. Сквозь серо-бурый наст прошлогодней листвы буйно пробивалась желтоголовая мать-и-мачеха. Николай Иванович сложил «Правду», вставил ее в карман и повел гостя в библиотеку.
– Что пишут? – светски спросил Гена.
– Разное. Говорильни много, а дела нет.
Они поднялись по парадной мраморной лестнице. В библиотеке царил немноголюдный покой, пахло сладкой книжной стариной, от нее хотелось грустить и сочинять стихи о невозможной любви. В нише тосковал гипсовый Александр Сергеевич, его облупленный африканский нос подновили масляными белилами. Порядок ощущался во всем: на крашеных стенах не было ни царапины, шторы свисали правильными складками, даже праздные медные шишечки у основания ступенек сияли, начищенные до блеска. У абонемента Гена увидел Илью. Тот стоял, опершись о высокую резную конторку, и говорил. Лицо его зарозовело и выражало нежный восторг. Но к кому обращался Колобков, высмотреть не получилось: между стопками книг, сданных читателями, мелькал лишь стянутый резинкой белокурый хвостик, он трясся, видимо, от смеха.
«Грамотно! – подумал спецкор. – Женщину сначала надо насмешить».
Заметив журналиста, агитатор вздохнул, нехотя отстал от конторки и, приняв у шофера гостя, как олимпийский огонь, повлек к начальству.
– Она? – попутно спросил Гена.
– Она… – вздохнул страдалец.
– Смеется?
– Смеется.
– Давно?
– Скоро год.
– Пора и в горизонталь.
– Это не то. Это серьезно…
Елизавета Михайловна Болотина оказалась полногрудой брюнеткой с красивым властным лицом и высокой президиумной прической: ради встречи с «золотым пером» руководящая дама, очевидно, побывала у парикмахера и принарядилась в темно-синий костюм-джерси. Она вышла из-за огромного дубового стола, доставшегося, наверное, от какого-нибудь предводителя уездного дворянства, и, жестко пожав москвичу руку, царственным жестом указала на стулья.
– Чай? Кофе? Есть растворимый. Настоящий. Финский.
– Кофе, – ответили в один голос оба гостя.
Болотина нажала кнопку селектора, точно такого же, как тот, что до сих пор мемориально сипит в кабинете главного редактора «Мымры».
…Скорятин ностальгически вздохнул: тогда всё везде было одинаковое: мебель, пишущие машинки, портреты и вымпелы на стенах, костюмы и платья на чиновниках. Он вспомнил: однажды, после закрытой распродажи, устроенной в ГУМе для членов Союза журналистов, сразу три сотрудника пришли в редакцию в одинаковых клетчатых пиджаках. «Чисто приютские!» – сказала бы бабушка Марфуша. Старушка очень радовалась перед смертью, что внуку все-таки свели электричеством бородавку, которую не брал чистотел.
– Зоенька, сделай нам три кофе, – строго попросила Болотина. – Финский. Знаешь, где баночка? И покрепче… Что?.. Нет, еще не сказала, но буду просить.
Гена осмотрелся: на старинной этажерке стоял редкий мраморный бюстик Пушкина с буйными бакенбардами, достигавшими плеч.
– Опекушин. Авторское повторение. Только у нас и в Москве, – гордо пояснила владычица библиотеки. – Ну что ж, давайте поговорим!
Однако тут зазвонил белый кнопочный телефон, и директриса поспешно ответила:
– Да, Петр Петрович, уже у меня… Как раз начинаем обсуждать сюжет… Обязательно проинформирую вас о результатах.
Положив трубку и со значением глянув на гостей, она заговорила о строительстве нового книгохранилища, фондированных материалах: кирпиче, перекрытиях и половой доске, которую выделили, но почему-то не довезли. Колобков пихнул спецкора в бок и показал глазами на большую обрамленную фотографию, висевшую сбоку от стола начальницы. Снимок был групповой: между колоннами стояли плечом к плечу Болотина и седоватый крепыш с курносым лицом, высоким зачесом и командной складкой между бровями.
– Пе-Пе… – шевельнул губами Илья.
Вокруг властной пары деликатно сплотились женщины разных возрастов, но объединяло их общее выражение усталой интеллигентности, характерное для библиотечных работниц. Скорятин незаметно кивнул и заинтересовался большим шкафом, различив сквозь стекло названия на корешках: «Декамерон», «Пером и шпагой», «Анжелика и король», «Мастер и Маргарита», «Последнее дело Мегрэ», «Проклятые короли», «Аэропорт», «Немного солнца в холодной воде»… Это были так называемые книги повышенного спроса, выдаваемые на руки только с разрешения директора.
– Да-да, у нас неплохие фонды. Областной коллектор не обижает, – объяснила Болотина, проследив взгляд гостя. – Так чем обязаны, Геннадий Павлович? Давно столичная пресса нами не интересовалась.
– Да вот сигнал поступил в редакцию.
– Интересно, что за сигнал? – удивилась она, явно зная про жалобу.
– Пишут, вы отказали от дома клубу «Гласность».
– Илья Сергеевич, а вы разве не объяснили товарищу суть конфликта? – спросила она таким тоном, словно заведующий отделом пропаганды и агитации служил у нее садовником.
– Не успел… – замялся Колобков, возвращаясь из мечтательных далей в сложноподчиненную действительность.
– Странно. Да, я отказала.
– Почему же? Вам не нравится гласность? – задушевно уточнил Гена.
– Гласность мне нравится. Я не люблю безответственной болтовни. Но главное не в этом.
– Ничего, если я включу диктофон?
– Пожалуйста. Нам скрывать нечего. В нашей области гласность была и до гласности. Дело в другом. В библиотеке стали пропадать книги. Редкие. Например, Бердслей издательства «Шиповник» исчез из КОДа.
– Откуда исчез?
– Из отдела книг ограниченного доступа.
– А вы уверены, что виноваты именно члены клуба «Гласность»?
– Уверена. Как только они перестали здесь собираться – больше ничего не пропало. К тому же Вехов давно занимается перепродажей книг. Его уже задерживали за спекуляцию.
– А если это все-таки совпадение?
– Вряд ли. Но в любом случае, библиотека не место для митингов.
– А если от митингов зависит будущее страны?
– Если будущее зависит от митингов, это катастрофа, – вздохнул Илья.
Открылась дверь, и вошла молодая женщина с подносом. Судя по белокурому хвостику, перетянутому резинкой, это была она, грёза бедного Колобкова. Спецкор ожил: хороша! Бабушка Марфуша про таких говаривала: «Все при ней и сверьху дадено». Библиотекарша скользнула по москвичу янтарным взором, и он затомился предчувствием. В последние сутки с ним случились важные перемены: чувство неотторжимости от Ласской вдруг угасло, исчезло, а в груди снова, как в юности, забилось голодное сердце. Вчера, выпив в вагоне-ресторане, Гена пристал к хорошенькой проводнице, чего прежде с ним не случалось, и, судя по ее розовощекому негодованию, своего бы добился, будь маршрут подлинней, до Ульяновска, например…
Зоя тем временем расставила на журнальном столике чашки, сахарницу, вазочку с овсяным печеньем, налила кофе гостям. Делала она все это легко, красиво, завораживая естественной бытовой грацией, которая встречается редко, очень редко, почти даже и не встречается.
– Спасибо, голубушка, ступай! – приказала Болотина, словно добрая помещица, отсылая горничную за ненадобностью.
Зоя пошла к выходу, однако на пороге остановилась и оглянулась на владычицу с мольбой:
– Елизавета Михайловна!..
– Ах, ну да, – нехотя спохватилась барыня. – Рекомендую, Геннадий Павлович, наша лучшая сотрудница Зоя Дмитриевна Мятлева. Заведует абонементом. Между прочим, ваша… как это сейчас говорят… фанатка!
– Неужели? – смутился Скорятин, словно народный артист, узнанный в трамвае.
– Представьте себе, «Мир и мы» – ее любимая газета. Не пропускает ни одной вашей публикации. Какую, бишь, статью мы обсуждали на собрании трудового коллектива?
– «Две полуправды равняются лжи», – покраснев от удовольствия, сообщила Зоя.
– Ну и как? – благосклонно спросил автор.
– Потрясающе! Мы даже хотели вам коллективную благодарность направить.
– А что ж не направили? – ревниво усмехнулся Колобков.
– Постеснялись.
– Не знала, что ты у меня такая стеснительная, – нахмурилась Болотина. – Ну, проси, пока я добрая!
– Геннадий Павлович, выступите, пожалуйста, перед читателями!
– Когда?
– Сегодня. Вообще-то мы хотели обсудить статью Шмелева в «Новом мире»…
– «Новые тревоги»? – удивился Скорятин. – А вас не смущает, что Коля замахнулся на Карла нашего Маркса?
– Ну и что? Марксизм ведь не догма. Но Шмелев подождет. Вы к нам приехали, такого случая больше не будет. Мне когда сказали, я не поверила, думала, разыгрывают. По-ожалуйста!
Она говорила с тем же волжским оканьем, что и Болотина, Илья или Николай Иванович. Но говорок белокурой библиотекарши совсем не казался провинциальным просторечьем, от которого страдает привередливое московское ухо.
– По-ожалуйста!
От Зоиного «о», теплого, мягкого и округлого, как бабушкин шерстяной клубок, Скорятин буквально сомлел.
– Даже не знаю… Я, в общем-то, совсем по другому поводу…. Мне бы встретиться с членами клуба «Гласность», с Веховым… Он нам письмо написал. Жалуется…
– Мы их тоже позовем. Можно, Елизавета Михайловна?
– Конечно, у нас же гласность.
– И ускорение! – добавил, насторожившись, Колобков.
– Это вы к чему, Илья Сергеевич? – посуровела владычица.
– А к тому, что нам еще надо гостя покормить. Показать город…
– Город вы показать не успеете.
– Почему же?
– В два часа встреча с читателями… – извиняясь, объяснила Зоя.
– Но ведь я… – удивился Скорятин. – Вы народ не соберете.
– Мы знали, что вы не откажетесь! – простодушно улыбнулась Мятлева. – И заранее объявили…
– Это называется «опережающим развитием»! – хохотнул агитатор.
– Вот ведь партизанка! Ладно, – согласилась Болотина. – Илья Сергеевич, быстренько покормите гостя в райкоме и назад. Город покажете потом. Зоя…
– Слушаю!
– Книги на списание подготовили?
– Заканчиваем.
– Долго заканчиваете. Смотрите у меня! А вы идите! – поторопила гостей директриса. – У нас свои вопросы, рабочие. В два часа. И не опаздывайте!
– Ни-ни…
Прощаясь, Гена испытал странное чувство: ему жутко не хотелось уходить отсюда, он старался продлить присутствие возле этой удивительной Зои Мятлевой, спрашивал с умным видом, что читают нынче молодые оболтусы, заинтересованно кивал, а сам глазами впрок впитывал ее облик. Она все поняла и улыбнулась москвичу со строгим удивлением. Болотина тоже учуяла и кинула на журналиста тяжелый взгляд – таким отшивают на рынке прохиндеев, которые, пробуя снедь с прилавка, норовят пообедать.
– Строгая тетка! – уже за дверью заметил Гена.
– У нас ее зовут Елизавета Вторая.
– А Зоя Дмитриевна – просто удивительное… создание…
– Даже не мечтайте! Сразу дуэль через платок! – предупредил Колобков.
Райком обитал в бело-розовом особняке с венецианскими окнами, видимо, прежде здесь было дворянское собрание или что-то в этом роде. С фронтона еще не сняли кумачовую растяжку:
– Конец восемнадцатого века. Архитектор Миронов. Зал уездного собрания украшен мраморными колоннами. Вон с того балкона 7 декабря 1918 года провозгласили Советскую власть, – скороговоркой сообщил Илья, подтвердив догадку.
У входа, на газоне, росли властолюбивые голубые ели, и при дверях стояли две массивные урны, выкрашенные серебрянкой. В раздевалке интеллигентная гардеробщица почтительно приняла у них верхнюю одежду, а Генину кепку с помпоном долго рассматривала и повесила на рожок с особым уважением. В холле стоял «на тумбочке» молоденький конопатый милиционер.
– Со мной! – Колобков властно махнул развернутым удостоверением и кивнул на спецкора.
– Вижу, – страж посмотрел на пропагандиста с обидой. – А документик, прямо сказать, у гостя имеется?
– Конечно, – Скорятин вынул редакционное удостоверение.
– Не годится. Надо пропуск заказывать.
– Он из Москвы! – возмутился Илья.
– Хоть с Марса.
– Пресса!
– Порядок есть порядок.
– Нам надо срочно пообедать. У нас встреча с читателями.
– Тем более. Столовая режимная. Спецобщепит, прямо сказать.
– Ну ты, Лёша, свинья! – возмутился Колобков.
– Старший сержант Степанюк, если забыли, товарищ Колобков! – с мягкой угрозой напомнил милиционер.
– Товарищ старший сержант, а по партбилету вы меня пропустите? – спросил москвич.
– По партбилету любой коммунист может пройти в районный комитет.
– И пообедать?
– Нет, для обеда вкладыш нужен.
Мымровец предъявил красную книжицу с темным профилем Ильича. Она оказалась в боковом кармане случайно – обычно хранилась дома, в столе, запиравшемся на ключ. Гена возил партбилет в редакцию, чтобы сдать взносы за апрель. Деньги-то парторг Козоян принял, а печать не шлепнул, забыл, растяпа. Потом, впопыхах и обиде собираясь на вокзал, Скорятин не выложил документ из кармана. Постовой долго мусолил узорные странички, сопя и явно удивляясь серьезным суммам, с которых столичный коммунист платил ежемесячно по три процента. Такие деньжищи в Тихославле были, очевидно, в диковинку. Возвращая документ, старший сержант попенял:
– Геннадий Павлович, что же это у вас за апрель не плочено?
– Виноват, замотался по командировкам, – примирительно объяснил спецкор, зная по опыту, что с нижними чинами лучше не связываться, наоборот, надо показывать особое уважение к их ничтожным полномочиям.
– Повнимательнее на будущее! В гостинице, прямо сказать, осторожнее. Всякое бывает.
– Глаз не спущу!
В поезде, несмотря на алкогольную беспечность, он засунул билет вместе с кошельком в наволочку и несколько раз вскидывался ночью – проверял, на месте ли. Серьезная картонка, потеряешь – держись! Сколько карьер и судеб поломали, как макароны над кастрюлей, из-за утраченного партбилета! Веня как-то оставил свой спьяну в залог в ресторане Домжура: не хватило денег заплатить за ужин. Дело-то привычное. Не рассчитавшие возможностей журналисты оставляли в залог часы, паспорта, кто-то однажды отдал ордер на новую квартиру, каковую и обмывали. Но партбилет! Такого еще не было. Скандалище вышел грандиозный. Если бы в ту пору Шаронов не дописывал с Танкистом третий том мемуарной эпопеи «С лейкой и блокнотом…» – показательная казнь и конец. Дед, бранясь, позвонил однополчанину, лютовавшему в парткомиссии, тот тоже долго матерился, но друг Бродского остался в рядах, отделавшись выговором с занесением.
– Проходите! – козырнул милиционер, вернул Гене партбилет, а на Колобкова посмотрел с вызовом.
Столовая помещалась в стеклянной пристройке, с улицы не заметной. Там росли в кадках пальмы, свисали с окон сборчатые кремовые гардины и теснились столы под цветастыми полиэтиленовыми скатертями. Вдоль никелированного стеллажа раздаточной стояли с подносами сотрудники – в основном, по виду, технический персонал: машинистки, бухгалтерши, курьеры, секретарши, учетчицы… Эти в любом учреждении приходят к самому началу обеда, на лучшие куски, а ответработники питаются на ходу, как придется, а то и вообще не успевают.
– Набежали! – буркнул Илья, обиженный старшим сержантом. – И здесь очередь!
– Партия и народ едины! – тихо съехидничал Гена.
На вошедших никто не обратил особого внимания, кроме накрашенной девицы с выносным бюстом и мощными бухгалтерскими бедрами. Она как раз отходила от кассы и, увидев Колобкова, подалась было к нему, но, заметив рядом незнакомого человека, погрустнела и уселась в одиночестве под пальмой.
– А вы, значит, многолюб! – шепнул наблюдательный спецкор.
– Я вас умоляю! – мученически повел глазами бывший экскурсовод.
Напарники взяли подносы и встали в очередь. Еда здесь, конечно, была попроще, чем в столичных райкомах и редакциях, но вполне сносная и до смешного дешевая. Гена выбрал винегрет с малосольной сельдью, язык с хреном – на закуску, борщ с пампушкой – на первое, судачка под польским соусом – на второе, вишневый мусс и компот из кураги – на третье.
– А у нас в редакции пиво в столовой дают.
– До сих пор? – удивился Илья. – Не свисти!
– До сих пор! – соврал спецкор, умолчав, что буфетчица Валя достает пиво из-под прилавка под страхом увольнения.
Скорятин вручил кассирше металлический рубль, отчеканенный к 70-летию Октября. Та с интересом повертела в пальцах редкую монету, не дошедшую, видимо, еще до Тихославля, и отложила в сторону – для себя или знакомого нумизмата. Ссыпав в карман сдачу, москвич сел с подносом за свободный столик у окна. Вскоре подтянулся и Колобков:
– Зря ты не взял заливного линя!
– Не люблю желатин. А чего к тебе милиционер привязался?
– Не ко мне, а к тебе. Он по инструкции действовал.
– Я так и понял. Давай на брудершафт! А то какая-то ерунда получается… То вы, то ты…
– Давай!
Они чокнулись и отхлебнули компота.
– Слушай, Ген, ты мне объясни. Мы атомную бомбу слепили, в космос летаем, балерины наши выше всех ноги задирают. Почему советская власть умеет нормально кормить людей только в райкомах? Как в городе пожрешь – так изжога от горла до прямой кишки? Шницель из хлеба, селедка ржавая, как водопроводная труба, картошка синяя, хуже удавленника, в борще мясо в микроскоп не увидишь.
– Меня спрашиваешь? Илюша, ты же у нас партработник.
– Да какой я партработник! Зигзаг природы. Иногда в первичке люди чего-нибудь спросят – стою дебил дебилом. Сказать-то нечего. Нельзя же в 1988-м повторять то же самое, что в 1928-м рабфаковцам впаривали!
– Ладно, научу. У вас в городе мясо в магазинах есть?
– Бывает. С утра. По очереди…
– А кто-нибудь голодает?
– Ну, ты скажешь! Никто у нас не голодает.
– Вот, в этом наше принципиальное отличие от капитализма, где все в магазинах есть, а люди с голоду мрут!
– Класс! – восхитился Колобков. – Сам эту байду придумал?
– Нет. Перед выездом за бугор специально учат, как на каверзы отвечать.
– С такой идеологией, Геннадий, мы до коммунизма не дотянем.
– Нам бы до социализма дожить. А за что на тебя сержант Степанюк взъелся?
– Заметил?
– А то!
– Тут такое дело, – смутился Илья. – Смешное даже. – Агитатор почесал нос. – Он в одну учетчицу втюрился, а она…
– В тебя?
– Вроде как.
– Эта, что ли? – Гена незаметно показал глазами на пышногрудую девицу, метавшую из-под пальмы в пропагандиста туманные молнии.
– Эта… – погрустнел Колобков. – Наблюдательный!
– Как зовут?
– Галина. Все время в кино зовет, замучила…
– Ну и трахни ее! – посоветовал спецкор. – Освежает. Смотри, какая у нее станина!
– Легко вам в Москве. Переспал с девушкой и затерялся среди восьми миллионов. А у нас каждый день потом по дороге домой встречать будешь и глаза отводить. Не дай бог, еще залетит! Да и не нравится мне она.
– Мятлева нравится, да?
– Не касайся Зои Дмитриевны, змей!
– Ладно-ладно, – примирительно улыбнулся Гена и продекламировал:
Я был сыночек маменькин.
Теперь со мной беда!
Меж бабами, как маятник,
Мечусь туда-сюда…
– Ты и стихи пишешь? – изумился пропагандист.
– Нет, Веня Шаронов сочинил.
– А кто это?
– Друг Бродского.
– Да ты что?!
К столу незаметно подкатил округлый молодой человек с влажной прической на пробор и склонился к уху заведующего агитпропом. Тот поморщился, кивнул и скомандовал:
– Допивай компот!
– А что такое?
– Первый с тобой хочет познакомиться.
Пока они шли по коридорам, выстланным дорожкой цвета гвардейского позумента, Илья успел нашептать, что первого секретаря райкома Рытикова скоро снимут: Суровцев, проверяя, как идет посевная, остался страшно недоволен угодьями, да еще колхозники нажаловались, что перечислили деньги на строительство клуба, а в итоге ни клуба, ни средств. Петр Петрович при всех назвал Рытикова байбаком и посоветовал подыскать себе место.
– В общем, Андрей Тихонович по белой нитке ходит.
Зашли в кабинет, украшенный переходящими знаменами и огромным ржаным снопом, перетянутым, как кушаком, красной лентой с надписью: «Принимай, Родина, миллионный центнер!». На стене, в рамке, улыбался душка Горбачев. Прежний бровастый портрет, провисевший тут восемнадцать лет, был явно побольше, и теперь образ нового генсека окаймляла полоса выцветших обоев. Колобков церемонно представил столичного журналиста усталому пузану с колючими глазами и дрожащим двойным подбородком.
– «Мир и мы»? Как же! Следим! – сказал Рытиков поспешно.
И мымровец понял: кроме «Правды», хозяин кабинета вообще ничего не читает. Опальный предводитель районных коммунистов, косясь на часы, спросил, как москвичу показался Тихославль, привычно выслушал восторги о волжском Китеже, о «музее под открытым небом»…
– В том и дело, что под открытым, – погрустнел начальник. – Снег, дождь, град… Не успеваем красить. В детинец недавно молния ударила.
– Знаете, сейчас в Америке придумали тонкую, но прочнейшую пленку, – из непонятного озорства соврал Гена. – Натягивают над кварталом, и никаких проблем. Над Лувром уже натянули.
– Да вы что! Эдак и над полями можно? – возмечтал Рытиков. – А то ведь у нас в конце мая такие заморозки – беда…
– Поля-то у вас в районе замечательные! – польстил гость. – Ухоженные, как во Франции.
– Правда?! Вот и напишите! – посвежел руководитель. – А то ведь только про недостатки пишем.
– И напишу! – пообещал спецкор, незаметно подмигивая Колобкову.
– Вы когда уезжаете?
– Послезавтра, наверное.
– Угу… – Первый секретарь что-то черкнул на перекидном календаре. – А сейчас куда? Языческую Троицу видели?
– Нет.
– Как же так, Илья Сергеевич?
– Потом, Андрей Тихонович, после встречи с читателями.
– А когда у вас встреча?
– В два.
– Как жаль! Не получится. Сам бы с удовольствием послушал. Люблю умное слово. Но в район надо. К народу. Ждут! Ну, вперед, а то опоздаете. Людей нельзя обижать. Люди у нас хорошие! А искусство любят – это что-то! В прошлом году Семен Кусков гастролировал. Ну, знаете, конечно, ансамбль «Космодром»? Не поверите: вместо одного концерта целых пять дали. Народ шел и шел, шел и шел, шел и шел…
– Андрей Тихонович, нам идти надо! – взмолился Колобков.
– Да, конечно! Машина у вас есть?
– Есть.
– Успеете! И напишите обязательно, что у нас поля как во Франции, а то ведь никто не знает.
Когда они мчались по коридору, лавируя между ответработниками, снующими из кабинета в кабинет, Илья спросил:
– Про пленку, конечно, наврал?
– Конечно.
– И он тебе наврал. Пять концертов! Они потом еще колхозы бомбили. Я такого чеса никогда не видел. Прокуратура замучила: левые билеты, двойная бухгалтерия, черный нал. Говорят, директора у них посадили. Ох уж эти шакально-инструментальные ансамбли!
– Да, Кусок – тот еще сукофрукт… – кивнул Гена.
– Ты знаком с Кусковым? – удивился Илья.
– Квасили как-то вместе…
Скорятин брал у него однажды интервью. Они сидели в большой квартире с окнами на Чистые пруды, пили редкую по тем временам «Белую лошадь», курили еще более редкий золотой «Честерфильд», и Кусок торопливо (он улетал на гастроли в Венгрию) рассказывал, как задыхается в этой стране с уродским названием СССР. Прощаясь, бард взял гитару и спел новую композицию:
Мне скучно в этой огромной стране,
Мне душно в этой огромной стране,
Мне страшно в этой огромной стране,
Мне тесно в этой огромной стране,
Уберите плакаты из наших душ,
Уберите цитаты из наших душ,
Уберите доклады из наших душ,
Уберите приклады от наших душ!
Поднимите нам веки,
Поднимите с колен!
Мы хотим перемен!
Мы хотим перемен!
Теперь Семен Кусков – владелец сети винных бутиков «Чин-чин», но песенки про свободу до сих пор сочиняет и поет в правильных местах, к примеру, на хлебосольных презентациях сенатора Буханова. Недавно снова ходил с бокалом, кланялся, сыпал перхотью с седых косм и улыбался, обнажая приветливую верхнюю десну. Пьяная Ласская просто взбесилась, увидев его на приеме. Накануне она купила в «Чин-чин» бутылку «Чиваса» и блевала потом всю ночь. Когда Кусок на бис загнусил свою знаменитую «Купороссию», Марина не выдержала и с воплем «Сур-р-рогат!» метнула в него выеденный лобстер. Промахнулась…
Подъезжая к библиотеке, Гена увидел перед входом прикнопленный к доске ватман с броским объявлением:
УСКОРЕНИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ИЛИ ПЕРЕСТРОЙКА УСКОРЕНИЯ?
Творческая встреча с видным журналистом,
специальным корреспондентом газеты «Мир и мы»
Скорятиным Г. П.
– Оперативно! – оценил москвич.
– А то! – гордо кивнул пропагандист.
– Совсем народ запутали… – посопев, заметил водитель.
Столичную знаменитость на ступеньках с нетерпением ждали Болотина и Мятлева. Елизавета Вторая смотрела на часы, как спортивный судья на секундомер. Зоя успела переодеться в темный брючный костюм, шедший ей необыкновенно, распустила волосы по плечам и подкрасила глаза. Лицо ее светилось женским торжеством, явно раздражавшим начальницу. Гена перевел взгляд на сквозной ажур белой Зоиной блузки и почувствовал в сердце занозу.
– Ну скорее, скорее! – нервно торопила директриса. – Люди ждут!
– Люди у нас коммунизма ждут семьдесят лет. И ничего… – специально для похорошевшей Мятлевой провозгласил Скорятин.
Колобков поощрительно, но незаметно ткнул нового друга в бок.
– Оставьте вашу искрометность для читателей! – буркнула Болотина.
В зале набилось человек триста, хотя помещение было рассчитано от силы на двести: сидели на подоконниках, теснились в проходах, двери нарочно распахнули, чтобы оставшиеся в коридоре могли, вытягивая шеи, услышать залетного гранда гласности. На сцене стояла полированная, кое-где облезлая трибуна, напоминавшая пляжную кабинку для переодевания. Гена наткнулся на это смелое сравнение в журнале «Юность» в нашумевшей повести «ЧП районного масштаба», и с тех пор оно не выходило из головы. К трибуне примыкал стол, покрытый зеленым в белесых пятнах сукном, а на нем посередине – непременный пузатый графин, окруженный гранеными стаканами. В президиуме монументально восседал лысый дед с распаренным лицом и косматыми бровями, закрученными, как усы. На ветеране был двубортный коричневый пиджак, превращенный слоями наград, по преимуществу юбилейных, в чешуйчатый доспех. Рядом кучерявый человечек в джинсовой курточке суетливо настраивал диктофон размером с обувную коробку. Колобков, усаживая гостя, кивнул на длинноволосого тощего джентльмена, стоявшего у стены, по-байроновски скрестив руки на груди. Желчное лицо его мелко подергивалось и кривилось странной, перевернутой улыбкой: уголки губ были опущены, линия рта обиженно изогнута, и, тем не менее, человек улыбался.
– Вехов! – шепнул Илья.
– Тот самый книголюб?
– Тот самый. Обязательно будет наезжать на партию!
– Не первый год на этой работе.
– Держись, брат!
С этим словами пропагандист по-мальчишески спрыгнул со сцены и уселся рядом с Зоей в первом ряду.
– Илья Сергеевич, вы-то куда? – удивилась Болотина. – Пожалуйте в президиум!
– Елизавета Михайловна, не отрывайте партию от народа! – весело ответил тот и остался на месте.
Скорятин поздоровался с соседями по президиуму.
– Федор Тимофеевич, – отрекомендовался ветеран, но руки не подал и, шевельнув бровями, окинул столичную штучку недобрым взглядом, словно особист ненадежного бойца. Зато кучерявый буквально завибрировал от восторга:
– Пуртов. Евгений, ответредактор газеты «Волжская заря». Мы вас та-ак любим! «Мир и мы» – это нечто…
– Спасибо, коллега.
Услышав слово «коллега» от московского светоча, местный журналист благодарно задохнулся и сморгнул слезу счастья. Елизавета Михайловна взяла потрескивающий микрофон и произнесла краткую вступительную речь, в которой конечно же мелькали главные слова: «перестройка», «гласность», «ускорение», «плюрализм». Еще недавно такие ясные, лучистые, они за три года помутнели, как залапанные никелированные поручни. С особой интонацией, глядя на Вехова, директриса укорила тех, кто под видом борьбы с отдельными недостатками на самом деле ведет подкоп под главные завоевания социализма.
– …Гласность превращает в горлопанство! – закончила она.
– А нам не нужна гласность для подголосков! – поставленным голосом ответил книголюб и широко зевнул, показав отличные хищные зубы.
Гена, слушая вполуха, изучал аудиторию. В первом ряду, таинственно потупив глаза, сидела Зоя. Колобков, млея от близости, жарко шептал ей в ушко какой-то смешной вздор. Она, чуть отстраняясь, терпеливо улыбалась и качала головой. Скорятин почувствовал в сердце ревнивое недоумение: ему завтра возвращаться в Москву, а удивительная библиотекарша останется здесь, в Тихославле, с этим номенклатурным клоуном. Жаль! Он вздохнул и всмотрелся в зал. Здешний народ сильно отличался от столичного, люди одевались единообразнее, проще, беднее, но в лицах мелькала живая доверчивость, а не сытая московская ирония.
– Ну а теперь мы попросим выступить нашего гостя – специального корреспондента газеты «Мир и мы» товарища Скорятина, – объявила Елизавета Вторая. – Геннадий Павлович приехал из самой столичной гущи. Надеюсь, он объяснит нам, непонятливым, как будем жить дальше.
– …И что станет с родиной и с нами! – тряхнул головой Пуртов.
У него была забавная манера – он беззвучно шевелил губами, повторяя слова вслед за выступающим, при этом утвердительно кивал или в случае несогласия мотал головой, точно цирковая лошадь. Ветеран слушал, окаменев лицом, и только бровями реагировал на сказанное: если был «против», они сурово сдвигались к переносице, а если «за» – уползали на лоб. Выступление директрисы явно ему понравилось.
Скорятин встал, потрогал холодную пробку графина, прошел к трибуне, проверил, взявшись за края, ее устойчивость, и ему пришла в голову дикая мальчишеская фантазия: незаметно расстегнуть брюки и по окончании выйти из «кабинки» в одних трусах, купленных в «Тати» и усеянных крошечными Эйфелевыми башнями. Он загадочно улыбнулся Зое. Она посмотрела на него с ожидающим восторгом, как на фокусника, который вот-вот достанет из рукава не цветок, не гирлянду и даже не голубя, а нечто невиданное, к примеру, сказочную птицу, которая полетит над страной, махнет радужным крылом – и все переменится, зацветет, заблагоухает, жизнь станет честнее, умнее, богаче, благороднее. Впрочем, что-то подобное светилось в глазах почти у всех, пришедших на встречу с «золотым пером».
И он заговорил. Гена умел «держать зал». А сегодня благодаря Зое он обрел в сердце лихорадочный азарт, почуял летучую ясность мысли, в него словно вселился велеречивый бес вдохновенья. Скорятин не говорил – чеканил слова из благородного металла:
– «Как нам жить?» – спросили вы, Елизавета Михайловна… – оратор небрежно кивнул библиотечной владычице. – Это хорошо, что мы понимаем: дальше так жить нельзя. А как? Давайте думать вместе!
– Давайте! – поддержал веселый мужичок, сидевший на широком подоконнике, по-турецки поджав ноги, обутые в грязные кеды.
Болотина всадила в него памятливый взгляд.
– …Недавно мы с вами отметили Девятое мая, – спокойно продолжил посланник гласности. – Еще плакаты по городу висят. Праздник со слезами на глазах. Но если не только утирать слезы и класть цветы к Вечному огню, а хотя бы иногда задумываться, сразу встают вопросы, вопросы, вопросы… Например: почему мы платим за свои победы больше, чем другие народы за свои поражения? Почему в цивилизованных странах каждый человек самоценен, а у нас швыряются миллионами жизней? Отчего наш исторический путь вымощен трупами, как улицы вашего прекрасного города булыжниками? Петербург стоит на костях, гиганты пятилеток – на костях, колхозы – на костях… Вы не думали, почему наш государственный флаг весь красный?
– Не весь! – донеслось с подоконника. – Там еще есть серп и молот. «Хочешь жни, а хочешь куй, но все равно получишь х…»
– Прекратите немедленно! Выведу! – громко перебила пьяного Болотина и переглянулась с плечистыми дружинниками, стоявшими при дверях.
– Так почему же наш флаг красный? – повторил Скорятин.
Этот вопросик он перенял у Исидора, умника, златоуста перестройки, виртуозно умевшего запустить в аудиторию свежий ветерок инакомыслия, возбудить, завести, ошеломить, сбить с толку врага ускорения внезапной цифирью или разящим фактом.
– От крови! – ахнул кто-то, потрясенный небывалой догадкой.
– Именно! Да, мы победили Гитлера. Но какой ценой? Мы же завалили немцев трупами. Наши потери десять к одному!
– Нет, не десять. Мы потеряли двадцать миллионов с гаком. Вместе с мирным населением. А они – почти семь! – хрипло возразил ветеран, нахмурился и стал похож на обиженного филина. – И фашисты напали внезапно!
– Какие фашисты?
– Гитлеровские. Какие же еще… – растерялся дед.
– Ну, во-первых, это еще надо разобраться, кто был большим фашистом, Сталин или Гитлер. Вы, наверное, забыли про позорный пакт «Молотова – Риббентропа».
– Товарищ Сталин хотел оттянуть войну, чтобы подготовиться… – борясь с одышкой, стал объяснять старик.
– Если товарищ Сталин хотел подготовиться, значит, он знал о скором нападении. Тогда о какой внезапности мы говорим?
Зал одобрительно зароптал. Пуртов склонился над магнитофоном, проверяя, записал ли агрегат виртуозную плюху ретрограду. Ветеран гулко кашлянул. Болотина поджала губы.
– Во-вторых, обратите внимание, товарищи, как наш уважаемый Федор Тимофеевич миллионами душ разбрасывается. – Он слегка поклонился в сторону деда. – С гаком… С гаком или с ГУЛАГом? Эх вы, каждый человек – это вселенная, единственная и неповторимая. Никакие цели не стоят слезинки ребенка, а тем более рек крови!
Народ посмотрел на фронтовика, как на серийного убийцу. Тот побагровел и полез за таблетками. Гена, довольный первой полемической победой, наддал.
– …А в-третьих, всё у нас как-то внезапно. Зима – внезапно. Весна – внезапно. Сев – внезапно. Жатва – внезапно. У нас в стране что, внезапно-плановая экономика?
Слушатели засмеялись и захлопали. Теперь из них, как из теста, можно лепить кренделя. Пережидая аплодисменты, оратор показал Пуртову на графин. Тот, продолжая радостно кивать, налил в стакан воды и, благоговея, поднес. Гена промочил горло, гордо глянул на потрясенную Зою и скуксившегося Илью, затем, как сказал бы генсек Горбачев, углу́бил тему:
– А вот объясните мне, товарищи, почему, имея землю, набитую сокровищами, что твоя пещера Аладдина, богатую нефтью, газом, рудами, золотом, алмазами, – мы живем хуже всех? Почему наши герои, победившие Гитлера, получают унизительную пенсию по сравнению с ветеранами вермахта? У нас люди давятся в очередях за модными тряпками, за колбасой, а на Западе реклама изощряется, как заманить человека в магазин, заставить купить что-нибудь ненужное, потратить деньги. Я вот недавно вернулся из Парижа…
Люди поглядели на него так, будто он вернулся с Марса.
– Вечерней лошадью? – съехидничал ревнивый Колобков.
– Нет, Илья Сергеевич, всего-навсего «Аэрофлотом», – отбрил Скорятин. – Как поется, «летайте самолетами “Аэрофлота”, влюбляйтесь в аэропорту!» – и снова посмотрел на Зою.
Библиотекарша потупилась.
– …Гуляя по ночному Парижу, мы зашли в обычный универсам. Решили с коллегами, знаете, на сон грядущий принять на грудь бутылочку-другую бордо.
– Ночью? – недоверчиво уточнили из зала.
– Ночью. Там алкоголь продают не с двух до семи, а круглосуточно. Там с пьянством не борются. Там его попросту нет. У нас, кстати, лет сорок назад пили в два с половиной раза меньше, чем сегодня. Почему?
Люди молчали, размышляя, а Скорятин вдруг сообразил: получается, при Сталине с трезвостью было не в пример лучше. М-да, неувязочка. К счастью, никто не заметил.
– Почему, как думаете?
– Потому что я тогда еще в школе учился! – объяснил с подоконника весельчак в кедах.
– В последний раз предупреждаю! – возвысила голос Болотина.
– А меньше пили, потому что люди еще верили в будущее, не было столько лжи, не было застоя. Понимаете? – разъяснил Гена.
– Ну и что там во французском универсаме? – нетерпеливо спросил кто-то.
– Там все в порядке. Изобилие. Я обнаружил сорок восемь сортов колбасы и шестьдесят три вида сыра. Пытался считать марки вина, водки, виски, джина, текилы, кальвадоса и, знаете, сбился, запутался, как Василий Иванович, в этикетках…
Народ понимающе засмеялся, вспомнив анекдот про Чапаева, пившего в мировом масштабе. Пуртов от восторга дернул головой, как взнузданный, а ветеран, наоборот, окончательно нахмурился, обидевшись за легендарного героя Гражданской войны.
– Дорогая там выпивка? – робко поинтересовались из зала.
– Как вам сказать? Все относительно. Сколько бутылок водки можно купить у нас на месячную зарплату?
– Теперь только по талонам. В месяц два пузыря на одно горло.
– А если теоретически?
– Теоретически – двадцать!
– Какие там двадцать! Пятнадцать от силы…
– А вот рядовой француз может купить на зарплату двести бутылок, – торжественно объявил оратор голосом диктора Левитана, оповещающего об очередной победе Красной Армии.
– Не может быть! – ухнул краснолицый работяга.
– Может.
– Вы, Геннадий Павлович, лучше скажите, сколько они там за жилье платят! – сдерживая возмущение, посоветовала Болотина.
– За хорошую квартиру можно и заплатить. Но не за коммунальный курятник. Поднимите руки, кто живет на отдельной площади! – скомандовал спецкор.
– А с подселенцем считается? – спросил тоскливый мужской голос.
– Если подселенец – красивая женщина, тогда считается! – мгновенно среагировал Скорятин и метнул в Зою гусарский взгляд.
Слушатели одобрительно зашумели и подняли руки – едва ли треть зала.
– Не густо. Вижу, квартирный вопрос портит жизнь не только москвичам, но и тихославльцам.
– Ага, одним – осетринка, другим – от ерша спинка! – донеслось с подоконника.
Елизавета Вторая, уловив намек на ее новую квартиру, окаменела лицом и посмотрела на люстру.
– Кстати, о лучшей половине человечества, – улыбнулся Гена. – Модный дамский наряд там, у них, стоит столько же, сколько бутылка хорошего шампанского! – сказав это, он подумал, что платье, купленное в «Тати» для Марины, очень пошло бы Зое.
– Ах ты господи! – простонала женщина, одетая в сарафан, похожий на рабочий халатик. – Живут же люди!
– А как там у них насчет безработных? – сухо спросила Болотина.
– Не знаю, не видел. Но, по-моему, лучше искать работу, чем ходить на службу и бездельничать, разгадывать кроссворды и вязать носки! – весело парировал журналист.
– Геннадий Павлович, надеюсь, наш разговор не сведется к тряпкам, выпивке и закуске? – холодно поинтересовалась директриса.
– Ни в коем разе, Елизавета Михайловна! Это так, для иллюстрации. Понимаете, товарищи, бродил я вдоль бесконечных полок парижского универсама и мучительно размышлял: почему, ну почему? Ведь французы такие же люди, как и мы: две руки, две ноги, голова. И голова-то не какая-нибудь особенная. Обычная голова. Наши головы поумней, пообразованней будут. Так почему же, почему мы запускаем луноходы, а выпустить хороший холодильник или телевизор не умеем? Почему наши танки могут под водой ездить, а трубы и краны в квартирах текут? Сколько можно быть Верхней Вольтой с ракетами?! Я спросил одного француза: когда у них начинают продавать клубнику? И знаете, что он ответил?
– Что-о?
– В семь утра!
– У-у-у… – простонал зал.
– Значит, так и будем страной вечно зеленых помидоров?! Почему?
– Потому что у них рынок! – звучно объяснил Вехов.
– Правильно! И не просто рынок, а умный рынок, он сам все отрегулирует. Госплан – каменный век. Знаете, сколько бумаги изводит наша бюрократия?
– Сколько?
– Сто миллиардов листов документов в год! Получается, по одному листу на душу населения е-же-днев-но!
– Сколько ж на эту макулатуру книг хороших можно купить! – мечтательно воскликнула очкастая девица с безнадежно начитанным лицом.
– Да, друзья, за нас с вами все заранее решено, подсчитано: сколько мы можем купить штанов, сколько прочесть книг, сколько мяса, хлеба, рыбы съесть…
– И сколько раз на х… сесть! – гоготнул на подоконнике пьяный.
Болотина с наслаждением кивнула дружинникам – те, подскочив, схватили безобразника под мышки, сорвали с насеста и понесли, а он, по-детски болтая в воздухе кедами, весело бормотал:
– Где плюрализм, е… вашу мать? Никакой свободы слова! Ну никакой!
– Может, все-таки не надо, Елизавета Михайловна? – вступился Скорятин. – Это же фольклор, а из фольклора слова не выкинешь.
– Не фольклор, а хулиганство! – Она посмотрела на московского гостя так, точно сожалела, что из помещения вытряхнули нетрезвого сквернослова, а не «золотое перо» газеты «Мир и мы».
– А что же нам делать? – спросил из зала страдающий голос.
– Довести начатое до конца, – строго ответил Гена. – Да, экономика у нас плановая, мы во всем зависим от государства. Нам нужно раскрепостить человека. Государство не должно кормить нас рыбой, оно, образно говоря, обязано дать нам удочку, а рыбу на обед мы поймаем сами. Так победим!
Зал взорвался аплодисментами, кто-то даже вскочил в порыве. Но тут в открытое окно, как черт, всунулся с улицы пьяный балагур, вынесенный недавно из зала, и крикнул кикиморой:
– Не звезди, Сейфуль Мулюков!
В тот же миг он пропал, – так исчезает за ширмой отыгравшая свою роль кукла. Снаружи донеслись утробные кряканья, какие издает человек, если его бьют кулаками в живот.
– Геннадий Павлович, звонят из румынского посольства, – сообщила по селектору Ольга.
– Чего хотят?
– На прием приглашают.
– Когда?
– Через неделю. Пойдете?
– А что у них там?
– Праздник мамалыги.
– Пойду.
– С женой? – лукаво уточнила секретарша.
– Болеет.
– Может, выздоровеет?
– Не выздоровеет. Но пусть пришлют приглашение на два лица.
– Понятненько…
Буйную Ласскую на приемы он больше с собой не брал. Она спьяну обозвала «черной обезьяной» сенегальского военного атташе, увешанного орденами и увитого аксельбантами, что твой священный баобаб. Африканец невольно налег на Маринину грудь, потянувшись за канапе. Хорошо еще вином в рожу не плеснула – с нее станется. Вышел местный международный скандал, хотя, сказать по совести, расплюснутая физиономия негра была и вправду цвета солдатского гуталина.
Прежде Скорятин любил приемы. Однажды Исидор, всегда ходивший в посольства со своей Элиной Карловной, был срочно призван на Старую площадь и второпях сунул Гене приглашение на две персоны в Спасо-хаус – резиденцию американского посла. Что тут началось! Жена вытряхнула из шкафа все платья, нервно их мерила, всхлипывая: «Боже, мне нечего надеть, я голая как лимитчица!» Спецкор и сам битый час простоял у зеркала, выбирая галстук и свирепея из-за того, что на каждой брючине у него оказалось по две стрелки. Увы, домоводством Ласская не увлекалась, выросла с прислугой Тусей, которая еще в Днепропетровске была няней при Вере Семеновне. Туся умерла за год до появления Гены в Сивцевом Вражке и, угасая, плакала, что не доживет до «Мариночкиной свадебки». Теща каждый год проведывала ее могилку в Котляках. Надо сознаться, сам Скорятин, несмотря на рабоче-крестьянское происхождение, тоже лишний раз за молоток не брался. «Бахарь – не пахарь!» – вздыхала бабушка Марфуша, намекая на бородавку. Как ни странно, умельцем на все руки был ябедник О. Шмерц. Просвещая любимого племянника относительно невыразимой древности и несравненной мудрости еврейского народа, он мог заодно полочку привинтить и отвалившуюся плитку в ванной приладить.
К желто-белому особняку на тесной московской площади, спрятанной за стеклянной ширмой Нового Арбата, выстроилась длинная очередь. Однако этот хвост ничем не напоминал злобные совковые стойбища возле тогдашних магазинов, где для плана выбросили в продажу дефицит. Это была вереница друзей-приятелей, праздничное шествие избранных, которое вдруг уперлось в ажурные кованые ворота, где рослые морпехи внимательно проверяли приглашения и вежливым кивком разрешали войти. Нарядные стояльцы были знакомы между собой, радовались встрече, делились новостями. Наши люди обнимались, хлопали друг друга по плечам. Иностранцы вежливо соприкасались щеками, предъявляя белые рекламные улыбки. В очереди там-сям мелькал парчовый пиджак громкого поэта, вроде бы снова надерзившего в верхах. Лысый актер, женатый на дочке члена Политбюро, жутким шепотом по секрету докладывал интересующимся о полном маразме последних кремлевских герантократов. Озабоченные хельсинкские тетки во главе с совестью русской интеллигенции Антоном Королевым прямо тут, на ходу, правили, собачась, открытое письмо мировой общественности, чтобы вручить петицию американскому послу.
Угрюмый авангардист, недавно прославившийся тем, что вписал в «Черный квадрат» кроваво-красные серп и молот, объяснял, что в шедевре Малевича главное – не прорыв в навий мрак антимира, а криптограмма извилистых кракелюров, трещинок, покрывших сеткой великое полотно. В этих на первый взгляд случайных сплетениях зашифрована судьба человечества, в том числе и посмертная.
– Можно записать? – с трепетным акцентом спросил кто-то из иностранных журналистов.
– Валяйте! – разрешил живописец.
Наконец достигли заветных дверей, и Гена опасливо протянул тисненое приглашение, из которого с каллиграфической однозначностью следовало, что на прием «просили пожаловать г-на Исидора Шабельского с супругой». Скорятину казалось, подлог непременно обнаружат и его с женой позорно выведут из высокой очереди, а все будут смеяться над самозванцами. Но морпех приветливо кивнул: «Welcome!» И они вошли под заветные своды, где удивительно сочеталась вылизаная классика с дарами заокеанской цивилизации. Рядом случился опальный писатель Редников, в ту пору завсегдатай приемов. Лет десять – пятнадцать назад он сочинил роман «Центровые» о валютных проститутках, работающих на КГБ. Книгу перевели на восемь языков, изучали в Оксфорде, но в СССР она была под запретом.
– Ты знаешь, что бал сатаны был именно здесь, в Спас-хаусе? – спросил потаенный прозаик.
– Это точно?
– Не сомневайся.
Медленно двигаясь вдоль шеренги посольских начальников, встречавших гостей, они обменивались легкими рукопожатиями и краткими приветствиями. Посланник народной дипломатии, Гена кланялся как китайский болванчик, представлялся и жалел, что не завел еще визитных карточек, которые были даже у рыжего попа-расстриги Ягунина, зачем-то сюда приглашенного. Мятежный пастырь с гордым презрением озирал результаты шестидневной трудовой вахты Творца.
– Скорятин, – повторял спецкор. – Еженедельник «Мир и мы»…
– О «Ми-р-р и ми!» – воскликнул очкарик, стоявший в шеренге последним, видимо, атташе по культуре. – «От гласности к согласности»! О-ч-чень хорошо!
Американец, с трудом перекатывая во рту русские слова, произнес название нашумевшей Гениной статьи о наступлении врагов перестройки. Гордясь, «золотое перо» «Мымры» повернулось к Марине, чтобы поведать о своей мировой славе, но жену волновало совсем другое.
– Боже, какое платье! – шептала она, кивая на загорелую даму, выпиравшую голыми плечами из тугого шелкового кокона. – А я как дура вырядилась!
В центре большой белой залы стоял длинный стол с огромным ледяным орлом, широко распахнувшим крылья и вцепившимся когтями в скалу, сложенную из раскрытых устричных раковин. Каким-то чудесным образом к орлу вместо перьев прицепили крупные розовые креветки. Справа от царь-птицы изогнулся на блюде полутораметровый копченый угорь, а слева разинул зубастую пасть лосось, тоже не мелкий. Между ними теснились тарелки с закуской попроще: оливки, колбасы, сыры… Гена снял с подноса граненый стакан с виски и хотел было закусить, но его увлек своими новыми стихами громкий поэт. Отбивая ритм палочкой с шашлыком, он декламировал в ухо спецкору:
Уморивших голодом Вавилова,
Мандельштама заживо сожравших,
Никогда злодеев не помилую
Пол моей страны пересажавших!
Когда мятежный мэтр закончил читать, как оказалось, поэму, креветки разошлись по желудкам избранных. Сиротливо оплывал ощипанный ледяной орел. От рыбин остались только удивленные головы, а из пустых устричных раковин торчали окурки. Бедный журналист решил хотя бы выпить под недоеденный кем-то сыр, но едва прицелился к новой порции виски, как его подхватил под руку фээргешник, свободно говоривший по-русски. Он завел речь о том, что с приходом в МИД изумительного грузина Эдуарда Шеварднадзе на место буки Громыко, которого на Западе прозвали «Мистер Нет», пахнуло наконец свободой и новым мышлением. Скорятин на всякий случай кивал, недоумевая, какой еще свободы ждут простодушные западники от бывшего шефа грузинского КГБ. Чудаки! Будучи в Тбилиси, Гена вдоволь наслушался шепотов о тайных злодействах «белого лиса».
Когда наконец удалось отвязаться от немца, кончилась и выпивка. Зал почти опустел. Марина щебетала по-английски с узколицым рыжим британцем. Пьяный авангардист объяснял смуглой официантке, собиравшей на поднос объедки, что «Черный квадрат» – дурилка для лохов, мазня недоумка, игравшего в революцию формы.
– Если ты революционер, сначала нарисуй цветок так, чтобы пчела ошиблась! Верно?
– Yes, yes, – кивала мулатка, ничего не понимая.
– Ты вот что, гогеновка, забегай ко мне в мастерскую на Покровке. Я с тебя такую «нюшку» спишу – старик Энгр в гробу перевернется! Только не брейся! Не люблю.
Со временем Гена освоился в свете. Фуршетному мастерству он учился у правозащитников. Те неведомым образом угадывали, откуда должны вынести поднос с новыми закусками, первыми оказывались у жратвы, набирали в тарелки с верхом и умели в одной руке уместить сразу несколько бокалов вина или рюмок водки. Наевшись и напившись, они начинали ко всем приставать с разговорами о бесправии советских заключенных, повествуя об узниках с таким надрывом, словно во всех других странах за сидельцами ухаживали, как в цековском санатории.
Спецкор тоже намастачился первым пробиваться к ледяной горке с устрицами, добывать тарталетки с гомеопатическими порциями черной икры, вырывать лучшие куски жареного барашка и ухватывать самый экзотический десерт. Он усвоил, что первыми заканчиваются коньяк и шампанское, следом – виски и красное вино, а водку наливают до конца. От ненужных разговоров Гена теперь уходил со скользким изяществом вьюна: «Минутку, коллега, я только отдам жене ключи от машины!» И поминай как звали!
Но лучше всех было Марине. Она оказывала магическое действие на официантов – халдеи наперебой подносили ей самое вкусное, следили, чтобы ее бокал никогда не пустовал. Хороша была, молода, магнитила мужиков, особенно во хмелю, – только по утрам мрачно замечала в зеркале мешки под глазами. Пожалуй, тогда и начался ее гиблый роман с алкоголем. У жены завелись подружки, сотрудницы посольств и жены дипломатов, что немудрено. Во-первых, она свободно трещала по-английски: спецшкола есть спецшкола. Во-вторых, ее новые приятельницы были с той же грядки, хоть из разных стран: такие же взгляды, прищуры, ужимки, усмешки, даже мужики им нравились общие, и они коллективно млели от американского репортера Кохандрецкого, похожего на грустного дятла. Впрочем, одна из подруг – Юдит оказалась лесбиянкой, и однажды Ласская, готовясь ко сну, со смехом рассказала, что та пыталась назначить ей свидание.
– Может, попробовать? – мечтательно спросила жена.
– Попробуй, – кивнул он, уже зная о ее шашнях с Исидором.
Как-то у «фиников» Гена познакомился с Арвидом Метисом – советником эстонского посольства. Тот поначалу держался величаво, будто полпред Римской империи периода расцвета, но потом выяснилось, что он закончил журфак в год, когда Скорятин туда поступил. Арви сразу очеловечился, утратил даже протяжно-снисходительный акцент. Они выпили за студенческую вольницу, стали вспоминать преподавателей и конечно же всеобщего любимца Гриву – Григория Васильевича Соболя, читавшего курс эстетики. Доцент в самом деле носил на голове настоящую гриву, был вольнодумцем и пострадал за свои взгляды. Соболь утверждал, что партийность, как и классовость, не всегда была присуща искусству, которое возникло еще в доклассовых пещерах. Эту простую и очевидную мысль почему-то наотрез отказывались принимать наверху, особенно Суслов, видимо полагая, будто кроманьонец, рисуя мамонта на камне, выражал интересы пролетариата эпохи палеолита. Идеологические начальники и кураторы постоянно устраивали Гриве выволочки в прессе, на конференциях и собраниях, он горячился, доказывал, взывал к Энгельсу (Маркса не любил за русофобию), поссорился с научным миром, получил партийный выговор, загремел в больницу и с тех пор лекций, к огорчению любивших его студентов, не читал. Вот и скажите: стоило травить человека из-за чистоты марксистских догм, которые вскоре выбросили на помойку, как диван, обжитый неуморимыми тараканами? Но посольства Гриву не приглашали, так как после 1991-го он вдруг объявил, что марксизм хоть и не всесилен, однако другие социальные теории рядом с ним подобны бабушкиным очкам в сравнении с телескопом.
Зато Гена приметил как-то на приеме другого своего преподавателя – профессора Шарыгина: истматик жадно грыз хвост лангуста. Его лекции были, помнится, унылы, точно застолье диабетика. Но вдруг партия шумно отказалась от монополии на власть, а это то же самое, словно если бы шофер объявил пассажирам: «Ну теперь, граждане, поведем автобус вместе!» Чем кончилось – известно. Шарыгин вскоре разразился в «Мымре» статьей, где всерьез доказывал, что три составные части марксизма – это каннибализм, копрофагия и ксенофобия. Слава настигла смельчака немедленно. Скорятин сделал вид, будто не узнал своего преподавателя. Но сам-то он чем лучше профессора? В августе 1991-го парторг Козоян ходил по редакции с мусорной корзиной, и все (Гена тоже) бросали в нее партбилеты. Галантер, правда, пытался (мало ли что!) скинуть похожее удостоверение члена ДОСААФ, но его сразу разоблачили. Исидор же прямо на планерке прикурил от своих большевистских корочек гаванскую сигару. Веня Шаронов сочинил стихи:
Прощай, пурпурная книжица
и членская лабуда!
Тебя, как никчемную ижицу,
выбрасываю навсегда.
Все хохотали, было очень смешно! А теперь задумаешься: стоило ли выбираться из-под теплых, привычных ягодиц тетушки КПСС, чтобы угодить под костлявую, вечно ерзающую задницу Кошмарика?
Гена по приглашению Арви ездил в Тарту с лекциями о свободе слова, которой нет и быть не может, ибо каждый считает свободой свое право говорить то, что хочется, и не слышать того, с кем не согласен. Отсутствие одного из этих прав воспринимается как цензура. А ведь предупреждал Танкист. Как в воду глядел борец с долгоносиками на родных нивах! Но признать это вслух – значит навсегда выпасть из обоймы, вылететь из «Мымры», лишиться всего: положения, денег, поездок, тех же посольских приемов – и приземлиться в переходе под Киевским вокзалом, рядом с Ренатом. Зачем? Чтобы сказать правду? Нет, чтобы в своих окопных листках нести ересь, которая выглядит правдоподобной лишь потому, что выкрикивают ее обиженные и обманутые. Нытье ябедника О. Шмерца тоже когда-то казалось чистейшей правдой. А теперь? Однажды по фуршетным рядам пробежал шепот: «Сахаров, сам Сахаров приехал!» В расступившейся, как море перед Моисеем, жующей толпе показался седенький задохлик с прощающей улыбкой. Его сопровождала рыжая Боннэр, похожая на усача-конвоира. Академик выпил рюмочку, ожил и зашелестел какую-то общечеловеческую напраслину про Советский Союз. А разве плохая была страна? Нет, вовсе даже не плохая…
Возглавив «Мымру», Скорятин ходил на приемы, как на работу, взором профессионала сразу угадывал, какова будет сегодня кормежка и сколько запасено спиртного, определял, кто из гостей пришел выпить, закусить и поболтать, а кто при исполнении. Он избегал прилипчивых атташе, которые старались втянуть в какой-нибудь мутный разговор, а потом вглядывались в тебя с прищуром доктора, ищущего нужный диагноз. Из раза в раз повторялось одно и то же: солидная публика, пообщавшись, расходилась, следом, доедая десерт, разбегались любители пожрать-выпить на халяву. И только былые диссиденты под ненавидящими взглядами официантов продолжали во хмелю спорить у запятнанных столов о том, на сколько лимитрофов надо распилить Россию для всемирного спокойствия.
Бывая на приемах без жены, Гена иногда флиртовал, и небезрезультатно. Однажды шаткая экзальтированная дама с неясным гражданством вызвалась подвезти его домой на своем маленьком «рено», но, едва сели в машину, затряслась и припала к нему с жадным всхлипом, словно питалась исключительно мужским семенем. Столкнувшись через месяц на новом приеме, оба сделали вид, что не знакомы.
Теперь, закусив и взяв бокал, Скорятин, избегая пустых разговоров, шел осматривать недоступные прежде хоромы посольств, расположенных обычно в особняках начала века. В молодости, гуляя по Москве, он часто останавливался возле этих каменных грез в стиле «модерн» с затейливыми эркерами и башенками, островерхими чешуйчатыми кровлями, стрельчатыми или же извилистыми оконными переплетами, мрачными лепными маскаронами, майоликовыми фризами и округлыми углами. Среди примелькавшихся столичных строений они завораживали, как оранжерейные диковины, объявившиеся в луговом простоцветье. Впрочем, эти странные дома обыкновенно были полускрыты высокими заборами с автоматическими воротами, а возле металлических будок топтались скучающие милиционеры. Иногда створки медленно раздвигались – и оттуда, из ухоженного внутреннего дворика выезжал черный лимузин с гербовым флажком на капоте. За зеленым сумраком стекол угадывался гордый силуэт посла.
Скорятин бродил по доступным комнатам запретных зданий, дивясь выдумке зодчих и декораторов, а главное – бесшабашному богатству людей, строивших такое перед самой революцией. Они и не подозревали, что скоро смекалистые большевики, перенеся с испугу столицу из протокольного Питера в распустеху-Москву, расквартируют по декадентским особнякам посольства держав, нехотя признавших Советскую Россию. Почему именно там? Очевидно, из-за новейших по тем годам житейских удобств, включая ватерклозеты. Не краснеть же перед Европой!
Однажды на приеме во французском посольстве Гена с удивлением заметил Вехова в лиловом смокинге с бабочкой. Его волосы, такие же длинные, ниспадали теперь парикмахерскими локонами. Переплетчик издали одарил спецкора перевернутой улыбкой, но подойти не соизволил.
– А этот еще здесь откуда?
– Почетный гость! – желчно объяснил опальный писатель Редников.
Оказалось, Вехов в своем издательстве «Снарк» к 200-летию Первой республики на деньги фонда де Голля выпустил без купюр путевые заметки наблюдательного маркиза де Кюстина, сохранив все его меткие наветы на Россию.
– Дайте сказать! – Вехов поднял руку так, словно в ней был факел.
– Погодите, – поморщилась Болотина. – Вон товарищ давно уже просит слова, – она благосклонно кивнула старичку доцентской внешности, и тот поспешил к освободившейся трибуне. Председатель клуба «Гласность» наблюдал за этим с насмешливым презрением человека, давно привыкшего к несправедливости.
– Позвольте небольшой исторический экскурс? – спросил старичок, обживая трибуну.
– Если коротко, не возражаю, – разрешила Елизавета Вторая.
– Спасибо! Начнем, как говорили древние, от яйца Леды, – его голос обрел лекционную плавность. – Такая, с позволения сказать, кафкианская ситуация сложилась в нашей стране из-за того, что в конце 1920-х свернули НЭП, хотя Ленин недвусмысленно заявлял: новая экономическая политика всерьез и надолго! Он считал социализм торжеством цивилизованных кооператоров. Однако в 1927 году был законодательно изменен статус предприятий. Целью стало не извлечение прибыли, а выполнение плана, спущенного сверху. А ведь Николай Иванович Бухарин, провидец, предупреждал: мы слишком все «перецентрализовали»! Но Сталин знал: рыночный, а точнее, хозрасчетный социализм несовместим с личной диктатурой…
– Короче, Склифосовский!
– Завязывай лекцию читать! – крикнули из зала. – Видели мы твоих цивилизованных кооператоров. Кулебяка рубль стоит!
– Ничего страшного, коллеги! – успокоил доцент. – Конкуренция и спрос сформируют нормальные цены. Сейчас многие перегибы происходят из-за того, что бюрократия сопротивляется перестройке и делает все, чтобы народ разочаровался в реформах. Не позволим! – крикнул доцент, сходя с трибуны.
– Нужна чрезвычайная комиссия по борьбе с врагами перестройки! – гулко вмешался Вехов. – Надо выявлять и…
– Расстреливать? – уточнил спецкор.
– Если надо – и расстреливать.
– Чем же вы тогда лучше Сталина? – не вытерпела Мятлева.
– У нас другая цель.
– Какая же?
– Свобода.
– Значит, ради свободы все разрешено?
– Все, кроме слезинки ребенка! – Вехов ответил ей перевернутой улыбкой.
– Значит, можно и книги с полок воровать? – осведомилась Болотина.
– Вот, товарищ Скорятин, прошу зафиксировать, – библиофил презрительно указал на директрису длинным суставчатым пальцем. – Враги перестройки и клевету активно используют, чтобы задавить народную инициативу.
– Вы не о том, не о том все говорите! – застонала изможденная дама в цыганской шали. – Главное, что наша дорога не ведет к храму!
– А почему дорога должна вести обязательно к храму? – хихикнул Колобков, желая вернуть Зоино внимание. – Она может вести, например, в баню…
– Куда-куда? Он что там такое говорит?! А еще из райкома… – зароптали те, кто видел фильм «Покаяние». – Издевается!
Мятлева покосилась на Илью с неловким смущением, так девочка-отличница смотрит на одноклассника, несущего у доски позорный вздор. А она с ним вчера зачем-то поцеловалась…
– Ну не обязательно в баню, можно и в библиотеку… – чуя неладное, попытался исправить ошибку пропагандист.
– Библиотека – тоже храм! – почти не разжимая губ, произнесла Елизавета Михайловна. – Геннадий Павлович, а вы что молчите?
– Дайте ему сказать! Человек из Москвы ехал! – донеслось из зала. – Не затыкайте рот!
– Никто никому ничего не затыкает. Надо оставить время на вопросы.
– Колокольный звон – не молитва! – подытожил Скорятин. – Если есть вопросы, задавайте!
– Есть! – усмехнулся Вехов. – Почему в СССР одна партия? Странно, не правда ли? Партии создаются, чтобы бороться за политическую власть. С кем? Ежу понятно: с другими партиями. А с кем борется КПСС? Сама с собой или с народом?
– Сама с собой. Лигач Горбача подсиживает. Нет, с народом борется! Водку – по талонам продает! – вразнобой закричали из зала.
– И квартиры сама себе дает! – добавил книголюб.
– Прекратите! – Директриса величественно поднялась и поискала глазами дружинников. – Уберите провокатора, немедленно!
Парни неуверенно переглянулись. На лице председателя клуба «Гласность» снова появилась перевернутая улыбка, не сулившая ничего хорошего.
– Боитесь правды! Я сам уйду. А вам, Елизавета Михайловна, не стоит принимать руководящую роль партии так близко к телу.
В зале понимающе хихикнули. Видимо, роман Болотиной и хозяина области Суровцева давно уже не был тайной. Нарушитель спокойствия тряхнул длинными волосами и гордо вышел вон, играя желваками. Елизавета Вторая поморщилась как от сильной боли, побледнела и грузно опустилась на стул. Лязгая графином о край стакана, она налила себе воды, выпила, отдышалась и тихо спросила:
– Есть еще вопросы к товарищу Скорятину?
– Есть! – подняла руку немолодая женщина в темно-синем костюме с люрексовой полоской по воротнику.
– Понимаете, в прессе теперь пишут, что Зоя Космодемьянская просто ненормальная, Матросов закрыл амбразуру спьяну, а Павлик Морозов – стукач и доносчик. Я учительница. Вот вы мне скажите, на каких примерах мы будем воспитывать молодежь? Если все у нас плохо… Ведь надо же во что-то верить!
– Конечно! В себя надо верить. В се-бя, понимаете, голубушка? А не в Зою Космодемьянскую. Еще вопросы!
– В Бога надо веровать! – рявкнул бородатый юноша и, вскочив, размашисто перекрестился.
– Из Союза православной молодежи, – тихо донес москвичу Пуртов. – Крестный ход готовят.
– А вы что же?
– Комсомолята, как обычно, антипасху хотели… Но Москва запретила. Тысяча лет крещения на носу. Два храма покрасили и кресты надели. В Ленинский субботник в монастыре мусор убирали. Двадцать три грузовика вывезли. Мы про это писали…
Скорятин снова посмотрел в зал, увидел несколько нетерпеливо поднятых рук и кивнул немолодой женщине с больными глазами.
– А как вы относитесь к статье Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами!» в «Советской России»? – спросила она. – Вы с ней согласны?
– Нет, не согласен. Это платформа антиперестроечных сил. Кому-то очень хочется назад, в тоталитарное стойло.
– Но ведь про Сталина же она правильно пишет… – пророкотал, борясь с одышкой, Федор Тимофеевич и звякнул наградами.
– И что же она пишет? – Гена придал лицу такое же выражение, с каким Исидор выслушивал Галантера, заведовавшего юмористической полосой «Мымры».
– Что даже Черчилль признал: Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой.
– Лучше бы он оставил в живых пятьдесят миллионов, замученными в ГУЛАГе!
– Геннадий Павлович, а вам что-нибудь в нашем прошлом нравится? – не удержался Колобков.
– Да, храмы, которых так много в вашем замечательном городе.
– Лучше бы магазинов побольше! – тоскливо крикнул кто-то.
– Ну что такое говорят? То баня, то магазины…
– А вот Нина Андреева пишет… – к трибуне подбежал мужичок и развернул вырезку, истершуюся на сгибах: «Наверное, не одной мне бросилось в глаза, что призывы партийных руководителей повернуть внимание “разоблачителей” еще и к фактам реальных достижений на разных этапах социалистического строительства, словно бы по команде, вызывают новые и новые вспышки “разоблачений”. Заметное явление на этой, увы, неплодоносящей ниве – пьесы М. Шатрова. В день открытия XXVI съезда…»
Зал снова завелся.
– Надоели вы со своей Ниной Андреевой. Вчерашний день. Про будущее скажите!
– Нет, сначала надо сломать прошлое…
– Будущее совсем не обязательно строить на обломках прошлого…
– Ну, хватит, хватит! – Директриса махнула рукой. – Видите, Геннадий Павлович, сколько у людей вопросов, и решать их нужно постепенно…
– Пропасть, Елизавета Михайловна, преодолевают в один прыжок, в два не получится… – отчетливо произнес Скорятин.
Зал зааплодировал.
– Вообще-то через пропасть не прыгают, а строят мост, – переждав хлопки, грустно заметила Болотина. – Ну, не будем больше мучить гостя. Последний вопрос!
Поднялся, как говорится, лес рук. Выбирая счастливца, Гена подумал, что аргумент про «мост» вышел у Елизаветы Второй довольно убедительным, и надо на досуге поломать голову, как при случае остроумно возразить. Наконец москвич благосклонно кивнул школьнице в синем форменном жакете.
– А вы женаты? – спросила она и покраснела, как первомайский шарик.
– Нет, к сожалению, – не задумываясь, соврал он.
– А у вас есть любимая женщина? – уточнила она, сделавшись цвета вареной свеклы.
– Теперь, кажется, есть… – ответил он и посмотрел на Зою.
– Ну хватит! – Болотина встала, поморщилась и ушла, держась за бок. Следом, звеня наградами, ушагал на негнущихся ногах оскорбленный ветеран, Илья провожал его, успокаивая:
– Федор Тимофеевич, не надо так обижаться… Это же просто полемика, спор, плюрализм…
– Вредительство, а не плюрализм! – пыхтел дед. – Я напишу в ЦК!
– Ну, зачем сразу в ЦК?
– В Политбюро напишу!
Зоя хотела уйти вслед за Колобковым, но Гена скорчил умолительную гримасу, она вздохнула, улыбнулась и осталась в зале. К знаменитости выстроилась очередь за автографами. Он расписывался на чем попало – на газетах, журналах, читательских билетах, ученических тетрадках, неровно выдранных блокнотных листочках, каких-то случайных бумажках – кто-то подсунул квитанцию химчистки. С натужной скромностью спецкор выслушивал восторги, одновременно давая интервью кивающему Пуртову – тот буквально всунул микрофон гостю в рот. Еще Скорятин успевал отвечать на вопросы:
– А Солженицын вернется?
– Обязательно!
– А хлеб подорожает?
– Нет, только икра.
– А Горбачев и Ельцин помирятся?
– Едва ли…
– А правда, что настоящая фамилия Аллы Пугачевой – Рабинович?
– Не проверял.
– А кто все-таки написал «Тихий Дон»?
– Гений.
Мятлева сидела в стороне и как-то странно смотрела на москвича, а он тем временем старался мягко отвязаться от зануды-доцента с его рукописным трактатом «Христианский марксизм – будущее человечества». Исподтишка поглядывая на библиотекаршу, Гена подумал: он отдал бы десять лет жизни, чтобы узнать, что происходит в голове женщины, когда она смотрит на мужчину, решая: «да» или «нет». Какие фантазии расцветают и гаснут, какой сокровенный трепет пробегает по телу, какие слова умирают на загадочно улыбающихся губах…
– Товарищи, нашему гостю предстоит еще несколько встреч. Имейте совесть! – строго объявила Зоя. – Девушка, вы второй раз за автографом подходите.
– Это маме…
– Тогда сразу и папе берите!
Библиотекарша встала, взяла Гену за руку, извлекла из огорченной толпы и повела в кабинет начальницы. По пути он сжал ее пальцы чуть нежнее, чем следовало бы, в благодарность за избавление от неуемной публики, она же в ответ отняла ладонь, но не так быстро, как положено даме, недовольной смелостью нового знакомца. Скорятин почувствовал, что его сердце нежно набухает, подобно большой весенней почке.
Вопреки всему Болотина была настроена вполне миролюбиво.
– Ну что ж, живенько получилось, – оценила она.
– Какой народ у вас любознательный! – похвалой на похвалу ответил журналист.
– Да, тихославльцы такие, особенные…
– Есть версия, – вставил Колобков, – что Тихославль был самой первой столицей Руси.
– А Киев?
– Это потом, после потопа! – объявил пропагандист, ловя Зоин взгляд.
– После какого еще потопа, Илья Сергеевич, что вы мелете!? Мы, слава богу, не в Палестине! – нахмурилась Елизавета Вторая.
– Сейчас объясню… Здесь, где мы с вами стоим, был Русский Океан. Когда, размыв Гороховецкий отрог, вода ринулась вниз к Волге…
– Ладно вам глупости-то болтать! Лучше скажите, Федор Тимофеевич успокоился?
– Нет, сказал, письмо в ЦК напишет!
– Зря вы так, Геннадий Павлович, – попеняла Болотина. – Он у нас председатель Совета ветеранов. И без ног, как Мересьев.
– Очень жаль! Но нельзя жить вчерашним днем, молиться на душегуба, как на икону. Вы согласны, Зоя Дмитриевна? – спросил Гена.
– Не знаю… Жалко стариков. Они до сих пор на Хрущева из-за Сталина злятся. А вы им теперь говорите, что Сталин хуже Гитлера.
– Хорошо, Джугашвили лучше Шикльгрубера! – согласился москвич. – Но только для вас!
– Галантно! – хмыкнула директриса.
– А вы знаете, что Сталин – внебрачный сын Пржевальского? – оживился Илья, страдая от Зоиного невнимания.
– Час от часу не легче! – всплеснула руками Болотина. – Почему тогда не Миклухо-Маклая?
– Потому что Маклай по Кавказу не путешествовал, а Пржевальский путешествовал и даже ночевал как-то в Гори…
– Да, усы в самом деле похожи… – задумалась Мятлева.
– Хватит чушь-то городить! Скажите лучше, где гостя кормить собираетесь?
– У Зелепухина.
– Правильно. Там расстегаи хороши! Ну, всего вам доброго, Геннадий Павлович, просветили! – Елизавета Вторая тяжело встала, словно закончив аудиенцию, даром что к ручке не подпустила.
– Елизавета Михайловна, – охрабрел Скорятин. – Разрешите обратиться с нижайшей просьбой!
– Слушаю вас… – насторожилась начальница.
– Прикомандируйте к нам Зою Дмитриевну!
– А это еще зачем?
– Для украшения нашего одинокого мужского дуэта! – брякнул Гена.
– Вот оно как! – повелительница чуть улыбнулась, оценив остроумие.
– Я не могу! – запротестовала, краснея, Мятлева. – Мне надо… книги на списание…
– Девочки закончат. А ты украсишь одинокий дуэт. Думаю, вы споетесь.
Болотина пошла, держась рукой за бок, к выходу, обернулась, строго посмотрела на подчиненную и сказала:
– Не забудьте, милая, в девять вечера у Геннадия Павловича выступление на районном радио. Пуртов помчался вопросы готовить.
– Я помню…
– Сомневаюсь! – и хлопнула дверью.
Зоя смутилась, а мужчины переглянулись: «Самодержица!» Выждав несколько минут, они вышли на улицу. Безоблачное теплое повечерье вступило в ту золотую пору, когда вся природа от утомленного солнца до букашки, роющейся в свежей сирени, кажется великодушным даром усталого Бога суетливым и неблагодарным людям. Зеленые чешуйчатые купола за деревьями напоминали огромные сомкнутые бутоны. Оставалось гадать, какие дивные цветы они явят, раскрывшись на закате.
Водитель еще не приехал.
– А представляете, что тут было, когда все храмы звонили разом? – воскликнул Илья, указывая на колокольни. – Ваши сорок сороков отдыхают.
– Наши сорок сороков уже семьдесят лет отдыхают, – тонко улыбнулся Гена.
– Говорят, церкви снова откроют, – сказала Зоя.
– Открыть-то откроют, а где они столько верующих возьмут? – пожал плечами пропагандист. – Атеизм был бы самой лучшей религией, если бы обещал после смерти хоть что-нибудь, кроме светлой памяти в сердцах товарищей.
– Ты, кстати, хотел рассказать, почему тут столько церквей, – напомнил Скорятин. – Или здесь тоже Пржевальский путешествовал?
– Тебе какую версию, официальную или неофициальную? – ухмыльнулся Колобков.
– Давай сначала официальную.
– Тихославль – город купеческий, люди тут жили солидные, чужаков не любили. Вот каждая улица себе церковь и строила, чтобы без посторонних молиться. Убедительно?
– Не очень.
– Правильно. На самом деле Тихославль до потопа звался Святоградом и был сакральным центром. На каждом шагу капища – Роду, Перуну, Велесу, Мокше, Симарглу, Лелю… Со всей Руси сюда ехали. Пойдем языческую Троицу смотреть, подробнее расскажу. Христиане, когда в силу вошли, по-хитрому действовали: святилища не просто разрушали, а сразу строили на их месте церкви. Дорожка протоптана, веками сюда ходили – жертвы богам приносить. Ну а теперь, коль пришли, помолитесь нашему Богу. Очень грамотно с точки зрения агитации и пропаганды! Говорю вам это как заведующий отделом.
– Значит, по той же логике в церквях после революции театры и клубы устраивали?
– Верно, Палыч! В самую точку. И как ты живешь с таким умищем? Дорожка-то протоптана. Раз пришел – заодно спой Интернационал в честь отца Карла, сына его Ленина и Святого Духа классовой борьбы…
– Неужели все так просто?! – вздохнула Мятлева.
– История, Зоя Дмитриевна, это кайло с узором! – Илья свысока глянул на соперника.
Подъехала «Волга». Хмурый Николай Иванович, пока усаживались, объяснил, что менял пробитое колесо, а потом весь недолгий путь бурчал про гадов, бросающих на дороге колюще-режущие предметы.
– Справедливейший, жрать пойдешь? – спросил Дочкин, войдя к шефу, и от его пиджака в кабинете запахло старой кожей.
– Не хочу, у меня после вчерашних голубцов до сих пор изжога, – отозвался Гена.
– Это потому, что ты не продезинфицировался.
– Пожалуй…
– Ну что, «Клептократию» ставим?
– Пока нет. Опасно.
– Прав как всегда! Может, по граммульке?
– После планерки.
– Слушаю и повинуюсь, о предосторожнейший! Точно не обедаешь?
– Не хочу перебивать аппетит. У меня вечером ресторан… вроде бы.
– А я пойду – закушу сальмонеллу кишечной палочкой…
Жора с интересом, словно в первый раз, оглядел большой кабинет начальствующего друга, задержался взглядом на рейке с гвоздиками, чему-то незаметно улыбнулся и вышел вон.
«Странно… Куда исчезают слова?» – глядя ему вслед, подумал Скорятин. В детстве он слышал постоянно: «Гена, не перебивай аппетит!», «Гена, положи печенье на место!», «Гена, не подходи к варенью, перебьешь аппетит!» Этот самый аппетит казался беззащитным пресмыкающимся, которому легко можно перебить спинной хрящик – и тогда наступит голодная смерть. Теперь про аппетит никто и не вспоминает. Даже не слышно, чтобы какая-нибудь мамаша крикнула ребенку, уплетающему вредную сладость: «Брось! Перебьешь аппетит!»
Может, взять Алису в румынское посольство? Вечернее платье у нее наверняка есть. Ему хотелось поговорить с Алисой о будущем торжественно, не в постели, после слаженных содроганий, когда в сонной расслабленности бормочешь нежную чушь. Нет, это не лучшее время для перепланировки судьбы. К тому же, стравив похоть, Гена остывал, смотрел на Алису строже, замечая жесткие морщины у глаз, вялость груди, и кривился от ее громкого прилавочного смеха. Но проходило несколько дней без объятий, и Скорятин снова думал о ней как о своей окончательной женщине. Однажды после командировки он пытался серьезно поговорить об этом в «Меховом раю», за кофе, но не пошло: шубы, висевшие вокруг, казались толпой соглядатаев и наушников, ловивших каждое слово. Мнительный стал! Нет, такой разговор лучше затеять в ресторане, неподалеку от ее дома, чтобы потом, если Виталик на тренировке, заскочить на часок и совпасть на широкой Алисиной постели. Возле метро есть несколько вполне приличных заведений: «Сулико», «Насреддин», «Дрова», «Сытый дракон», «Суперпельмень», «Ирландский паб»… Но всех лучше, конечно, таверна «Метохия». Ее держит серб Слободан и каждому гостю предлагает бесплатно выпить за смерть косоваров, которые сожгли его дом под Приштиной. Да, ресторанов теперь много, до черта, везде, всюду, по всей стране, в каждой подворотне, будто у людей и других-то дел не осталось, как хорошо пожрать да в комфорте испражниться. Только тут, в «Вымпеле», три магазина сантехники: «Фаянсовое чудо», «Надежная свежесть» и «Мир унитазов».
А в Тихославле был тогда один-единственный кооперативный ресторан «У дедушки Зелепухина». Открыли его в помещении диетической столовой, где, по словам Колобкова, человек, откушав раз-другой, больше не беспокоился из-за гастрита, ибо получал полноценное пищевое отравление, а то и целую язву. Последней каплей стал вареный крысенок в чане с борщом. Директору объявили партийный выговор и сослали руководить прачечной, а вместо диетической тошниловки задумали кафе-мороженое с молодежным уклоном. К открытию планировали фестиваль брейк-данса, что прямо указывало на новое мышление районного начальства и сострадание к дури юных неформалов. Согласовали с областью, но тут возник Кеша Зелепухин, в прошлом товаровед универмага, уволенный после ревизии. Он ломился в серьезные кабинеты, требуя реабилитации доброго имени и восстановления семейного дела, мол, хочу в порядке борьбы с наследием сталинизма открыть кооперативный ресторан «У дедушки Зелепухина»!
– Правда, смешная фамилия?
Колобков повествовал витиевато, утомляя обдуманными словесными излишествами, какими начитанный, но неопытный в добыче женской взаимности мужчина пытается склонить облюбованную даму. Они ехали по тряской тихославльской мостовой на ужин. Илья сидел рядом с водителем, обратясь бдительным лицом к Гене и Зое, устроившимся на заднем сиденье.
– Не поверишь, просто всех измучил этот Кеша! – жалился пропагандист. – Ходил и ходил, клянчил и клянчил. Спрашиваю: «Почему ко мне пришли? Идите в сектор общественного питания!» «Нет, – отвечает, – тут вопрос политический. Я знаю, к кому ходить!»
– Почему политический? – удивился спецкор.
– У нас все вопросы политические, – заметила Мятлева.
– А вот и неправда ваша, Зоя Дмитриевна! – нежно возразил Илья. – Его дед трактир содержал. После революции отобрали, устроили «Домревпит».
– Что?
– Дом революционного питания.
– А разве бывает контрреволюционное питание? – удивилась Зоя.
– Бывает, – вставил молчавший до сих пор Николай Иванович. – Люди с голоду пухнут, а он ресторацию держит.
– Кто?
– Дед Зелепухин.
– Ничего не понял… – пожал плечами Скорятин.
– Все очень просто, – разъяснил Колобков. – В НЭП дедушка снова всплыл. Процветал. Все начальство у него кутило. Кто-то стукнул в Москву, в ОГПУ, Менжинскому. Заведение прихлопнули, а Зелепухина с семьей выслали заодно с кулаками. Вернулся он сюда после войны с внуком. Бедствовал. Жена и дочь умерли. Сыновья на Северах остались, длинным рублем прельстились.
– Ты-то откуда все это знаешь? – удивился Гена.
– От верблюда. Кеша мне своей историей весь мозг проел!
– Ни черта он не бедовал! – возмутился спиной водитель. – Ходил по городу, игрушки пацанам сбывал – за тряпье и пустые бутылки. Никогда не уступал: пугач – десять бутылок, коробочка пистонов – бутылка…
– Человеку жить надо, – тихо заметила Зоя.
– Для этого пенсия дадена, – твердо объявил Николай Иванович.
– А если человеку мало пенсии?
– Нормальному человеку пенсии достаточно!
– …В общем, мы посельсоветовались, – переждав перепалку, продолжил Колобков, – и решили, что восстановление трактирной династии, прерванной сталинским террором, круче, чем молодежное кафе, где еще кому-нибудь в пьяной драке почки отобьют. Но Кешу предупредили: возьми какое-нибудь нормальное название – «Ивушка» или «Березка», лучше – «Волжское застолье». Нет, уперся: «Мы – Зелепухины, это наше семейное дело! Народ всегда ходил к дедушке Зелепухину!»
– Сволочь этот ваш дедушка! – снова заругался водитель.
– Он не мой!
– Процентщик. Деньги в рост давал. Полгорода закабалил. Моя бабка полы в трактире мыла – отрабатывала. У нее суставы на пальцах с кулак вздулись – лиловые. Страшно смотреть! Когда вашего Зелепухина взяли, народ загулял на радостях. Но золотишко-то свое он зарыть успел…
– Какое еще золотишко? – встрепенулся спецкор.
– Ну, это байка такая по городу ходит. Мол, чугунок с империалами в огороде зарыл. А когда вернулся, откопал… – объяснил Колобков.
– Зачем же он тогда пугачи на бутылки менял? – усомнилась Зоя.
– Для конспирации. Иначе сразу бы за ним пришли. Не любит наше государство, когда народ золотишком балуется. Это я вам как ответственный работник заявляю! – протараторил Илья.
– Э-э! Теперь все можно! – оторвавшись от баранки, всплеснул руками шофер. – Откуда в платной поликлинике золотые коронки появились? Раньше-то не было…
– Ну и что? Пусть каждый своим трудом зарабатывает, сколько хочет, – возразила Зоя.
– От лишних денег люди звереют. Человек всегда хочет больше, больше, больше! Без окорота все вразнос пойдет.
– Николай Иванович у нас идейный коммунист, – хихикнул Колобков.
– А вы, значит, безыдейный?
– Я просвещенный коммунист, – с холодком ответил агитатор, напоминая водителю, кто есть кто в автомобиле.
– Вот так власть и просвистите, просвещенные!
Сказав это, шофер заложил такой крутой поворот, что Гена припал к мягкому плечу библиотекарши. Она неспешно отстранилась, а он ощутил в теле теплый озноб.
– Поаккуратнее, не картошку везете! – ревниво проворчал Колобков.
Предупрежденный Зелепухин встречал гостей на улице. На нем был полосатый костюм, клетчатая рубашка и пестрый галстук, достававший до ширинки. Раннюю лысину оживляли редкие волосинки, уложенные с прощальной заботой. Лицо трактирщика лоснилось гостеприимством.
– Прошу! Такие люди и к нам! Вчера бы предупредили, я бы молочного поросеночка добыл.
– Не прибедняйся, Кеша, веди!
Почтительно сутулясь и забегая вперед, кооператор повел высоких гостей к накрытому столу.
– А Николай Иванович? – спросила Зоя, провожая взглядом отъезжающую «Волгу».
– Он рядом живет, – с улыбкой объяснил Илья. – Не хочет у классового врага питаться!
В отгороженном углу бывшего общепитовского зала было приготовлено все для желудочного счастья. А именно: черные грузди с влажным вишневым отливом, маринованные пупырчатые огурчики и свежие помидоры «дамские пальчики», салат оливье, украшенный фиолетовой розой из гурийской капусты, перламутровая селедочка, распластанная под зеленым лучком, ломтики мраморного сала с живыми красными прожилками, импортный сервелат, нарезанный такими тонкими кружочками, что можно рассматривать пятна на солнце…
– На первое могу предложить харчо, тройную ушицу, борщ…
– Мне уху, пожалуйста, полпорции… – выбрала Зоя.
– Возьми уху – не пожалеешь! – посоветовал гостю Илья. – Три ухи.
– На горячее – шашлычок, котлеты по-киевски и рубец в томатном соусе.
– Если не подлец, закажи рубец! – пресек Колобков предвкушающие сомнения москвича. От этих сомнений рот переполнялся слюной, а под ложечкой закипал желудочный сок.
– Доверяюсь хозяевам.
– Я буду котлету, – выбрала Зоя.
– Я не подлец, но под такую закуску как-то хорошо бы… – задумчиво произнес Скорятин. – С устатку и за знакомство…
– Геннадий Павлович, – изумился пропагандист, ты о чем? Думаешь, мы в провинции с пьянством не боремся? Еще как! Жаль, теперь на Волге нет виноградников, а то бы мы все их вырубили, как в Грузии.
– А раньше были?
– Конечно! При Святогоре тут климат был, как в Крыму.
– Алкоголь строго запрещен! – скорбно подтвердил Зелепухин. – Могут закрыть заведение.
– Значит, сухой закон? – удивился журналист, привыкший, что для гостей из Москвы обычно делают тайное исключение.
– Суше не бывает. – Лицо Ильи обрело протокольную суровость.
– Попить чего желаете? Есть квасок домашний, компот, морс клюквенный по стариннейшему рецепту! – изогнулся хозяин.
– Бери морс! – посоветовал Колобков.
– Лучше кваску. Хоть какой-то градус, – возразил Гена. – Меня тут недавно в лавре монахи квасом угощали, еле потом из-за стола вылез. Хорошо все-таки, что церковь отделена от государства!
Зелепухин вопросительно посмотрел на райкомовца. Тот пожал плечами:
– Напрасно, коллега! А мне, Кеша, тащи-ка два морса!
– По-онял.
– Мне минеральной, – попросила Зоя.
– Боржомчика? – улыбнулся трактирщик, приоткрыв зубную гниль.
– Ого, у вас и боржоми есть! – удивился Скорятин: эта вода давно исчезла из магазинов даже в Москве.
– А как же! – подмигнул Кеша и умчался выполнять заказ.
– То-то я смотрю, в нашей столовой боржом совсем пропал, – задумчиво проговорил Колобков, – а у него появился.
– Закон сообщающихся сосудов, – пожала плечами Зоя.
Гена намазал кусочек черного хлеба горчицей, откусил и решил заодно написать очерк о первом в Тихославле кооперативном ресторане. Он стал оглядываться, присматриваться, примечать детали, даже достал блокнот. Заведение являло собой образчик переходного периода. Еще сохранилась в неприкосновенности доска с соцобязательствами и правилами поведения в пункте общественного питания, еще грозная надпись запрещала приносить с собой и распивать спиртные напитки, еще висел плакат с двумя суровыми дружинниками, выводящими под руки зеленую, в человеческий рост, бутылку «Московской водки», еще на побелке алели крупные буквы:
Однако на стенах уже висели расписные дуги и связки лаптей, а на стойке, отделанной лакированной вагонкой, высился огромный пузатый самовар с медалями на сияющих медных боках. В углу, наподобие домашней иконы, красовался портрет, скопированный неумелой кистью со старой фотографии: щекастый бородатый купец, заложив руку за отворот сюртука, сурово смотрел на посетителей. По тугому животу пролегла толстенная золотая цепь от карманных часов. Если сам невидимый брегет соответствовал мощи звеньев, то был он размером со сковородку, не менее. Кровную связь настенного купца и нынешнего хозяина заведения удостоверяла портретная лысина с прилизанной волосяной перемычкой.
– Тихон Самсонович, – подтвердил, расставляя напитки, Кеша. – Жертва сталинских репрессий. Приятного аппетита! – и удалился, пятясь.
Скорятин подумал, что в народе наметились какие-то важные перемены. Еще недавно причастность к сфере обслуживания придавала людям хамскую самоуверенность и пренебрежение к нуждам ближнего. Но вот человек завел собственное дело, вложил кровные денежки, и пожалуйста – к нему вернулась изгибчивая услужливость, о которой доводилось читать только у классиков. Надо про это написать! И название есть: «Ода низкопоклонству».
– О чем задумались, Геннадий Павлович? – спросила Зоя.
– О преемственности. Эх, если бы не борьба с алкоголизмом, я бы сейчас выпил за частную собственность! – ответил спецкор.
– Попробуй! – Колобков подвинул ему стакан с клюквенным морсом.
– Я же сказал: квас.
– Попробуй, противленец хренов!
Москвич нехотя отхлебнул морса и задохнулся: то была водка, слегка закрасненная клюквой.
– Так бы и объяснил, черт! – отдышавшись, упрекнул он.
– Хочешь, чтобы меня с работы поперли?
– Закусывайте, у вас еще радио! – встревожилась Мятлева.
– Не беспокойтесь! Как говорит мой друг Веня Шаронов, без алкоголю не глаголю!
– Здорово! Надо запомнить. Зоенька, выпейте, чтобы не отрываться от коллектива! – взмолился Колобков.
– А-а, – махнула рукой она. – Но капельку…
Осушив по стакану морса (Зоя тоже хлебнула) и заказав еще, они ощутили прилив алкогольного братства, а первичное насыщение примирило их с несовершенствами жизни и общественного устроения.
– Ты чего мне в библиотеке подмигивал? – спросил Скорятин, уминая сало, таявшее во рту.
– А ты не понял? – осклабился пропагандист. – Снимок на стене видел?
– Видел. И что?
– А кто там, рядышком с Елизаветой, понял?
– Понял – не дурак. Пе-Пе.
– Илья, может, не надо об этом! – нахмурилась Зоя.
– Почему не надо? Надо! Пусть проникается местным колоритом.
– Хочу местного колорита!
– У Болотиной с ним роман, понял?
– Догадался.
– Илья, может, все-таки не надо? – повторила Мятлева строже.
– Он могила!
– Я могила! – подтвердил гость. – И давно?
– Как тебе сказать, лет двадцать пять… – сообщил пропагандист.
– Не по-онял… Ему сколько теперь?
– Вроде пятьдесят.
– Пятьдесят два… – уточнила Зоя, отвлеченно кроша хлеб.
– А Елизавете?
– Сорок.
– Значит, ему было двадцать семь, а ей пятнадцать! Статья. Совращение малолетних, – в голове у спецкора вспыхнула первополосная шапка: «Из растлителей – в ретрограды». – А дети есть?
– Двое.
– Молодец мужик!
– Какие же вы испорченные, мальчики! Сын у нее от мужа. В Москве учится, – объяснила библиотекарша. – От Петра Петровича дочь. Людмила. Балетная девочка. Илюш, ты рассказывал Геннадию Павловичу про нашу Языческую троицу?
– А где же муж? – настойчиво вернул тему Скорятин.
– Объелся груш.
– Утонул. Поплыл с другом рыбачить. И в тумане прямо – под теплоход… – грустно сообщила Зоя.
– Какие у вас тут страсти! А Суровцев, значит, узнал – и сразу к ней? – предположил москвич. – Муж в земельку, друг в постельку…
– Примерно! – хохотнул Колобков. – А ты, вижу, фольклором балуешься?
– Бабушка у меня знахаркой была по этой части.
– Прямо как у Горького. Опиши наши страсти!
– Посмотрим. А при муже у них было что-нибудь?
– Ну зачем? Как не стыдно! Не так ведь все получилось! Не совсем так… – Мятлева покраснела от обиды и глянула на пропагандиста с разочарованием.
– А как? Как было? – настаивал Гена, чувствуя себя гончей, взявшей след.
– Ох и любопытные вы, мужики! Хуже нас. Ладно, слушайте. Лучше уж я вам расскажу, чем разные сплетни собирать.
На ее лице появилось туманно-мечтательное выражение, какое бывает у женщин, если они говорят о чьей-то красивой любви, похожей на фильм с участием Аллы Ларионовой и Николая Рыбникова.
…Ученица 8-го класса Шатрищенской сельской школы Лиза Кузнецова до изнеможения влюбилась в молодого преподавателя истории Петра Петровича Суровцева, присланного из Тихославля взамен заболевшего учителя. Новый педагог старательно не замечал долгие взгляды рано созревшей ученицы, но галстуки менял регулярно и благоухал одеколоном «Саша», еще неведомым в Шатрищах. Наконец, не выдержав, Лиза написала ему письмо, как Татьяна – Онегину, и назначила встречу на берегу Волги, у валуна, высовывавшегося из воды, точно неведомое речное животное. Он явился минута в минуту, вернул девочке письмо, где красными чернилами подчеркнул одну синтаксическую и две стилистические ошибки, вполне объяснимые волнением отроковицы. Орфографических ошибок не было ни одной. Петр Петрович похвалил рдеющую в сумерках ученицу, затем, отмахиваясь от комаров, злых, как некормленые собаки, объяснился: да, Лиза – очень красивая девушка и, будь он постарше, возможно, между ними могли завязаться серьезные отношения, но она еще совсем маленькая, а прежний учитель оправился от инфаркта, и Суровцева переводят в Тихославль. Конечно, он будет приезжать в гости, чтобы проведать свой класс. Ее же задача – учиться и взрослеть. А там будет видно. На том и расстались…
– Прямо «Вечный зов» какой-то! – хмыкнул Скорятин.
– Скорее уж – «Доживем до понедельника», – поправил Илья.
– А вы разве не верите в любовь на всю жизнь? – удивилась Зоя.
– Нет! – твердо ответил Гена, вспомнив вяленых бычков.
– А я верю! – вставил Колобков и поднял стакан с морсом. – За любовь вечную, как небо!
…Прошли годы. И вот однажды второй секретарь обкома партии Суровцев внимательно скучал в президиуме слета победителей соцсоревнования, но очнулся, когда на трибуну взошла молодая заведующая сельской библиотекой. Она выступала с той забирающей страстью, какая встречалась у недоцелованных советских общественниц.
– Почему в черном? – тихо спросил он помощника.
– Вдова, – был ответ.
– Надо же, такая молоденькая. Откуда?
– Из Шатрищ.
– Ну да? Я там преподавал после института. Как, говоришь, фамилия?
– Болотина.
– Не припомню.
Закончив выступление, Елизавета, к всеобщему изумлению, повернулась к президиуму и громко объявила:
– А вы, Петр Петрович, – обманщик!
Зал ахнул: сказануть подобное второму человеку в области – это не просто нарушение повестки, а политическая выходка, строго наказуемая.
– Что вы имеете в виду? – оторопел Суровцев.
– А то: дали слово и не сдержали!
– Какое еще слово?
– Обещали проведывать нас и ни разу не приехали…
– Кого проведать?.. Куда не приехал?
– К нам в школу, в Шатрищи…
И тут он узнал Лизу Кузнецову, и не просто узнал, а поразился тому, как раскрасавилась, расцвела, несмотря на личное горе, давняя ученица. Будучи опытным руководителем, понимающим народ, Пе-Пе встал и прилюдно повинился: мол, работал в школе, потом закрутился по партийным делам и нарушил обещание, о чем теперь самокритично сожалеет и просит прощения! Подойдя к Лизе, второй секретарь поцеловал ей руку – от него пахло тем же одеколоном «Саша». Зал, сраженный галантностью заоблачного начальника, грянул в ладоши, полюбив его навсегда. А через неделю в библиотеку влетел ошалевший председатель сельсовета и, умирая, выдохнул: «К нам едет… Суровцев… Библиотеку проверять… Сам!»
– Неужели? – усмехнулась Болотина.
На следующий день она впервые за два года вышла на работу не в черном, а в миленьком ситцевом платье, собственноручно сшитом по выкройке из журнала «Крестьянка». Увидев ее, Пе-Пе помрачнел и задержался в селе допоздна, проверив, кроме библиотеки, заодно школу, медпункт, почту, магазин и детский сад. А вечером, раздраконив местное начальство и пообещав выделить лимиты на ремонт, он, томясь, ждал Лизу на берегу Волги, возле знакомого валуна, на который тихо набегали розовые закатные волны. Болотина пришла, опоздав почти на час, когда бывший учитель уже выбился из сил, отмахиваясь веткой от комаров.
– Я думала, не дождетесь… – улыбнулась в темноте бывшая ученица.
– На урок ты никогда не опаздывала.
– Так то на урок!
С этого и началось…
– Суровцев женат? – спросил Скорятин.
– А ты видел холостого секретаря обкома? – иронически осведомился Илья.
– Жена знает?
– Знает, конечно… – вздохнула Зоя. – Ее тоже, кстати, Елизаветой зовут.
– Ах, вот почему Елизавета Вторая! Здорово! А что, жена не скандалит, не жалуется? – уточнил Гена.
– Зачем? Что изменится? Дети. Быт. А главное: любовь сильнее измены.
– Авоська из распределителя сильней всего!
– Дурак ты, Илья Сергеевич, – вздохнула Зоя. – Если бы Елизавета ему одно слово сказала, он бы тут же развелся. Должность потерял бы – но развелся…
– Только не рассказывай, что Болотина ему не велит разводиться!
– Не велит.
– Если она такая бескорыстная, зачем тогда квартиру в «осетре» взяла? – поинтересовался пропагандист.
– Что ж ей, весь век в избушке жить?
– Значит, правильно сделала?
– Правильно.
– А почему вздыбилась, когда Вехов на квартирку намекнул?
– Она не за себя… Она из-за Петра Петровича.
– Допустим. А диссертация?
– Какая еще диссертация? – почуяв охотничий озноб меж лопаток, уточнил Скорятин.
– Кандидатская. За научную степень положены дополнительные двадцать метров. Знаешь? – объяснил Колобков.
– Знаю.
– Чтобы получить трехкомнатную, она быстренько защитилась, – доложил пропагандист.
– Тема?
– Что-то там про роль библиотек в ликвидации безграмотности. Зоя Дмитриевна лучше знает. Она библиографию собирала, статьи для депонента редактировала.
– Ну зачем, зачем? – нахмурилась Мятлева. – Давайте лучше о чем-нибудь другом. Правда, что Солженицын скоро в СССР приедет, или вы пошутили?
– Вроде Горбачев обещал вернуть ему гражданство.
– Поскорей бы!
– Угу, а то Зоя Дмитриевна тоскует.
– Вам, Илья Сергеевич, хватит морса-то?
– Почему?
– Потому что скоро начнете гусарские анекдоты рассказывать. – Зоя посмотрела на него со скучающим раздражением.
Колобков обиделся, демонстративно налил себе из графина остатки морса с бордовой гущей и залпом выпил, закусив салом с чесночком. К столу подсеменил Зелепухин и с поклоном доложил.
– Вас-с-с, Илья Сергеевич, спрашивают-с! – подвинув створку ширмы, трактирщик показал на входную дверь.
Там стоял хмурый Николай Иванович и рукой манил райкомовца к себе.
– Да что ж такое, пожрать не дадут! – Он с раздражением вытер салфеткой лоснящиеся уста и встал. – Сейчас вернусь. Извините!
Пока пропагандист объяснялся с водителем, Зоя и Гена сидели молча, она вилкой пыталась проткнуть консервированный горошек, а он, катая хлебный шарик, старался вспомнить свежий изящный московский анекдот, но в голову лезла какая-то банная чепуха.
– Кажется, вы ему нравитесь, – наконец вымолвил Скорятин.
– Женщина должна нравиться многим. Тогда она может выбрать.
Вернулся раздосадованный, красный от злости Колобков:
– Черт! Суровцев в городе. Собирает срочный актив. Все районы как районы. Заедет раз в квартал, ну раз в месяц. А мы как медом намазаны: каждую неделю к нам мотается – никакой жизни!
– Я даже знаю, как эту медовуху зовут, – улыбнулся Гена.
– Илья Сергеевич, у вас лицо стало цвета партбилета, – улыбнулась Зоя.
– Это из-за морса…
– А я думала, из-за повышенного чувства ответственности. Берегите себя!
– Спасибо за заботу, Зоя Дмитриевна, – холодно поклонился агитатор. – Надеюсь, вы и о Геннадии Павловиче позаботитесь. Платить Зелепухину не надо.
– У меня есть! – Скорятин хлопнул себя по карману.
– Не надо. Он мне и так по гроб должен. На радио можете не торопиться.
– Почему? – удивился спецкор.
– Пуртову позвонили из обкома – отсоветовали.
– Вот оно у вас как?
– Да, у нас так. Обком держит руку на пульсе.
– Скорее на горле, – добавила Зоя.
– Ну так убейте, убейте меня за это! – тонким голоском вскричал Илья и умчался.
Мятлева посмотрела вслед и вздохнула:
– Зря я его обидела. Он хороший… человек. Только в райком напрасно пошел.
– Геннадий Павлович, когда планерка? – спросила по селектору Ольга.
– А сколько времени?
– Без пяти два.
– Да, действительно, – он глянул на «Брайтлинг», подаренный сыном, приезжавшим на побывку.
Во время рейда накрыли «арабуша» с сумкой контрабандных часов, ну и себя не обидели. В последний раз Борька проведывал родителей на Новый год и очень удивлялся, как «у вас тут холодно!» Он сильно изменился, засмуглел и закурчавился, про Израиль говорил «мы», про Россию – «вы», про арабов – «они». Да и по-русски стал изъясняться с каким-то гортанным клекотом, иногда забывая самые простые слова. «Подожди, как это у вас называется?» Ходил он в кипе, прицепленной шпилькой к густым волосам. Скорятин вспомнил, как привез ему из Ташкента, куда летал рыть материал по «хлопковому делу», расшитую тюбетейку, но Борька надел ее только один раз и отказался: ребята во дворе на смех подняли и даже отлупили. А теперь он носит на макушке кипу и гордится. Сын каждый вечер созванивался с невестой Мартой. Она тоже в армии, мелуимнистка, призвана из резерва, охраняет границу. А Борька теперь не Борька, а Барух бен Исраель и тоже воюет. Марина смотрит по телевизору «Вести» только до новостей из Израиля – потом выключает.
– Геннадий Павлович, что людям сказать? – переспросила Ольга, удивленная долгим молчанием шефа.
– Что? В три… Да, в три.
Он снова набрал телефон Алисы, замаскированный под номер сенатора Буханова, отдыхавшего в Совете Федераций от долгой и успешной торговли скверной водкой в Сибири. Время от времени он оплачивал в «Мымре» хвалебные рецензии на свои исторические труды о лучшем государе всех времен и народов Николае Александровиче, убиенном в Екатеринбурге каббалистами. Книги, конечно, за него писали нищие кандидаты наук, но премии Буханов получал сам, созывая на могучие фуршеты пол-Москвы. Марина эти сборища любила, ждала, напивалась в хлам и произносила путаные речи о ренессансной разносторонности хлебосольного сенатора. Гена шифровал телефоны на всякий случай. Жена, коротая бессонные ночи, иногда инспектировала мобильник мужа. Встретив подозрительный номер, она выписывала его, а потом делала контрольный звонок. Как-то решила проверить и телефон сенатора. Но посвященная в конспиративные хитрости Алиса спокойно объяснила: шеф на заседании, появится через час-полтора и лучше бы с ним связаться через приемную. «Подсказать номер?» «У меня есть», – ответила Марина и успокоилась.
Странно: Алиса снова была недоступна: «…попробуйте перезвонить позже…»
«Товар, наверное, принимает. Ладно, пусть будет сюрприз!» – подумал Гена и нажал кнопку селектора: – Оля, зовите народ на планерку!
– Вы же сказали, в три. Все обедать пошли.
– Верните! Меня вызвали в «Агенпоп», – соврал он.
– А-а, ясненько!
«Наблюдательная девочка!» – усмехнулся главред и строго повторил: – Всех вернуть!
Скорятин вообразил, как через час спустится в «Меховой рай». Они обсудят, в какой ресторан сходить вечером, а потом он покажет фотографию из Тихославля и спросит, похожа на него эта внезапная Ниночка? Алиса относилась к семейной жизни любовника с пониманием, чутко выслушивала жалобы на домашние кошмары и утеснения, сострадала, советовала, как вести себя с женой, дочерью, сыном, успокаивала, если он психовал из-за неблагодарной Вики или запойной Марины. Она воспринимала его брак без ревности, а лишь с сочувствием, словно речь шла о постылой работе, куда приходится таскаться каждый божий день, а надо бы давно бросить. Если Гена спускался к ней на третий этаж, артистичная продавщица встречала его как обычного покупателя, зазывая громким прилавочным голосом:
– Мехами интересуетесь, молодой человек? Только что получили новую коллекцию. Заходите – не стесняйтесь! Где новый мех – там женский смех!
Впустив, она выглядывала, проверяя, нет ли любопытных глаз, потом запирала дверь и бросалась ему на шею:
– Боже, как я соскучилась!
Нацеловавшись, заваривала изумительный чай «Астравидья», который по знакомству брала в магазинчике «Тадж-Махал», помещавшемся на четвертом этаже, в торце, где при Советской власти был комитет комсомола. И вот что удивительно: раньше «Астравидья» ничем не отличалась от обычного чая, который можно купить в любом супермаркете. Но год назад вместо сонной хохлушки Оксаны, уехавшей рожать в незалежный Львов, появился новый продавец – молодой вежливый индус Калид, отчисленный из строительного института. Он объяснил: Оксана впаривала не «Астравидью», а какой-то «позорный бленд», расфасованный в Подмосковье. Настоящую «Астравидью» присылают из Дели по чуть-чуть – для дегустаций. Алиса, сообразив, подарила Калиду, мерзнувшему в полуотапливаемой комнате, кроликовую доху (провела по бухгалтерской книге как бонус к дорогой шубе), а благодарный индус преподнес ей к 8-му марта большую банку настоящей «Астравидьи». Вот чай так чай: от одного аромата кружилась голова, а после нескольких глотков в организме объявлялась забытая пионерская бодрость. Выпив несколько чашек и наговорившись всласть, Скорятин обычно возвращался к себе на шестой, но иногда, распалившись, они сбегали на часок-другой к ней домой – это рядом, через дорогу. Первым делом она закрывала в ванной визгливого пекинеса Чанга. Пес ненавидел Гену до глубины собачьей души за непочтительность к любимой хозяйке. Однажды, когда страстная Алиса вскрикнула громче обычного, пес подпрыгнул, схватился зубами за ручку, отворил дверь, влетел в спальню и цапнул соперника за пятку – до крови. Смех и грех, как бабушка Марфуша говорила. Пришлось сказать дома, что в бассейне напоролся на брошенную кем-то в воду пластиковую вилку.
– Страна дикарей! – буркнула жена. – До урны мусор донести не могут.
Однако воспользоваться квартирой удавалось не всегда, а только если Виталик уезжал в секцию – он занимался водным поло и тренировался четыре раза в неделю. Как-то Гена прилетел из Чехии, соскучившись до клеточного недомогания. Алиса примерила перед зеркалом подарок – шикарное гранатовое колье, потом они выпили мозельского, и она стала благодарно целовать щедрого друга – до одури, до воспаленных губ. Но Виталик болел гриппом и лежал дома. Она позвонила в ближний почасовой отель, где мест, увы, не оказалось. Кончалось время летних отпусков, и, воротившись с пресного семейного отдыха, любовники всей округи наверстывали упущенное на скрипучих казенных койках. Тогда Алиса, глянув на Гену безумными, потемневшими глазами, загадочно улыбнулась и заметалась по магазину, срывая с вешалок шубы, бросая их на пол – черные, коричневые, белые, красные, синие, зеленые… Потом она выскользнула из одежды, распустила рыжие волосы и опрокинулась на меховую гору. Боже, до сих пор, закрыв глаза, он видит перед собой утопающую в искрящейся мягкой рухляди перламутровую женскую наготу с огненным «шубным лоскутом» между распахнутыми бедрами.
Вечером дома Гена ворочался под одеялом, чувствуя зуд в теле, исколотом остью. Когда муж в очередной раз перевернулся с боку на бок, Марина буркнула:
– Стареешь.
– Почему?
– От тебя нафталином пахнет. Я думала, это просто образное выражение. Оказывается, нет. Значит, стареешь…
«Лучше нафталином, чем перегаром…» – подумал он, промолчав.
Истерика перед сном в его планы не входила.
В дверь заглянула Телицына.
– Можно заходить? – спросила она с такой тоской, словно Скорятин был не редактором, а стоматологическим садистом с волосатыми ручищами.
– Жду вас с нетерпением.
В кабинет уже просачивались сотрудники и рассаживались вокруг длинного стола – каждый на свое исконное, годами насиженное место. Занять чужой стул считалось преступлением. Как в школе. Фаза входила в класс и первым делом бдительно озирала парты.
– Это еще что за географические новости? – грозно спрашивала она, заметив несанкционированную перемену мест.
– А он толкается! – плачущим голосом оправдывалась какая-нибудь самовольница.
– Кто?
– Воропаев.
– Так, значит? – «немка» брала толкателя за ухо и приподнимала. – Он больше не будет.
Коля Воропаев мужественно сносил экзекуцию, и потом его ухо пылало, как рубиновая кремлевская звезда. В 1990-е он занялся бизнесом, посредничал между «чехами» и военным заводом, распродававшим на металлолом импортные станки. Оборонщики что-то вовремя недопоставили, башибузуки обиделись и выбросили Колю за пустые обещания из поезда, на полном ходу. В морге его долго не могли опознать. Остались жена и две дочери. Младшую Веру Скорятин недавно «поступил» в Высшую школу журналистики, в обмен взяв на работу вроде как племянницу ректора – моложавого старика со шпионским прошлым.
– Не опоздал? – пугливо спросил Дормидошин, дожевывая на ходу.
– Где остальные? – рявкнул главный, глядя на часы.
– А сказали в три…
Гена, будучи рядовым сотрудником, сам не любил ходить на планерки, сначала под тяжкие разносы Танкиста, а потом под изысканные выволочки Исидора. Всякое начальство – источник повышенной опасности и несправедливых притеснений. Что поделать, иначе нельзя. Руководитель обязан быть недовольным. Всегда. Лишь порой, пробив тучу угрюмства, тонкий лучик благоволения может коснуться избранного, но не часто, нет: похвала развращает подчиненного, как женщину – бесперебойные подарки.
Возглавив после падения Шабельского «Мымру», он решил воплотить мечту каждого журналиста, вышедшего в начальники, – переустроить жизнь редакции на разумных, честных, справедливых, творческих основах. На собрании трудового коллектива новый главный торжественно объявил, что отменяет унизительную слежку за коллегами: кто когда пришел и ушел с работы.
– Все мы люди взрослые и сами знаем, где быть, сколько и зачем. Мне нужны не усидчивые задницы, а думающие головы и пишущие перья!
– И в книге отмечаться не надо? – уточнил осторожный Галантер.
– Нет, не надо! Журнал посещений я отменяю.
В ответ Гена получил шквал обожания, восторженный шепот в курилке: дожили, дожили до доброго царя! А через неделю в редакции нельзя было найти никого, чтобы поручить написать пустячную, но срочную заметку или отправить на задание. Даже дежурные по номеру исчезли, а мертвецки пьяная «свежая голова» Паровозов спал, уткнувшись в подписные полосы. Через месяц реформатор в 10:00 лично стоял у входа и записывал в возрожденный фискальный гроссбух всех опоздавших и прогулявших, потом собственноручно собирал бюллетени, придирчиво разглядывая треугольные печати. Дисциплину удалось восстановить через полгода.
Настрадавшись от мелочной опеки начальства, Гена, воссев, пообещал: главная редакция отныне не вмешивается в политику отделов, не правит, не режет, не заворачивает тексты, доверяя гражданской и профессиональной зрелости журналистов! Кончилось тем, что все как ненормальные ударились в маленькие и большие гешефты. Галантер в каждый номер совал материалы о том, что Молдавия должна вернуться в лоно матери Румынии, а в благодарность ему ящиками везли «Белого аиста» и звали в Бухарест на разные конференции. Бунтман выискивал во всех гениях Земли Русской еврейскую кровь, находил, даже в Пушкине, и радостно оповещал об открытиях читателей. Его звездным часом стала статья «Дмитрий Иванович Мендель». Ребята из общества «Охоронь», несмотря на доказательность текста, обиделись за создателя периодической системы и набили журналисту в подворотне морду. Потнорук замучил статьями о голодоморе, устроенном параноиком Сталиным, причем если поначалу речь велась о сотнях тысячах жертв, то со временем дошло до десятков миллионов, и ненька Украина должна была по этой статистике обезлюдеть как Марс. Подло обманутый дольщик Бермудов развернул в «Мымре» жесткую войну с недобросовестными застройщиками из фирмы «Капитель», а Солов обнаглел и стал материться как в рифму, так и белым стихом.
Показала власть кулак
И пугает плахой.
Нам не страшен ваш ГУЛАГ!
И пошли вы на х..!
Кончилось совсем плохо: к Скорятину в кабинет вломились три высокогорных мордоворота и с нехорошей вкрадчивостью спросили:
– Э-э, в чем дэло, уважаемый? Мы тэбе отгрузили дэсять тонн зэлени. Гдэ интэрвью?
– Какое интервью?
– С Георгием Отаровичем.
– С кем, с кем?
– С Гогуладзе.
– С Тифлисиком? – ахнул главный редактор и вспотел ягодицами.
– С Георгием Отаровичем! – строго поправили абреки.
– А кто у вас взял деньги?
– Надын.
– У него и спрашивайте!
– Он сказал: тэбе отдал.
– Мне? Ясно. Разберемся и вернем…
– Или пэчатай, или двадцать тон давай. За обыду! – смягчились суровые дети ущелий.
Едва они ушли, взбешенный Гена метнулся по кабинетам, чтобы убить мерзавца. Надин был обнаружен во дворе, он восковым «полиролем» натирал бока новой «тойоты», красной, как белье нимфоманки.
– Можно по собственному желанию? – без слов поняв, что случилось, попросил негодяй.
– Можно! – кивнул Скорятин и ключом провел роскошную борозду по безукоризненному капоту.
Напечатать интервью с самим Тифлисиком без ведома Кошмарика было невозможно. Большие люди попадали на полосы «Мымры» только с ведома хозяина. Позвонить и спросить тоже нельзя: заподозрит корысть, а еще хуже – двойную игру – и вышвырнет на помойку, как Исидора. Отказать бандитам – еще опаснее: подстерегут у подъезда и проломят голову битой. Гордого редактора «Земли и воли» так изуродовали, что теперь он ездит в инвалидной коляске, оборудованной мочеприемником. А какой мужик был – каратист, полиглот, оптовый покоритель дамских сердец. Никого не боялся. И на тебе! Особых денег у Гены тогда еще не было. Помучившись, он поведал о своем горе Марине. Она покачала головой и продала сарьяновскую «Женщину с дыней». Как раз хватило на то, чтобы откатить двадцать тысяч бандюганам и съездить с детьми в Эмираты.
Выгнав Надина, Скорятин навсегда прикрыл эру милосердия и объявил, что теперь ни один материал без его визы на полосу не попадет. Если кто-то будет использовать газету в личных целях, вылетит на улицу немедленно. Конечно, гешефты не прекратились, но стали скромнее и деликатнее. А на лице главного редактора навсегда застыло выражение геморроидального неудовольствия.
…Он оглядел подданных. Вроде бы все в сборе. По правую руку сидел оживленный утренней рюмкой Жора и смотрел на шефа, как всегда, с избыточной преданностью. По левую руку – хмуро уставился на свое мутное отражение в полировке стола тощий Сун Цзы Ло. Дальше, по ранжиру, расположились заведующие отделами, обозреватели, корреспонденты. У двери, ерзая на кончиках стульев, млели от причастности к свободной печати стажеры с журфака. Дебилы. Писать не умеют, читать, кажется, тоже.
– А Волов куда делся? – грозно удивился Скорятин.
– На «Эго Москвы», – дружелюбно донес Жора, – новые стишки поехал читать…
– Понятно. А Заходырка?
– Сказала, у нее нет времени… – не поднимая глаз, буркнул Сун.
– Это что-то новенькое! – нахмурился Гена. – Непесоцкого где черти носят?
– У Заходырки расходники вымаливает, – сообщил осведомленный Дочкин.
– Ну-ну…
Сотрудники переглянулись. Они давно с интересом наблюдали схватку главного редактора и генерального директора, гадая со спортивным азартом, кто кого уделает и как именно – нокаутом или по очкам. Может, еще и ставки гнут. Идиоты! Неужели не понимают: победит Заходырка – через месяц в редакцию набежит наглый молодняк, умеющий только тыкать пальчиком в айпады, курить, исследовать каталоги распродаж, планировать уик-энды и обсуждать горнолыжные крепления…
Скорятин вспомнил, что собирался начать планерку с разноса, но кого и за что – забыл. Вот она, бессонная ночь! Да и снимок «нашей Ниночки» выбил из головы все мысли, как пепел из погасшей трубки.
– Что у нас с номером? – на всякий случай спросил он.
– Да вроде все штатно… – вяло ответил Сун.
– Замены есть?
– Есть.
– Расскажи, если не секрет!
– Вместо «Мумии» идет интервью с Бухановым.
– С Бухановым? Это еще почему?
Сун опустил глаза. Гена хотел закатить истерику, но вовремя вспомнил, что сам и распорядился: сенатор взамен обещал включить его в делегацию Совета Федерации, отправляющуюся в Новую Зеландию, а Скорятин там ни разу не был.
– Ладно, разберемся! – буркнул он примирительно. – Шапку придумали?
– Придумали. «Россия в откате», – Дочкин взглянул на шефа с интимной деловитостью.
– Неплохо.
– Солова ставим или нет?
– Ставим. Но без говна. Что еще?
– План следующего номера, – вздохнул Сун.
– Докладывайте!
«…Увольнять придется. Ничего не сделаешь, – слушая вполуха, Гена разглядывал соратников. – Заходырка, сука настольная, не отстанет. Дожмет. Но кого гнать?»
Сунзиловского? Он болеет. Наверное, скоро помрет. Да и как выгонишь Рыцаря Правды? К тому же Володя – единственный человек в редакции, на которого можно положиться. На Жору – нельзя: раздолбай, но обаятельный, вплетается в твою жизнь мелкими приятностями, вроде бы незначительными, а в совокупности неодолимыми. Ну кто, кто еще, увидев на тебе костюм, купленный в командировке на рождественской распродаже, воскликнет: «О брионнийший из хьюгобоссов!» Кто еще элегантно настучит на проколовшегося коллегу? Кто уговорит выпить, когда не хочется, а на самом деле – необходимо? К тому же Гена сам, можно сказать, на закорках втащил бесписьменного Жору в журналистику. А за грехи надо расплачиваться. Нет, без Дочкина никуда…
– А день театра мы будем отмечать? – робко спросила Телицына.
– Я уже написал о Жмудинасе, – доложил Сеня Карасик.
– Как назвал? – очнулся Гена.
– «Арбуз из Парижа».
– Неплохо. Вот еще что надо: светлую рецензию на «Сольвейг» в Профтеатре.
– Нельзя! Это ужас! Сольвейг – нимфоманка, развратничает с троллями.
– Знаю. Надо! – повторил главред, подняв очи горе.
Он всегда так делал, если хотел намекнуть, что приказ получен из Ниццы. Полмесяца назад Гена забрел с женой на премьеру. Марина в буфете тут же закинула двести коньяка, потом в антракте усугубила шампанским. Во время натужной овации с истошно-лицемерными криками «браво!», она сквернословила и рвалась из рук мужа за кулисы, чтобы оттаскать за волосы Сольвейг – бездарную дочку худрука Профтеатра Макрельского. Тому, видно, доложили, и заслуженный брехтозавр пожаловался в Ниццу, умоляя не давать в «Мымре» разгромную рецензию: у него, мол, больное сердце. О слабом здоровье Макрельского знали все: каждый год перед решающим заседанием жюри «Золотой миски» несчастный ложился на смертную операцию и сразу выписывался, когда доносили: он снова лауреат. Хозяин со сталинской лапидарностью приказал Гене: «Похвали старого козла!»
– Я не буду писать! – истерически воскликнул Сеня.
«А Карасика на договор надо перевести… – подумал вершитель судеб. – Ну вот, одного, считай, сократили…»
– Давайте я напишу! – предложила Телицына.
– Не надо. Закажите Гоше Засланскому. Слепит как надо. Только не забудьте спросить, сколько он хочет денег.
Телицыну тоже надо гнать: рассеянная и мечтательная до самозабвения. Однажды пришла на работу в пальто, накинутом на пеньюар: обдумывала новую статью. Но она мать-одиночка, к тому же беременна. Поговаривают, от Дормидошина. Бермудова тоже не тронь: у него тесть – хирург, делал Марине операцию, удалял женскую опухоль. Спас. Каждый раз, получив нагоняй за ошибку или невыполненное задание, он осведомляется о здоровье Марины Александровны. А с Расторопшиной у Гены было. В командировке они крепко поужинали с местным начальством, а утром, к взаимному недоумению, проснулись в одной постели. У нее, кстати, вокруг сосков растут черные волосинки. Большая редкость! У Каширской церебральный ребенок и муж в очередной депрессии. Печальный юморист Галантер – член Всемирного еврейского конгресса. Страшно подумать, что начнется, если его тронуть! Потнорук – просвещенный бандеровец, через него в «Мымру» идут деньги за сочувствие евромайдану. Недавно он под страшным секретом сообщил, что скоро в Киеве начнется большая буза и пойдут уже недетские суммы. Ампелонов – идейный гей, а «Мымра» как раз борется за права всех меньшинств. Началось это еще при Шабельском. Гена, воссев, пытался потихоньку свернуть тему, но позвонил Кошмарик и отругал, мол, сначала с пидорами покончите, а потом за евреев возьметесь!
– Отличный материал про внука, зарезавшего бабушку. Поздравляю, Феликс Игоревич! – Гена бросил лучик благосклонности на Ампелонова.
В своем счастливом голубом супружестве тот являлся как бы дамой, но писал на удивление жестко, даже грубо, по-мужски.
– Спасибо, – покраснел Ампелонов.
– Но концовочку подшлифуйте.
– Хорошо.
…И Бунтмана не уволишь: единственный человек в редакции, умеющий писать фельетоны. Лысый, как Брюс Уиллис, Гугенотов в прошлом году женился на практикантке, бросил семью и взял ипотеку. Если останется без зарплаты, квартиру отберут, и молодая жена сбежит. Она уже два раза не ночевала дома, о чем страдалец поведал всем, заодно выспрашивая, как удержать в постели юную супругу, оказавшуюся ненасытной, точно электромясорубка. Паровозова уже выгоняли за пьянство. Получив выходное пособие, он поил редакцию три дня, а потом повесился в туалете на канализационной трубе. Хорошо, коммуникации в «Салюте» старинные, гнилая чугунина лопнула, дерьмо хлынуло вниз, на китайский трикотаж, едва откупились. Пришлось восстановить бедолагу на работе, чтобы не удавился по-настоящему. Кстати, Гена был уверен: «Паровозов» – тоже псевдоним, взятый, как бывает, в дурной молодости, а потом намертво прилипший, вроде: Бермудова, Гугенотов, Надина, Помидорова… Ага, вот Помидорова-то и надо гнать. Ишь ты, цаца! Дедушка в Свирьстрое лютовал, а внучек по парижам разъезжает – борется с «долгим эхом ГУЛАГа». Но про деда-душегуба ни гу-гу. Гнать! Ну вот, двое уже есть. Достаточно, чтобы поговорить с Заходыркой и смягчить ссору. А у Паровозова, кстати, фамилия оказалась настоящая, родовая. Крепостной предок строил первую чугунку и, воротившись в деревню, с таким жаром рассказывал землякам о паровой телеге, которая сама по себе, шипя и свистя, едет по рельсам, что получил прозвище «Паровоз», а его потомки стали Паровозовыми. Надо бы турнуть и Дормидошина. Работает, как полупарализованный. Жена вышибла его из дому, узнав про шашни с Телицыной, однако время от времени валькирией налетает в редакцию, скандалит, грозит отрезать неверному уши и все остальное садовыми ножницами. Такой исход исключать нельзя: она, как-никак, цветовод-любитель, дипломант конкурса «Евророза».
– Геннадий Павлович, а в следующий номер вашу статью планировать? – спросил замответсека Фурин.
Он служил в «Мымре» с самого основания, был утомительно старомоден и предобморочно боязлив, обращался на «вы» даже к малахольному охраннику Жене, никогда не пользовался мобильником, к компьютеру не знал с какой стороны подойти, но именно на нем и держалась вся верстка.
– Какую еще статью? – похолодел Гена.
– В-вашу…
– Кто вам сказал?! – взревел Скорятин, метнув правым глазом молнию в Жору, а левым – в Сун Цзы Ло.
– Инна Викторовна, – бледнея, прошептал Фурин: больше всего на свете он боялся инсульта и пенсии.
– За газету пока еще отвечаю я, а Заходырка отвечает за то, чтобы туалетная бумага в сортире была. Жопу вытереть нечем! – побагровел главный редактор. – Вы мне лучше скажите, где шестая полоса?
– В работе…
– А должна быть на гвоздике! Почему нет?
– Снимали «Мумию», – ветеран «Мымры» стал цвета кладбищенского гипса.
– А теперь что?
– Сокращают «Гимн понаехавшим».
– Кто сокращает?
– Я… – кротко глянула Расторопшина, готовая безотказно принять кару, как некогда приняла пьяное вторжение начальника.
– Поскорее… – поморщился он, помня о волосках вокруг ее сосков. – Что у нас там еще по номеру?
– Если сократим Королева, дырка на шестой полосе вылезет, – сообщил Жора.
– Большая?
– Тысячи три знаков.
– Как раз под некролог. Никто не помер?
– Говорят, Золотухин плох…
– Допустим. А пока что предлагаете из загона?
– Ну, не знаю, – пожал плечами Жора. – У отдела культуры, вроде, что-то было…
– О чем?
– О потопе… – пролепетала Телицына. – Самотеком пришло.
– О каком еще потопе?
– Библейском. Но потоп вроде как у нас был… – женщина от ужаса взялась за выпирающий углом живот.
– Где у нас? – уточнил Скорятин и подумал: «Наверное, будет мальчик».
– На Волге.
– Конкретнее.
– В Тихославле.
– Где-е?
– В Тихославле, – задрожала Телицына и с надеждой посмотрела на сонного Дормидошина.
– Срочно материал мне на стол.
– Понимаете… так получилось…
– Что получилось?
– Он затерялся.
– Найти! Кто автор, не запомнили?
– Нет…
– Фамилия мужская или женская?
– Мужская, но смешная…
– В каком смысле?
– Редкая.
– Колобков?
– Колобков… – помертвела Телицына, а коллектив посмотрел на шефа, как на Вольфа Мессинга.
– Письмо мне на стол! Немедленно!
– Да, конечно…
– Все свободны.
Ошалевший народ хлынул из кабинета, обсуждая телепатический дар босса. Остался только Жора и доверительно шепнул:
– Звонили из «Пилигрима»: есть две горящие путевки в Египет. Даром. По бартеру. Вылетать послезавтра.
– Подумаю.
– Заходырка перед планеркой вызывала к себе Сун Цзы Ло.
– Долго говорили?
– Полчаса.
– Кто еще про статью знает?
– Почти все.
– Херово.
– По рюмахе?
– Потом. Иди!
Дочкин вышел, а Гена замечтался. Послать всех и, никому ничего не объясняя, улететь с Алисой в Египет. Пусть бесятся Марина и Заходырка, пусть удивленно шушукаются сотрудники, пусть трезвонит взбешенный Кошмарик: «Где статья?!» Где, где? В Караганде! К черту всех! Солнце, море и любимая женщина рядом – вот он, рай!
А вдруг после смерти окажется, что рай – это и есть бесконечный океанский пляж: на крупный белый песок мерно набегают легкие волны, настолько прозрачные, что можно сосчитать чешуйки на рыбьих спинках. На пляже, сколько хватает глаз, блаженствуют нагие, юные, прекрасные люди. Их много, тысячи, миллионы, миллиарды… Одни купаются, другие загорают, третьи, проголодавшись, уходят в ближнюю рощу, срывают с веток и едят невиданные сочные плоды. А насытившись и воспылав, там же, под деревьями, прихотливо любят друг друга в траве, укромно смыкающейся над содрогающимися телами. И можно часами, днями, годами, веками идти берегом по щиколотку в теплой воде, смотреть по сторонам, узнавать знакомцев по земной жизни, разговаривать, смеяться, пить за встречу райское вино, терпкое, веселое, но не оставляющее тени похмелья. И снова брести по бесконечному песку, ловя обрывки разговоров и понимая всех, потому что там, у них, изъясняются на всеобщем языке, который ты, оказывается, знал на земле, но никогда за ненадобностью им не пользовался. Чем дальше по берегу, тем удивительней встречные люди, они похожи на старомодных актеров из немых фильмов. Вместо длинноногих худышек с силиконовыми дарами, как у Заходырки, в волнах плещутся пухлые наяды, вроде толстенькой Айседоры Дункан. Наверное, в раю человек просыпается в лучшей своей поре, в расцвете, в плотской роскоши. Нет, нет, он получает такое тело, о каком грезил перед зеркалом, страдая от несовершенства. Но в таком случае как узнать в сонме мечтательной наготы знакомых, близких, любимых, взаимно или безответно? А никого и не надо узнавать. Надо просто идти по безначальному и бесконечному лукоморью, радоваться солнцу, жизни и вечности…
Решено: завтра – «Ревизор», послезавтра – Египет. А праздник мамалыги – к черту! Воодушевившись, Скорятин набрал номер Алисы. И снова: «абонент недоступен…»
Он сердито ткнул кнопку селектора.
– Слушаю, Геннадий Павлович!
– Где Телицына?
– Ищет письмо из Тихославля.
– Передайте этой растяпе: если не найдет, уволю вместе с зародышем!
– И про зародыш сказать?
– Нет, про зародыш не надо…
Когда они вышли от Зелепухина, темнело: Тихославль померк, и лишь купола еще светились, ловя маковками последние лучи солнца. Воздух охладел, сгустился, и тяжелый темный ветер доносил запахи цветущих садов. Однако к благородным ароматам примешивались и простодушные сельские веяния, вызывая некоторую неловкость перед дамой.
– Боже, какой закат! – вздохнула Зоя.
– Невероятный! – подтвердил Гена.
– Вы, конечно, устали?
– Ни капли! – с хмельной решимостью ответил москвич и пожалел, что не захватил бутылочку морса с собой.
– Хотите, покажу вам кое-что?
– Очень! – воскликнул Скорятин, мечтая о невозможном.
– Так чего же мы ждем?
– Наверное, Колобкова… – тонко улыбнулся спецкор.
– А при чем здесь Илья?
– В опереттах красавицы всегда ходят в сопровождении как минимум двух кавалеров.
– Во-первых, Илья не придет. После совещания его на всю ночь засадят за какую-нибудь справку. Во-вторых, мы с вами не в оперетте. А в-третьих, я свободная женщина Северо-Востока…
– А я свободный мужчина!
– Геннадий Павлович, не надо начинать с обмана. Достаточно и того, что обманом все обычно заканчивается. Идемте!
Пока шли по городу, совсем стемнело. В те годы еще не знали роскоши ночных иллюминаций, когда арки, карнизы, лепные фронтоны, курчавые колонны, колокольни со «звонами» и «слухами» затейливо высвечены и подобны витринным драгоценностям на бархатных черных подушках. Тогда все было по-советски скромно: вдоль помрачневших улиц стояли темные приземистые дома, а сквозь серое кружево палисадников едва мерцали окна – воспаленно-желтые от абажуров или больнично-синие, если граждане смотрели телики. Над крышами высились силуэты храмов, похожие на богатырей в шеломах, изредка увенчанных ажурными крестами. Из подворотен с сонной угрозой брехали собаки, дорогу перебегали желтые кошачьи глаза, останавливались, с немигающим интересом смотрели на позднюю парочку и ныряли во мрак. По старой булыжной мостовой идти было трудно, особенно Зое на каблуках. Несколько раз она, шатнувшись, хватала Гену за руку и смущалась:
– Зачем я надела туфли? Я же всегда хожу на работу в тапочках. Очень удобно.
– И зачем же вы надели туфли?
– Из-за вас, конечно! Провинциальные комплексы. И костюм из-за вас напялила. А то бы подумали, что все мы здесь чернавки какие-нибудь. Ой!
Скорятин едва успел подхватить падающую Зою. Потом, соприкасаясь горячими лбами и жадно обмениваясь дыханием, они выкручивали из щели засевший, словно гвоздь в доске, каблук, который в конце концов сломался. Оставшуюся часть пути библиотекарша грациозно прихрамывала. Впрочем, Волга была уже рядом, за темным лугом.
– А вот и наша Языческая Троица! – Мятлева показала на камни, торчавшие из луговины, как покосившиеся печные трубы сгоревшей деревни.
Она скинула туфли и подвернула брюки. Гена из солидарности сделал то же самое, и они пошли по влажной, мягкой, холодящей ступни мураве. Луна, укрытая кисейным облаком, освещала им путь прозрачной полутьмой. Вблизи стало ясно: это не кирпичные останки, а настоящие гранитные монолиты, вросшие в землю. Самый большой напоминал утолщениями тучную детородную женщину, а два других, поменьше, выглядели, точно дети.
– Хм… Менгиры! – определил Скорятин.
– Вы и такие слова знаете?
– Ну да, писал про Стоунхендж.
– Вы были в Англии?
– Доводилось.
– Везет же людям! Знакомьтесь! Это – Лада, а это ее сын Лель и дочь Полеля, – объяснила Зоя. – Раньше думали, что Полель – второй сын, младший. Но Илья уверен: Полеля – дочь. Остатки святилища вятичей. Илья считает, до потопа тут была столица Гипербореи – Святоград.
– Извините, а старик Ной, случайно, не местный?
– Я тоже не очень-то во все это верю. Но Языческая Троица очень древняя. В шестнадцатом веке прислали нового митрополита Гороховецкого и Тихославльского Евлогия. Он возмутился такой чертовщине на святой Руси, приказал вырыть камни, вывезти на середину Волги и бросить в воду…
– Зачем?
– С язычеством боролся. Илья же рассказывал. Полтысячи лет, как Русь крестили, а неплодные бабы мимо божьего храма толпой на Ладин Луг бегут – потомства просить.
– И помогает?
– Говорят, да. Надо сначала к Ладе прикоснуться, а потом к Лелю, если хочешь сына, или к Полеле, если – дочь. Потрогайте, не бойтесь!
– Я не боюсь…
Зоя взяла его руку и приложила к оглавью большого менгира. Камень оказался шершавым, как пемза, и теплым. Потом она осторожно повлекла Генину ладонь к выпуклому животу каменной бабы. Поверхность стала гладкой, будто отполированной, и почти горячей.
– Представляете, сколько женщин гладили Ладу и молили о детях! Ну, Евлогий нанял землекопов из черемисов. Местные все отказались. Начали рыть. Сперва землю лопатами выкидывали, потом корзинами на веревках таскали, а до основания никак не дороются, камни вглубь шли и становились жарче. Когда гранит раскалился докрасна и задымилась одежда, черемисы бросили лопаты, прыгнули в ладьи и уплыли домой. Евлогий тоже перепугался, велел завалить ямы, кроме одной, куда уже набралась и булькала горячая вода. Сам он, потрясенный, затворился в церкви, молился неделю, а потом вышел к людям, объявил себя Великим волхвом Языческой Троицы, расстригся и стал раскрещивать народ в горячем озере. Вода оказалась целебной – горбатых и скрюченных распрямляла. Пошел доход. Прознали в Москве, прислали дьяка Собакина со стрельцами. Он заковал безумного епископа в железа и увез в Соловки. Евлогий там и умер на цепи, в норе под крепостной стеной. А Троицу больше не трогали – боялись. Только озерцо засыпали камнями и сравняли.
– Неужели правда?
– Конечно! Об этом даже в «Технике – молодежи» писали.
– Да, вообще-то живот у Лады горячий.
– Ну, кого трогать будете?
– Полелю, пожалуй… – Скорятин положил ладонь на теплый шершавый камень. – А вы?
– Незамужним нельзя. А то ветром надует! – засмеялась Зоя. – Волгу бум смотреть?
– Бум, бум, бум!
Они дошли до обрыва, сели в траву и долго глядели в черный провал русла, не видя, но чувствуя движение большой реки: казалось, их вместе с берегом медленно влечет вправо. Из затона тянуло затхлой прохладой и живой рыбой, ходившей в глубине и нарушавшей воду всплесками. Мигали в ночи смуглые бакены, похожие на большие пешки. Вдоль потустороннего низкого берега, по невидимому шоссе пробирался крошечный, как жук, автомобиль, нащупывая путь длинными усиками света. Зоя сидела, положив голову на колени, точно Аленушка, и смотрела вдаль. Гена с нежностью заметил, что профиль у нее тонкий, словно очерченный классическим пером.
«Должно быть, из уездных дворяночек… – подумал он. – А почему бы и нет? Не всех же извели. Вот и Киса Воробьянинов работал себе в Старгороде регистратором, пока его не сбил с толку кипучий Бендер…»
Скорятину захотелось обнять Зою, поцеловать, опрокинуть на траву… Желание было неодолимое и невыполнимое одновременно, что-то вроде влечения с балкона – вниз…
Вдруг посвежело. Ударил ветер. Луну и звезды заволокла косматая туча. На лоб упали холодные капли.
– Дождь!
– Разве? – удивилась она.
– Определенно – дождь! – повторил он и привлек ее ладонь к своему лицу.
– Точно! – Зоя тронула его мокрый лоб и вскочила. – Бежим! Сейчас ливанёт!
И точно: темное небо вздрогнуло, зашевелилось, исказилось ослепительной судорогой – и на мгновенье стало так ярко, что крест на ближней церкви высветился каждой завитушкой. Раздался оглушительный скрежет грома – и на землю рухнул ливень.
– Скорее! – закричала библиотекарша, захлебываясь дождевой водой. – Сюда часто бьет молния…
Держа обувь в руках вверх подошвами, они помчались по хлюпающей траве, а выбежав на дорогу, оказались по щиколотку в потоке, бурлившем в асфальтовом русле. Клокочущая вода мутно отражала молочные вспышки молний.
– Куда теперь?
– Ко мне! – Она махнула рукой в сторону Гостиного Двора.
Они побежали дальше, чувствуя, как тяжелеет, намокая, одежда. Вода слепила. Зоя с размаху шагнула в бочажок, вскрикнула и присела.
– Что случилось?
– Ногу подвернула. Какая же я сегодня невезучая!
Скорятин поднял девушку на руки. Обхватив его за шею, она странно улыбалась. Казалось, ее залитое дождем лицо плачет и смеется одновременно.
Гене показалось, что все это он уже видел в каком-то нежно-запутанном, черно-белом фильме. Странная встреча в случайном городке. Один день вместе. Нечаянное грехопадение. Разлука. Тоска по неопознанной любви, растянувшаяся затем на всю жизнь. В том кино героиня тоже подвернула ногу, и герой красиво нес ее сквозь такой же грохочущий ливень. Мокрые, дрожащие от холода и страсти, они слились в поцелуе, едва найдя укрытие в заброшенном амбаре. А потом – ослепительные молнии выхватывают из темноты молодые тела, которые с каждым раскатом грома становятся все смелее и обнаженнее. Наконец, последняя, самая яркая вспышка, самый тяжкий удар – и крупный план невыносимого взаимного счастья… Затемнение. Волглый рассвет. Нагая юная женщина осторожно входит в туманную утреннюю реку. Герой смотрит на нее в щель между досками, улыбается небритыми щеками и закуривает…
Скорятин с разбегу остановился и поцеловал Зою в смеющиеся губы.
– Безумие какое-то! – прошептала она, отворачиваясь.
Перед Гостиным Двором их обогнала черная «Волга», рассекая, словно катер, озеро, в которое превратилась торговая площадь. Машина сначала затормозила, словно хотела подхватить спасающихся от ливня людей, но потом, взревев и выбросив из-под колес грязные фонтаны, умчалась. Гена не придал этому значения, а Мятлева просто не заметила. Она прижалась к его мокрой груди и шептала:
– Что я делаю? Зачем? Зачем?
А он вдыхал влажный запах ее тела и думал лишь о том, как принесет библиотекаршу домой, осторожно опустит на кровать, встанет перед ней на колени и будет неумолимо нежен. На минуту спецкор вспомнил Марину, усмехнулся и забыл, жалея лишь о том, что оставил зубную щетку в садовом флигеле на полочке.
Зоя иногда поднимала голову, определяя направление тяжелого бега, и показывала на купол уступчатой колокольни, мутневшей сквозь дождь. Туда! Наконец они добрались до блочной пятиэтажки, притулившейся подле мощной монастырской стены. В доме светилось несколько окон.
– Второй этаж. Шестая квартира, – шепнула она.
Не чувствуя ноши, устремленный Гена взлетел по щербатой лестнице и остановился перед дерматиновой дверью с двумя железными почтовыми ящиками – зеленым и синим. К одному были прилеплены логотипы «Советского спорта» и «Волжского речника», второй оказался без наклеек.
«И вправду: зачем библиотекарше выписывать домой газеты?» – подумал московский мечтатель и спросил хрипло:
– Где ключи?
– Не надо, – ответила Зоя и, отстранившись, нажала кнопку звонка. – Сосед дома…
В квартире словно того и ждали: задвигались, зашумели, зашаркали. Звякнула цепочка, щелкнул замок. Дверь открыл взъерошенный жилистый дед в выцветших галифе и голубой обвислой майке. На загорелой груди сквозь седые волосы виднелась пороховая татуировка: русалка с якорем.
– Это еще что такое? – спросил дед, поглядев сначала на Гену, потом – на Зою.
– Вот, ногу подвернула, Маркелыч.
– А-а… Ну, тогда – заноси!
Старик повел их по узкому коридору, уставленному стеклянными банками, коробками и связками книг. Скорятин чертыхнулся, больно задев локтем педаль велосипеда, висевшего на стене.
– Осторожно! У нас тут тесно… – виновато шепнула она.
Маркелыч толкнул незапертую дверь. Войдя в комнату, Гена уловил запах одинокого женского жилья – уютный и загадочный. На окне висели затейливые, в оборочку, занавески и стояла герань. Стол был застелен белой кружевной скатертью. Спецкор осторожно усадил пострадавшую в кресло-кровать. Девушка смущенно поправила задравшуюся кружевную блузку, отдернула брючину и потрогала ногу: щиколотка опухла так, что заплыли косточки.
– Больно.
– Сейчас лед приложу, – пообещал сосед. – Что ж ты, девка, так бегаешь? Не коза ведь.
– В лужу оступилась.
– Нечего ночью болтаться где попадя!
– Я город гостю показывала.
– Этому?
– Ну, я пошел… – кашлянув, объявил москвич.
– Куда же вы такой мокрый! – улыбнулась Мятлева, поглядев на пол.
Вокруг его промокших «саламандр» растеклась целая лужа.
– Извините…
– Раздевайтесь! За ночь высохнет. А утром я поглажу.
– Неловко как-то, – зарделся Гена, щекотливо теплея от надежды.
– Пойдем ко мне, неловкий! Разденешься и ляжешь. Знаешь, какой у меня диван? Кожаный. Раньше в ЧК стоял.
– Вы там служили? – съязвил журналист, сникая.
– Батя комиссарил. Я-то по лоцманской части.
– Спокойной ночи, Геннадий Павлович! – с лукавым сочувствием молвила библиотекарша.
– Выздоравливайте, Зоя Дмитриевна! – ответил Скорятин с заботливым укором.
В комнате у деда было тесно и скромно, почти как в кубрике: полуторная панцирная кровать, застеленная дешевым гэдээровским пледом, горка с разнокалиберной посудой, круглый стол под растрескавшейся клеенкой. На голом окне рос столетник в замшелом глиняном горшке, поставленном на треснувшее блюдо с кубистическим молотобойцем.
«Ни хрена себе! Фарфоровая агитка Чехонина!» – обалдел Гена.
По семейным обстоятельствам он немного разбирался в антикварном авангарде.
Но главным достоянием деда оказался кожаный диван с высокой спинкой, полками и завитками из красного дерева, с мутной зеркальной вставкой, окаймленной перламутровой рамкой. На стене желтели старые фотопортреты – сурового усача в кожаной фуражке со звездой и испуганной селянки в белом платочке. На древнем телевизоре стоял, прислоненный к бутылке, современный снимок болезненной женщины. Левый угол перечеркивала черная полоса. Вместо иконы в комнате царил парадный портрет Сталина, до 20-го съезда, очевидно висевший в совучреждении.
Маркелыч откинул диванные валики, удлинив ложе, бросил сложенную серую простыню и ватное стеганое одеяло.
– Раздевайся, страдалец, ложись!
Скорятин с трудом стащил с себя мокрую, прилипшую к телу одежду, особенно повозился с задубевшими джинсами, и остался в одних трусах, почти высохших, видимо, от жара соблазна.
– Ишь ты, – хмыкнул лоцман, оценив ажурные башенки на исподнем у гостя.
Замшевую куртку, набухшую и отяжелевшую, Гена, горюя, повесил на спинку стула.
– М-да, накрылась шкурка-то, завтра колом стоять будет, – двусмысленно посочувствовал дед. – Ну я пошел, Зойкину ногу посмотрю. Не дай бог – сломала. Гальюн, если что, налево.
– А душ?
– Объелся груш, – буркнул сосед и вышел, погасив свет.
Спецкор расправил простыню, улегся под одеяло, но уснуть не мог: бил озноб, а потом, когда согрелся, напала иная дрожь – влекущая. Из форточки, колебля полуоторванную марлю, сквозила прохлада, напоенная свежим покоем, какой охватывает природу после грозового содрогания. Радостный трепет передался и Гене. Он, замирая сердцем, осознавал: в Тихославле с ним, кажется, случилось то, от чего вся жизнь может измениться, как степь, вчера еще уныло неоглядная, а сегодня – ослепительно алая от раскрывшихся миллионов диких тюльпанов. Он видел такое преображение, когда летал в командировку в Джамбул.
Кряхтя, вернулся дед, доложил, что у Зои всего-навсего растяжение связок, и плюхнулся на кровать, отозвавшуюся пружинным лязгом. Лежали в молчании. Москвич несколько раз перевернулся с боку на бок и вздохнул.
– Это ты сразу брось! – утешил Маркелыч. – Такую девку знаешь сколько выхаживать надо! И то – хрен выходишь. Тут один, райкомовский, колобок, считай, уж год к ней подкатывается – и все мимо трюма. Ты поспи! Может, приснится что хорошее. Я-то сам, как жену схоронил, только во сне теперь по бабам и прыгаю. Умри она лет десять назад, я бы еще к кому причалил. Нет, домучилась, когда и мне в холодный отстой пора. Смолоду я по бабью-то ох и покаботажил! А Верка у меня ревнивая была – до падучей. Аж пенилась! Вот и сквиталась…
– А Сталин вам зачем? – спросил спецкор, чтобы сменить тему. – Любите его, что ли?
– Любить-то мне его особо не за что. Он моему отцу десять лет без права переписки впаял. Понял, да? Но уважаю. Справедлив был. Собственного сына для Отечества не пожалел. Так и сказал: я, мол, солдата на маршала не меняю!
– Он и отца вашего не пожалел.
– Это верно. Но и батя, пока самого не взяли, тоже народ к стенке прислонял. Идейный был. От Бога меня ремнем отучал. Мать креститься при нем боялась – сразу в ухо. А без веры как без якоря. Вот и остался нам Иосиф Виссарионович…
– А Ленин?
– Тоже вроде ничего, но картавый. Ладно, парень, давай спать – я утром на анализы записался. Помру с диагнозом…
Во сне Скорятин изо всех сил бежал по бесконечному перрону, догоняя набиравший скорость поезд, и старался заглянуть в освещенное окно вагона, чтобы разглядеть женщину, сидевшую в глубине купе. Она была похожа на Зою и Марину одновременно. Но понять окончательно, кто это, не удавалось: пассажирка, закрыв лицо руками, плакала. Внезапно платформа кончилась, Гена оттолкнулся ногами от края – и полетел…
…В дверь постучали, и Мятлева звонко крикнула:
– Подъем!
– А?! Что?
– Пионерская зорька.
Он приземлился, открыл глаза и обнаружил в комнате солнечное утро. Как встал и отбыл в поликлинику Маркелыч, спецкор не слышал. Зоя, осторожно ступая на обмотанную эластичным бинтом ногу, аккуратно складывала на стуле вычищенную и выглаженную одежду гостя.
– Вставайте, будем завтракать! – и вышла.
Скорятин оделся и, по возможности утишая неизбежные гигиенические звуки, посетил скорбный туалет с древним чугунным бачком, обметанным каплями конденсата. Потом он умылся. Газовая колонка жутко шипела, а кран с резиновым наконечником выплевывал то ледяную воду, то кипяток. Стол в Зоиной комнате был уже накрыт. Библиотекарша испекла блинчики с изюмом, к ним подала густую желтую сметану в вазочке, а кофе заварила в старинной турке с костяной ручкой.
– Может быть, предпочитаете растворимый? – спросила она.
– Нет, не люблю химию.
Завтракая, он исподтишка осмотрелся. На стене полки с книгами, над проигрывателем портрет певца Юрия Гуляева, недавно умершего от рака. Из-за шифоньера выглядывает спортивный алюминиевый обруч, в углу стоит педальная швейная машинка, над креслом-кроватью – фото в ракушечной рамке: девочка, трогательно похожая на Зою, сидит под пальмой на лавочке, приникнув к молодой грустной женщине с гладкой учительской прической. Внизу – белесая витая подпись: «Гагры, 1970 год».
– Вы? – спросил он.
– Я с мамой…
По тому, как она это произнесла, стало ясно: мамы давно нет на свете, а папа если и был, то сплыл. Расспрашивать Гена не решился, помня завет тестя: «С женщинами как с бабочками: главное – не спугнуть».
– Изумительные блинчики! – похвалил московский обольститель.
– Это так, на скорую руку. Приезжайте летом! Я с земляникой пеку.
– А вот и приеду! На работу не опоздаете?
– Нет, отпрошусь – нога болит.
Скорятину страшно не хотелось уходить, но он понимал: засиживаться нельзя. Если хочешь вернуться, уйди раньше, чем надоешь. Спецкор встал и откланялся легко, элегантно – с необязательной улыбкой на лице и тоской в сердце. Гена заскучал, еще не перешагнув порог. Зоя, хромая, проводила до двери.
– Когда уезжаете?
– Не знаю. Мне еще надо встретиться с Веховым.
– Будьте осторожны, он очень нехороший человек!
У подъезда на лавочке сидели три старушки. Одна, в панаме, похожая на телевизионную Маврикиевну, читала «Новый мир», две других, в платочках, лузгали семечки. Рядом бродили куры и, склоняя набок головы, следили за шелухой, отлетавшей от впалых уст, гурьбой бросались на добычу, клевали, разочаровывались и снова с надеждой смотрели на пенсионерок, а те в свою очередь провожали московского гостя осуждающими взглядами.
…Булькнул мобильник – пришла эсэмэска от дочери: «Получила. Сп-бо!».
«Пжлста», – ответил отец и поискал сочувствия в добрых глазах Ниночки.
«На бабушку Марфушу тоже похожа…» – решил он и нажал кнопку селектора:
– Слушаю, Геннадий Павлович!
– Оль, я бы пожевал чего-нибудь…
– Ясненько. Чай или кофе?
– Чай. Зеленый.
Возле флигеля, под цветущей яблоней, сидел Вехов и сам с собой играл в дорожные шахматы. Крошечные черно-белые фигурки со штырьками втыкались в отверстия на доске, и никакая тряска в пути не могла помешать партии. Очень удобно! Бледное лицо правдоискателя было озарено чистой шахматной мыслью. Рядом с ним, на скамейке, лежал газетный сверток, перетянутый шпагатом.
– Вы ко мне? – глуповато спросил журналист.
– К вам… – вскинулся книголюб.
– И давно ждете?
– С вечера.
– Не понял.
– Значит, все это – правда?
– Что – правда?
– Водка, баня, голые комсомолки и прочие номенклатурные радости. Дешево же покупаются «золотые перья»!
– Что за чушь! Я попал под ливень. Пришлось ночевать у знакомых…
В доказательство он развернул плечи, хрустнув затвердевшей замшевой курткой.
– Шучу, шутка юмора, – на лице Вехова появилась перевернутая улыбка. – Да мне и не важно. Сам ненавижу, когда лезут в личную жизнь. Ах, она совсем еще девочка! Ах, как вам не стыдно! Стыд – часть удовольствия. Но не в этом дело. Вчера нам так и не удалось поговорить. Геннадий Павлович, у вас, надеюсь, найдется для меня десять минут? Вы ведь по моему письму сюда приехали?
– Отчасти.
– И Болотина, конечно, сказала вам, что я ворую у нее книги?
– А вы не воруете?
– Нет. Честное благородное слово.
– И книги, значит, не пропадают?
– Пропадали. Но клуб «Гласность» к пропаже отношения не имеет.
– А вы лично?
– К сожалению, имею. – Вехов виновато вздохнул.
– Можно поподробнее?
– «А из зала мне кричат: “Давай подробности!”», – кивнул правдолюб. – В библиотеке отличный КОД…
– Какой кот?
– КОД. Фонд книг ограниченного доступа.
– Ах, ну да…
– До революции Тихославль славился своей публичкой. Благотворители денег не жалели, особенно купец Стожаров. Он еще и богадельню построил. Там теперь санэпидемстанция. Маркел Сысоев его лично расстрелял у Троицы. Был у нас такой чекист с горячей головой. Чуть что – за наган, как Нагульнов.
– Слышал.
– Библиотека у нас роскошная! При большевиках сюда книги телегами свозили из усадеб. Мужики-то себе в избы мебель тащили, посуду, картинки с голыми нимфами. Рояль могли упереть для форсу, а книги без надобности, разве на самокрутки. Странный у нас народ, не находите?
– Нахожу.
– Потом, когда по списку Крупской фонды чистили, вредные издания здесь почему-то не уничтожили, а в подвале сложили. Предрик у нас был добрый: храмы не взрывал, книги не жёг, людей из ГПУ вытаскивал, семенной хлеб крестьянам возвращал, если чоновцы лишнее отбирали…
– Это тот, который со Сталиным под Царицыном воевал?
– И это уже знаете? Профессионал! Он и от Маркела город избавил. Пробился на прием к Сталину, вернулся, вызвал Сысоя в райком и при всех партбилет отобрал. А без партбилета долго тогда не жили, как без печени. Ну не важно…
– А что же важно?
– Важно то, что у нас в Тихославле есть такие книжки, каких и в Ленинке не добудешь. Улавливаете?
– Нет, пока не улавливаю.
– Ладно, придется со всеми подробностями. У моего брата доступ к ксероксу. По работе. Не знаю, как у вас в Москве, а у нас эта штука еще в редкость. Я ему отдаю книги, а он, когда ночью дежурит, копирует. Брат ксерит, а я отвожу… Нет, сначала переплетаю. Люблю это дело. Переплести редкую книгу такое же удовольствие, как одеть красивую женщину…
– Да вы поэт! А книги, значит, из КОДа берете?
– Да. Понемногу. На одну ночь. Утром они уже на полке стоят.
– Для себя ксерите?
– Не совсем. Излишки сдаю народу. В Москве, на Кузнецком. Езжу в первопрестольную пару раз в месяц.
– И хорошо идут?
– Неплохо. «Заратустру» недавно за пятнашку сдал. Ренан по десятке ушел. Арцыбашева хорошо берут, но особенно Каменского…
– Каменского? Странно. Его же в «Библиотеке поэта» недавно издали.
– Нет, не Василия, не футуриста, а Анатолия Каменского. Декадентская эротика. Наш ответ Мопассану и Ренье.
– Вы что заканчивали?
– Ромгерм. В Ярославле.
– А кем работаете?
– Дворником, разумеется. Очень удобно: утром метлой помахал – и весь день свободен. Служебную комнату дали. Там и переплетаю. А что еще нормальному человеку в этой стране делать, чтобы не замараться? Только и остается – книжки читать да девушек любить.
– Но ведь книги-то пропали?
– Накладка вышла. Брат пакет в автобусе забыл.
– Как забыл?
– Просто. А как Достоевский «Бедных людей» у извозчика забыл?
– Ему, кажется, вернули?
– А Косте не вернули.
– Ну и повинитесь, заплатите штраф. Книги-то, небось, копейки, по инвентаризации, стоят?
– Не могу. Одного человечка сильно подставлю.
– …который вам эти книги выносит из фонда?
– Да. А Болотина и посадить может. Самодержица! Раздавит девчонку и не заметит.
– Какую девчонку?
Вехов вздохнул, нагнулся, поднял с дорожки камешек, шагнул к высокому библиотечному окну и привычно бросил в стекло. Вернувшись, он улыбнулся и по-ленински прокартавил:
– Конспир-рация, батенька. А вот объясните мне, Геннадий Павлович! Я вчера вас внимательно слушал, и вы показались мне человеком мыслящим…
– Спасибо.
– Не за что. Скажите, может быть, это все напрасно?
– Что именно?
– Ну, эти… перестройка, гласность, ускорение… больше социализма… вперед к Ленину… цивилизованные кооператоры…
– А вы разве не хотите, чтобы все изменилось?
– Это возможно?
– Думаю, возможно, если не отступим и не оступимся, – Скорятин ввернул любимую фразочку Исидора и брезгливо поежился.
«Бриковщина какая-то!»
– А вот я думаю: нет! – повертел головой книгоноша. – Можно, наверное, завалить прилавки колбасой и винищем, как в вашем Париже, набить полки книгами, а вешалки – тряпьем. Но куда вы денете этот убогий народ с его рабской историей? Сначала под варягами кряхтели, потом – под хазарами, триста лет – под татарами. Едва выкарабкались из-под чужой задницы, пожалуйте в крепостные! И еще триста лет. Царь-батюшка освободил, так ему на радостях бомбой ноги оторвали и под коммуняк легли. Свобода нашему народу-уроду нужна только для того, чтобы не мешали выбрать новое ярмо. Понимаете, у нас обмен веществ рабский. Мы на воле чувствуем себя, как цепной пес без будки…
Гена слушал Вехова, смотрел на его желчно-вдохновенное лицо и дивился. Сам не в восторге от доставшегося ему Отечества, он напрягался, если кто-то при нем слишком уж измывался над страной. Иногда, утратив осторожность, даже схлестывался с мымринскими «отказниками», хотя оспаривать их веселое инородческое презрение было трудно: ты кипишь, а они похохатывают. «Чужая кила́ всегда весела!» – как говорила бабушка Марфуша. Но Вехов – это другое: тут не смешливое отчуждение, а нутряная, кровная ненависть, которая воспаляется только меж родней и доводит до отцеубийства…
– Как вы относитесь к нейтронной бомбе? – спросил переплетчик, и на его лице снова появилась перевернутая улыбка.
– Что? Не задумывался…
– А я вот хорошо отношусь. Она ведь только людей и скотину убивает. А города, леса, реки не трогает. И это правильно! – тихославльский мыслитель передразнил станичный говорок лопотуна Горбачева. – Василий Блаженный пусть себе стоит где стоял. И Эрмитаж, и Кижи, и наша Троица. А вот вместо обосранных буренок надо завезти настоящих коров.
– И людей? – уточнил Скорятин.
– Да, и людей. Нормальных. Свободных.
– Из Америки?
– Лучше из Канады. В Штатах негров много.
– Вы это серьезно?
– Шучу, конечно!
Послышался хруст шагов по гравиевой дорожке. Словно дождавшись конца монолога, из-за цветущих куп бочком вышла девушка с милым, но до обиды прыщавым личиком. Гена видел ее вчера мельком в зале и запомнил глаза, робко-преданные. Она тоже хотела что-то спросить, поднимала руку, по-школьному подпирая локоток ладошкой, но потом смущалась и опускала. С первого взгляда было ясно: бедняжка влюблена в Вехова до самозабвенья, до собачьей преданности, когда невозможно взгляд отвести от хозяина или потерять в порыве ветра его повелевающий запах.
– Это Катя, – представил переплетчик.
– Доброе утро, – она смотрела на москвича с выжидающей готовностью, мол, что прикажут: хвостом вильнуть или вцепиться в горло.
– Я все рассказал. Геннадий Павлович обещал нам помочь. Ведь так?
– Угу, – кивнул Скорятин, сочувственно разглядывая юницу: мордашка, конечно, простенькая, но фигурка подстрекательная!
– Правда? – обрадовалась она и плаксиво, как, видимо, учили, зачастила: – Простите, я не хотела… на одну ночь… так получилось… спасибо!
– А кто еще знает, что книги выносите из фонда вы? – голосом доброго следователя спросил спецкор.
– Зоя Дмитриевна. Но она не скажет.
– Почему?
– Она тоже иногда берет себе что-нибудь почитать, – пролепетала Катя и опустила глаза.
– Ну и прекрасно!
– Ладно, киса, иди, а то обыщутся! – приказал Вехов, махнув рукой, как дрессировщик.
– Не обыщутся, – улыбнулась девушка, продлевая минуты счастья рядом с повелителем. – Зоя Дмитриевна сегодня на работу не вышла. Она вчера под ливень попала и ногу подвернула.
– Ах вот оно даже как! – Книголюб с уважением посмотрел на москвича. – Все равно иди! Нам с Геннадием Павловичем надо посекретничать.
И она покорно пошла к библиотеке, оступаясь на гравии и часто оглядываясь на Вехова, словно запасаясь им впрок. Тот несколько раз бодро кивнул девушке и даже сделал ручкой.
– А вот скажите, сами вы тоже собираетесь погибнуть под бомбой или где-нибудь спрячетесь? – спросил Скорятин, когда Катино платьице в последний раз мелькнуло меж беленых стволов.
– Я же пошутил.
– В шутку и спрашиваю.
– В шутку? Знаете, я вас вчера слушал-слушал и решил все-таки свалить отсюда. Знакомая евреечка документы оформляет, может вывезти по старой дружбе под видом мужа.
– А как же Катя?
– Она девочка отзывчивая. Не пропадет. Вы-то как посоветуете – ехать или нет? Там в самом деле хорошо?
– Как вам сказать? Жизнь мучительна, даже если все у тебя есть. А может, от этого еще тоскливее. Во всяком случае, тамошний народ не показался мне особо счастливым. Как мы… Одеты только получше и в очередях не стоят.
– Зачем же вы вчера расписывали Париж? Сто сортов колбасы, двести вина.
– Людям нужна мечта, иначе из болота уравниловки не вылезти.
– «Болото уравниловки» – это хорошо! Сами придумали?
– Не помню… – раздраженно ответил любимый сотрудник Исидора Шабельского.
– Скажите, Геннадий Павлович, вы в верхах, наверное, общаетесь, ничего про частные издательства не слышали?
– Поговаривают. Но на днях Петя Старчик конференцию редакторов Самиздата собирал. Что-то там учредили….
– Может, все-таки разрешат? При НЭПе много издательств было. А у нас теперь ведь вроде как новый НЭП.
– Хотите свое дело организовать, вроде Зелепухина?
– Хочу. Но не вроде…
– Как назовете?
– «Снарк».
– Снарк?
– Да. У Кэрролла есть поэмка «Охота на Снарка».
– Не читал…
– Она еще не переведена.
– И кто же такой – Снарк?
– Никто не знает.
– Охотятся, сами не зная на кого? Странно…
– Почему? Разве вы знаете, что такое перестройка и чем она кончится? – Вехов протянул Гене сверток. – Это вам – от меня…
– Нет-нет, не надо!
– Пустяк. Возьмите! У Кати мать-инвалид – руку в конвейер затянуло, и маленький брат. Не выдайте самодуре, смилостивьтесь!
Произнеся последнее слово с насмешкой, переплетчик тряхнул волосами, в последний раз одарив москвича своей перевернутой улыбкой. Потом он сложил дорожные шахматы и откланялся. Только сейчас Скорятин заметил, что доска самодельная и, в отличие от магазинной, ее можно схлопывать, не вынимая фигурки из гнезд, чтобы потом открыть и продолжить игру с прерванного хода. Спецкор смотрел вслед уходящему умельцу и дивился затейливости провинциальных умоблужданий.
Зайдя во флигель, Гена принял душ, переоделся в чистое и, развернув бандероль, нашел там книги в веселеньких обложках, пахнущих клеем: «Санин» Арцыбашева, «Нежная кузина» Ренье и «Параболы» Кузмина.
«Грамотно, на все вкусы», – думал москвич, листая стихи и выхватывая глазами бледные ксероксные строчки:
У платана тень прохладна.
Тесны терема князей, –
Ариадна, Ариадна,
Уплывает твой Тезей!
Он вдруг вспыхнул, затомился, причесался, прыснул в лицо «One man show» и решительно направился к Зое, чувствуя в чистом теле нарастающий гул любви. Людей на улицах было мало, они еще в те годы ходили на работу. Попадались дети, пенсионеры да мамаши, будущие – с животами и настоящие – с колясками. Иные прохожие, узнавая знаменитость, светлели лицами, кивали и здоровались. В гастрономе он купил мелких яблок, чтобы явиться к Мятлевой не занудой, а участливым проведывателем бедной больной. Стоя в очереди, журналист привычно огляделся, запоминая: холодильная витрина мясного отдела была безвидна и пуста, лишь на эмалированных лотках остались потеки старой крови. Гегемоном консервного ряда оказался «Завтрак туриста» с перловкой. За мукой выстроилась угрюмая очередь. В нагрузку к яблокам давали килограмм прошлогодней квашеной капусты. Москвич за нее заплатил, но не взял.
Шагая к Зоиной «хрущевке», столичный мечтатель придумал слова, с которыми переступит порог: «Фирма “Заря”». Срочная доставка свежих фруктов и комплиментов». Но, подойдя к ее дому, подняться и позвонить не решился: накатило горячечное подростковое смущение. Полчаса простоял он с кульком под деревом напротив окон. Чтобы собраться с духом, пошел вдоль монастырской стены, кое-где порушенной или подпертой контрфорсами из силикатного кирпича. В некоторых местах старинная кладка как на фундамент опиралась на вросшие в землю огромные гранитные блоки, впритирку подогнанные друг к другу. Арочные ворота обители, смотревшие на Волгу, были забраны сваренными железными листами, выкрашенными в зеленый цвет. На запертой изнутри двери желтела трафаретная надпись «Посторонним вход воспрещен». В пустой грязной нише вместо надвратной иконы торчала опорожненная бутылка водки, неведомо как поставленная туда озорниками. Но обезглавленный изразцовый барабан высокого собора, кажется, начали реставрировать. Обойдя монастырь, Гена вернулся к Зоиным окнам, постоял, отдал яблоки пробегавшему мальчишке-прогульщику и побрел обедать к Зелепухину.
Самого Кеши в заведении не наблюдалось, гостя встретил хамоватый парень в косоворотке. Скорятин, как завсегдатай, взял окрошку, салат, рубец в томате и, конечно, попросил вчерашнего морса. Он по-свойски подмигнул официанту, однако напиток оказался безалкогольным, да еще разбавленным. Когда подали счет, москвич крякнул – в редакционной столовой такой обед стоил дешевле раз в пять. Уходя, он с обидой глянул на золотую цепь деда-основателя, подумав, что кабатчика не любили в городе за дело.
Оставалось нанести прощальный визит Болотиной. Она продержала его полчаса в приемной, хотя, как выяснилось, посетителей у нее не было. Но спецкор терпеливо ждал, рассматривая мраморные пушкинские бакенбарды и соображая, как бы поэт поступил на его месте. Наверное, залез бы к Зое по водосточной трубе и сломил бы девичье недоумение африканской страстью. Наконец заскучавшего гостя позвали.
– Ах, это вы? – молвила директриса, глядя на вошедшего, как царица на нерадивого кучера.
– Вот… проститься…
– Выспались?
– Да, спасибо!
– Говорят, вы вчера под ливень попали.
– Чуть не утонул.
– Рада, что не утонули. Ну и что вы собираетесь написать в вашей газете?
– Ничего. Елизавета Михайловна, давайте сделаем так: вы забудете, что у вас пропали ценные книги, а я забуду, что вы изгнали из библиотеки клуб «Гласность». Это, знаете, совсем не в духе времени.
– Вы меня пугаете?
– Просто напоминаю о сложных отношениях Петра Петровича с центром, – Скорятин, как опытный интриган, поднял на Болотину постный взгляд. – Иначе я бы тут не сидел, хватило бы звонка Суровцева моему главному. Ведь так? Стоит ли устраивать шум из-за пустяков накануне партконференции? Ничего, что я так откровенно?
– Странно. Вчера вы были настроены куда решительнее! Что же случилось за ночь?
– Ничего особенного. Я провел маленькое журналистское расследование и кое-что выяснил.
– Говорили с Веховым?
– Говорил.
– Ну и как?
– Сложный человек.
– Мягко сказано. И что выяснили?
– К пропаже книг клуб «Гласность» отношения не имеет.
– Но ведь кто-то их взял?
– Послушайте, вам что дороже – книга или человек?
– Принципы.
– Может, поступитесь хоть раз принципами?
– Попытаюсь. Вы сильно вчера промокли?
– Сильно.
– Я так и думала.
В кабинет заглянула секретарша.
– Елизавета Михайловна, водитель из райкома приехал.
– Ну, Геннадий Павлович, счастливого пути! – Она, поморщившись, встала, вышла из-за стола и жестко пожала гостю руку. – Надеюсь, хоть что-нибудь вам у нас в городе понравилось?
– Еще как понравилось!
– Языческую Троицу посмотрели?
– О да!
– Чего у нее попросили?
– Разрядки напряженности.
– Тоже дело хорошее… – владычица благосклонно кивнула. – Не забудьте поставить печать на командировочное удостоверение…
Выйдя от Болотиной, Скорятин забежал во флигель, схватил чемодан, и через минуту знакомая «Волга» уже трясла его по булыжной мостовой. За рулем сидел Николай Иванович, хмурый, как председатель похоронной комиссии.
– А где Илья? – спросил Скорятин.
– В область услали.
– У него же мое командировочное удостоверение.
– Ничего не знаю.
Музейная часть города быстро перешла в деревенский пригород. На выезде ждали, пока пастух, страшно матерясь и хлопая длиннющим кнутом, сгонит низкорослых и действительно грязных коров с шоссейного асфальта. Ехали молча. Иногда шофер ругал встречные машины за невымытый кузов или заляпанное лобовое стекло.
– Сами-то по улице в грязной одежде не ходят. А машина – та же одежда, только с колесами. Штрафовать нерях надо. Как у Зелепухина, понравилось?
– Вчера хорошо было. Очень! А сегодня зашел… – наябедничал спецкор. – Дорого и невкусно. В морс, кажется, сырой воды налили, живот крутит…
– Я же говорил: мироед!
«Мироед», «короед», «дармоед», «муравьед», «муравед», «минарет», «меламед», «мусагет», «мясоед», «Моссовет», «мяса нет»… – по привычке он крутил в голове слова и глядел на Волгу. Река мелькала между янтарными корабельными соснами, искрясь ослепительной рябью. Он вдруг вспомнил Зоину опухшую лодыжку и громко, прерывисто вздохнул.
– Ни к черту дорога, – согласился водитель. – Одни выбоины. Вот вы человек московский, лучше в политике разбираетесь, объясните хуторянину: ускорение – это от глупости или от вредительства?
– Ни от того, ни от другого. Это – стратегия.
– Ах, так? Почему же в «Правде» то одно пишут, то другое, то так, то эдак, а то и разэдак? Каждую неделю что-нибудь новое придумывают. Вчера у них Ленин все наперед знал, а сегодня он чуть ли не в беспамятстве пять лет пролежал. Мол, мозг высох до грецкого ореха. Не поспеваю я как-то…
– Жизнь ускоряется, ничего не поделаешь. Что тут плохого?
– А то плохо, что человек к новому должен привыкнуть, обжиться, чтобы польза пошла. Я вам как шофер с тридцатипятилетним стажем скажу: если каждую неделю дорожные знаки переставлять да разметку менять, будет авария, крушение! Даже опытный водитель баранку не туда крутанет и под «КамАЗ» влетит…
На вокзальной площади, полупустой, как и в день приезда, гранитный Ленин все так же тянулся рукой к будущему. На голове монумента устроился голубь, издали похожий на жокейскую шапочку Коровьева. Николай Иванович вынул из багажника длинный газетный сверток, сочившийся рыбьим жиром.
– Что это?
– Из райкома просили передать.
– Колобков?
– Поднимай выше! Чем-то вы нашему Рытикову глянулись. От него стерлядка. Долго не держите – пропадет. Горячая…
Бросив вещи и наполнив купе копченым соблазном, Скорятин смотрел в окно на прощальную суету перрона. Он смутно мечтал: вдруг среди провожающих, как в кино, появится Зоя – запыхавшаяся, прихрамывающая, ищущая, раздвинет толпу, ворвется в вагон, обнимет и, улыбаясь плачущими глазами, попросит: «Не уезжай ты, мой голубчик!» И он не уедет. Мятлева, конечно, не появилась, зато нарисовался Вехов. Он шагал по платформе в сопровождении юноши, еле тянувшего большую спортивную сумку. Шли они в хвост поезда, к плацкартным вагонам. Книголюб давал какие-то указания, а парень (похоже, младший брат) кивал, время от времени перекладывая ношу из одной руки в другую.
«А дело-то у них поставлено!» – подумал журналист.
Едва тронулись, в купе вбежал толстячок в мятом плаще, шляпе и с портфелем, словом, классический советский командированный.
– Ого! – воскликнул он, шумно втянув деликатесный запах. – Как знал, прихватил с собой! – и вынул из портфеля бутылку «андроповки».
Гена ощутил в желудке сосущий голод и нажал кнопку селектора:
– Готово?
– Остывает.
– Заносите!
Вошла Ольга и поставила перед шефом тарелку с куриной котлетой, разогретой в микроволновке.
– Выпьете?
– Попозже. Мне в «Агенпоп» еще надо заехать.
– Надолго?
– Как получится.
– Геннадий Павлович, а можно спросить?
– Попробуй.
– Как вы относитесь к брачному договору?
– Я? Хм… Допустим, как к гарантии.
– К какой гарантии?
– Автомобильной. Помогает, пока со всей дури под «КамАЗ» не въедешь.
В третий раз с Веховым судьба свела Гену, кажется, в начале нулевых. Кошмарик бросил Скорятина на избирательную кампанию губернатора Налимова, по прозвищу Нал. Виктор Митрофанович поднялся в 90-е на перепродаже колхозных угодий, а потом сменил Рытикова, разворовавшего область дотла и осевшего в Монако. Его пентхаус с окнами на казино «Монте-Карло» входит теперь в число достопримечательностей княжества. Экскурсовод сообщает, делая секретное лицо:
– А там, левее, самая дорогая в Монако квартира!
– Где-где?
– Вон, с пальмами на крыше. Ее сначала хотел купить арабский шейх, но не потянул. Досталась русскому миллионеру.
– Как фамилия?
– Рытикофф.
– Не слышали.
– М-да… Какая же богатая страна – Россия! Можете попытать счастья в рулетку. Новичкам, говорят, везет…
И пока азартные мужья спорят с бережливыми женами, сколько ставить на красное, пять или десять евро, гид вспоминает свою кооперативную «двушку» с окнами на Финский залив, «шестерку» с надсаженным движком, несметную весеннюю корюшку и университетскую кафедру философии, где под чай с сушками так хорошо спорилось о физике Божьего Промысла.
Налимов – под стать своей фамилии – оказался мужиком откормленным и гладким. Он был покрыт несмываемым средиземноморским загаром и тронут той сонной усталостью, которая часто поражает очень богатых людей. Губернатор даже говорил неохотно, точно с каждым сказанным словом с его счета списывался миллион. Однако выборы есть выборы, с народом надо встречаться, общаться, обещать, очаровывать, заверять, врать: мол, первый срок – цветочки, ягодки – впереди! Для этого добыли «метеор», загрузились выпивкой со жратвой и поплыли по Волге.
В каждом городке их ждал президиумный стол, увитый цветами, как траурный поезд. Команда кандидата, человек десять, рассаживалась на сцене. Сначала крутили предвыборный ролик, снятый за безумные деньги модным режиссером Ромовым, который прославился экранизацией «Героя нашего времени». В новой версии Печорин, борясь со скукой, долго и мучительно склонял к коллективной оргии сразу трех своих подруг – Белу, княжну Мери и Веру. После разнузданного свального греха, снятого с гинекологической дотошностью, Бела бросилась в пропасть, княжна Мери вышла замуж, Вера вернулась к супругу, а Печорин застрелил Грушницкого, пятого участника групповухи, – за неуважительный отзыв о прекрасных дамах. Впрочем, предвыборный ролик, в отличие от фестивальной ленты, был слеплен без затей: Налимов шел по грудь в колосящихся хлебах, горстями пил волжскую воду, вручал компьютер сельским школьникам и скромно на веранде чьей-то плохонькой дачки чаевничал с женой Валентиной, хотя давно ее бросил и сослал с ребенком на Кипр. Посмотрев кино, электорат, задетый за живое, задавал вопросы – в микрофон или письменно. Поступавшие из зала бумажки носила Карина, мисс Средняя Волга, обладательница ног, бесконечных, как великая русская река.
Пресс-секретарь губернатора, юноша с улыбкой мнительного зайца, исказив лицо мыслью, вникал в вопрос и шептал что-то в петлистое ухо кандидата. Нал вздыхал, тяжело осматривал свиту и кивал одному из присных. Тот, вскочив, как черт на пружине, запевал о лучезарном будущем областной жилищно-коммунальной системы. Другой вещал из-за баррикады икебан о бесповоротной ликвидации ветхого жилья в отдельно взятом населенном пункте. Третий, лучась, сулил Интернет в каждый дом, а малоимущим детям – компьютерную «мышку» в дар. Под занавес старуха, одетая в застиранную гимнастерку, врывалась, дребезжа наградами, на сцену, обнимала, целовала и осеняла кандидата крестным знамением от имени всех фронтовиков. То была актриса облдрамтеатра Ира Почепец, лет сорок назад она сыграла юную партизанку и с тех пор не выходила из образа. Зал аплодировал стоя.
Но, конечно, не всегда шло гладко. Порой какой-нибудь правдоискатель протыривался к микрофону и вопрошал, рыдая:
– Виктор Митрофанович, сейчас вы на пятьдесят шестом месте в русском списке Форбса. Где будете к концу второго срока?
По рядам сподвижников пробегала судорога возмущения, а Нала, напротив, охватывала зевотная тоска. Отважная партизанка Почепец заслоняла обиженного своей медальной грудью и кричала: «Да я тебя, коммундила проклятый, на передовой за такие слова шлепнула бы!» (Во время войны Ира едва родилась.) Наглеца сгоняли, а из разных концов зала вопили заступники.
– Как не стыдно! Человек хочет людям помочь! Залил глаза-то с утра! – голосили женщины.
– И хорошо, что богатый! Воровать не будет! Все народу достанется! – неуверенно вторили мужики.
Теток вдохновляли продуктовые дары, выданные накануне, а их злоупотребляющих супругов – наборы «Три богатыря»: водка, перцовка и старка. Продукт, кстати, местный, со спиртзавода, записанного на Геру, губернаторского сынишку от первого брака, редкого обалдуя, разбивавшего по «ягуару» в квартал. Чтобы сгладить неловкость, к микрофону выдвигался глава района и баял, дескать, много лет знаком с Виктором Митрофановичем по совместной работе и заявляет ответственно: более кристального человека не было, нет и не будет. Избиратели с пониманием кивали, они-то знали главу как лютого взяточника, давно перешагнувшего черту, отделяющую здоровое русское мздоимство от клептомании.
Когда вопросы иссякали, кандидат тяжело вставал и, вяло распахнув руки, говорил истомленным басом:
– Я вас люблю! Вперед, к процветанию, – через веру, труд и честность!
И осенял себя крестным знамением.
За этот избирательный слоган столичная пиар-фирма «Котурн» слупила с него сорок тысяч баксов. Совсем, кстати, не дорого. Следом на сцену выбегала народная певица Евстигнея. Сгибаясь под гнетом неимоверного кокошника, усеянного жемчугами размером с картофель, она плясала и пела с коренной заполошностью:
Эх, мать-перемать, Левый берег не видать!
Тем временем, выпив и закусив, предвыборный десант загружался на «метеор» и плыл дальше. Судно на подводных крыльях отыскали, кстати, в затоне, срочно отремонтировали за безумные деньги, выгородив «люкс» для кандидата с Кариной. «Метеор» летел по-над матушкой Волгой, рассекая волны, со скоростью семьдесят километров в час. Это тоже был тонкий ход пиарщиков, знавших народную тоску по советским временам, когда «ракеты» сновали по рекам и озерам СССР, что твои водомерки.
После очередной встречи с избирателями бригада должна была отплыть в Тихославль и заночевать там, в охотничьем хозяйстве, записанном на дочь губернатора от второго брака Эвелину. По слухам, она давно просветлялась в каком-то тибетском вип-монастыре. Перед сном свита из деликатности увольнялась на берег. Оно и понятно: устав на общественном поприще, Нал отдыхал. До утра «метеор» мерно бился бортом о причал, а над водами носился хорошо поставленный Каринин стон.
Гена по указу Кошмарика, замутившего с губернатором общий бизнес, сопровождал кандидата в предвыборном заплыве, чтобы написать для «Мымры» очерк «Волга течет в будущее». Он высматривал в окошко купола Тихославля, смаковал двадцатилетний коньячок и предвкушал, как сойдет на берег, прогуляется по музейному городу, заглянет в библиотеку и с ленивой симпатией поинтересуется: «А вот была тут у вас этакая Зоя Дмитриевна Мятлева… Что вы говорите? Ну, надо же… Жаль. Очень жаль!» А если ответят: «Как же, как же! Она у нас и теперь работает. Позвать?»
И тут на Гену накатывало смятение: он страшился увидеть Зою через столько лет. Вдруг та, из-за которой он едва не сошел с ума, превратилась в усталую одутловатую тетку, отупевшую от библиотечных формуляров и ежедневного домоводства? Как тогда примирить жестокую очевидность с лучезарной девушкой, жившей в его памяти все эти годы? Расставшись, Скорятин, конечно, не думал о ней денно и нощно, но быстротечная тихославльская любовь пожизненно осталась в нем, как немецкий осколок в груди деда Гриши. Приводя внука в баню, тот всегда показывал на рытвину в боку, поясняя, будто в первый раз:
– Фашистский подарок. Как попал в 1943-м, так и сидит под сердцем.
– А почему не вынули?
– Военврач сказал: нельзя – умру.
Умер он, когда осколок вдруг «пошел», – так объяснил хирург в Склифе.
До Тихославля оставалось четверть часа плавного речного ходу, когда позвонили из избирательного штаба и доложили: в городе митинг, пристань блокирована пикетами, люди возбуждены, понаехали телевизионщики, даже уроды из ЮНЕСКО прискакали. Скорятин как раз приканчивал бутылку коньяка «Супер-Ной» с пресс-секретарем Аликом, налимовским племянником. Во всяком случае, босса тот называл «дядей Витей» и говорил о нем без костяной преданности, какую напускает на себя служивая челядь, зная о жестоком аппаратном наушничестве.
– А что там случилось? – спросил Гена, как бы почти не интересуясь.
– Народ бузит.
– Из-за чего?
– Из-за фигни. Дядя Витя гольф-клуб хочет… Европейского уровня! С гостиничным комплексом, с яхт-клубом. Чтобы симпозиумы проводить, как в Давосе. Тихославль-то – пряник, а не город!
– Вот и хорошо. Инвестиции пойдут, рабочие места…
– Конечно! Телки со всей Волги слетятся… – ухмыльнулся племянник, явно завидуя дядиной неукротимости. – Только народ у нас дикий. Азиопа! Уперлись. У них там, на берегу, какие-то каменюки…
– Языческая Троица?
– Точно. Ты-то откуда знаешь?
– Читал.
– Когда только успеваешь? Не дают они возле этой Троицы котлован рыть, а лучше места нет. Такой вид на Волгу! И рельеф как раз для гольфа. Дядя Витя даже благословение у владыки Афанасия получил, обещал камни не трогать, только огородить. Пойдет прибыль, сказал, спортивную школу построю. Нет, бузят. Вот скажи, с таким народом развитой капитализм можно построить? Уроды какие-то, а не население! Правильно Троцкий хотел их строем на работу водить…
– Ты про трудармию, что ли?
– Про нее. Дядя Витя считает, это единственный выход.
«Метеор», сбросив скорость, плыл мимо Тихославля. В закатном солнце пылали купола, затмевая осеннюю желтизну леса. На стрелке, разделяющей Волгу и Тихую, все так же стоял храм, но не блеклый, как прежде, а ослепительно белый. Детинец на горе стал выше, новее, затейливее. Видно, за минувшие годы надстроили оглоданные веками стены. Появились кровли из красного теса с коньками. Да еще воткнули сбоку ретрансляционную вышку, вроде гигантского шампура.
На ярусах бело-голубого дебаркадера, напоминавшего старый колесный пароход с обрубленными носом и кормой, толпился народ. Вдоль борта растянулись транспаранты:
Скорятин оценил остроту тихославцев: дядя Витя при советской власти, недолго посидел в Мордовии за липовые наряды и продажу фондированных стройматериалов дачникам, но тема была табуирована, как добрачные связи принцессы Дианы. Считалось, Нал пострадал за любовь к свободе.
«Метеор» качался на волнах, и его медленно разворачивало течением.
– А чего встали? – спросил Гена.
– Человечка нашего забираем. «Наглядку» рассовывал, но не пошло. Как бы не прибили паренька, – пресс-племянник показал пальцем на берег.
С дебаркадера в большой катер спускался, увертываясь от тумаков, щуплый человечек, а народ швырял вниз какие-то белые брикеты. Наконец катер отвалил от негостеприимной пристани, задрал нос и, раздваивая пену, помчался на базу. Вскоре «метеор» мягко шатнуло, послышался скрежет спускаемого трапа. В окно было видно, как команда спешно перегружает с борта на борт «брикеты» – пачки книг. Кое-где оберточная бумага порвалась, и стала видна обложка с глянцевым Налимовым, бредущим по грудь во ржи. Пострадавший «паренек», придерживая оторванный ворот куртки, ни с кем не здороваясь, быстро прошел по салону на доклад в «люкс», откуда выставили взъерошенную мисс Среднюю Волгу. Его удаляющаяся сутулость показалась знакомой. И когда изгнанник почти сразу же вышел, точнее, вылетел от босса, Скорятин узнал книгоношу Вехова, постаревшего, жалкого, надменного, обиженного. Бодрясь своей перевернутой улыбкой, он, ни на кого не глядя, тяжело плюхнулся в кресло за спиной редактора «Мымры». Сперва Гена не хотел обнаруживать себя, но «Супер-Ной» сообщил сердцу теплое хмельное озорство, и журналист, просунувшись между зачехленными спинками, позвал:
– Господин Вехов, ау! Где же ваш лиловый смокинг?
Переплетчик, кажется, задремал и не сразу открыл страдающие глаза. Некоторое время он с удивлением смотрел на сдавленное креслами лицо и наконец узнал.
– А-а… Вы-то здесь что делаете?
– То же, что и вы!
– Неужели?
Он посмотрел на знаменитого журналиста, как бомж, обнаруживший в соседнем мусорном баке банкира Авена.
– Что-то вас в посольствах давно не видно, – поквитался Скорятин.
– Некогда.
– Ловите своего Снарка? Поймали?
– К сожалению, поймал.
– И кто же он?
– А вы не поняли?
– Какие еще книжки издаете?
– Всякие.
– Как там Катя?
– Какая Катя? – искренне не понял переплетчик.
– Зелепухин как там поживает? – поинтересовался Гена, на самом деле собираясь спросить про Зою. – Миллионщик небось?
– Зарезали Кешу. Давно. Дедово золото искали…
– А-а-а… Я думал, вы теперь где-нибудь на Майами.
– Уезжал. Вернулся.
– Что ж так?
– Ностальгия.
– А как насчет нейтронной бомбы?
– Теперь предпочитаю водородную! – ответил Вехов и закрыл глаза, показывая, что разговор закончен.
«Ну, хватит, хватит думать о ерунде!» – упрекнул себя Скорятин, сунул в боковой карман приглашение на премьеру и решительно встал, чуя зов в чреслах.
После того как он разлюбил Марину и потерял Зою, женщины стали в его суетной жизни чем-то вроде бутылочек воды, которые суют марафонцу – утолить на бегу жажду. Но с Алисой вышло иначе. Если раньше торопливые свидания с тарифными девицами и легконравными журнальными дамами были передышками между редакционным дурдомом и домашним бедламом, между сыто-пьяными командировками и редкими вспышками писательства, то теперь его жизнь превратилась в томительные перерывы между встречами с «меховой женщиной». Впрочем, до конца он так и не понимал, что это – последняя любовь или просто телесная «присуха», как говаривала бабушка Марфуша, болезненная плотская зависимость, вроде той, что привязывала его к Ласской.
Скорятин вышел в приемную. Ольга ела из пластмассового стакана ошпаренную китайскую лапшу.
– Вернусь через часок… – предупредил главред, оглядывая себя в зеркало и стараясь вобрать живот, а тот не втягивался, мстя за ночное обжорство. Бессонно бродя по квартире, Гена дважды заглядывал в холодильник.
Секретарша громко чмокнула, втянув свисавшую изо рта питательную бахрому, и спросила участливо:
– В «Агенпоп»?
– Да…
– Коля еще не вернулся.
– Доберусь на такси.
– Не забудьте взять чек, а то бухгалтерия не пропустит.
– Не волнуйтесь.
– Вы всегда забываете, а Заходырка с ума сходит.
– Свои заплачу. Не обеднею.
– Счастливого пути! – улыбнулась она, прекрасно понимая, что за час съездить в центр и вернуться невозможно.
Гена весело шел по коридору. Предвкушая встречу с Алисой, предчувствуя рыжий пламень ее любви, он был добр и снисходителен к слабостям подвластного люда. Заметив, как многоженец Сеня Карасик охмуряет возле водопоя юную практикантку, суровый редакционный вседержитель скроил расстрельную физиономию, а потом поощрительно осклабился: мол, плодитесь и размножайтесь, если есть на что. Встретив Апмелонова, отец коллектива еще раз похвалил репортаж о зверском убийстве старушки, не давшей внуку денег на кино.
– Получишь премию. Напомни Ольге!
– Неловко…
– Неловко, когда не спит золовка… – бабушкиной прибауткой ответил добрый босс.
Дверь в отдел искусства была настежь, там кипел стихийный субботник: ящики столов выдвинуты, папки вынуты, на полу разложены стопки старых рукописей, связки писем, вороха фотографий, давних оттисков и другие отходы редакционного организма. Телицына, превозмогая беременность, доставала бумаги из нижних секций. Ее мукам сострадал, сидя в кресле, Дормидошин. Главный редактор остановился. Бездельник, заметив шефа, бросился показательно помогать брюхатой растеряше.
– Ну как? – спросил Гена.
– Уже почти нашли! – ответила Телицына с обещающей улыбкой.
– Все перероем! – подтвердил Дормидошин.
– Не родите мне здесь раньше времени!
– Постараемся.
У корректорской он столкнулся нос к носу с Бунтманом, тот аж осунулся от неприятной встречи. Повелитель «Мымры», улыбнувшись, простил интригана. Полгода назад в передовой статье Гена по ошибке назвал знаменитого красного латыша Виллиса Лациса литовцем, а бюро проверки, как обычно, ошибку прохлопало. В сущности, ерунда, мелочь, в газете и не такое бывает. До сих пор, из поколения в поколение, передается знаменитый ляп в «Сухумской правде». На первой полосе шел официоз «Визит Анастаса Ивановича Микояна в солнечную Абхазию», а на четвертой – репортаж «Пополнение в Сухумском обезьяньем питомнике». Фотографии к текстам, как на грех, оказались одинакового формата. Верстальщик попутал цинковые квадратики: и на первой полосе очутился снимок мартышки, прибывшей из дружественной Индии, а на четвертой усатая физиономия легендарного члена Политбюро, про которого шутили: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». И что? Ничего. Микоян позвонил агонизирующему главному редактору и, смеясь, попросил: «Слушай, пошли мне десяток газеток, друзьям подарю. Пусть посмеются!»
Скорятин был требователен к качеству материалов. Если обнаруживался ляп, ошибка или «козел», на планерке стулья летали, строгие выговора лепились без колебаний, как высшая мера на передовой. А тут конфуз: ляп допустил сам шеф. «Свежая голова» Галантер из деликатности про ошибку босса на всякий случай промолчал, а редакция сделала вид, будто ничего не случилось. Так бы все и прошло незаметно, но гордые жмудины залупились. Чем мельче народ, тем обидчивее, а у «прибалтят» гонора вообще на целую Британскую империю. Вышел международный скандал. Позвонили из посольства и с настойчивым акцентом сообщили, что у них в истории своих сталинских подголосков хватает, поэтому не надо навешивать им еще и латышских красных стрелков. Скорятин завелся и ответил с глумливой вежливостью, что в Литве были не только сталинские подголоски, но еще и кровавые юдофобы из местных, о чем уважаемый советник может прочитать вскоре в статье «Вильнюсский Холокост».
Такой материал действительно был, его привез вместе с часами «Брайтлинг» Борька от О. Шмерца, когда прилетал повидать родителей. В трубке гневно задышали – и пошли короткие гудки. Через полчаса позвонил пресс-секретарь нашего МИДа и попросил не публиковать статью об уничтожении вильнюсских евреев, так как, вроде, там подумывают о сближении с Россией. После долгих уговоров Гена нехотя пообещал снять горячий материал из номера и вздохнул между прочим: мол, давненько никого из мымровцев не приглашали за рубеж в свите министра иностранных дел… Через месяц он летел спецбортом в Канаду на переговоры. Этому искусству превращать промашку в прибыток его обучил Исидор. Но, конечно, «золотому перу» было неловко за ляп перед сотрудниками. Обычно Гена вылизывал свои тексты до блеска, но, видно, размяк от Алисиного дурмана и потерял бдительность. А тут еще Дочкин донес, что Бунтман пустил по редакции шутку: «Генела промахнулся!» И главный, затаив гнев, несколько раз срезал остряку гонорар, обстоятельно топтал на планерках за малейшую оплошность и не отпустил на конференцию в Палермо, хотя все расходы брала на себя принимающая сторона. Но сегодня он и его простил, дружески потрепал по плечу, вызвав счастливое недоумение помилованного.
Заглянув к Жоре, Скорятин напомнил, чтобы «Клептократию» не сдавали в корректуру ни в коем случае. Упаси бог, кто-нибудь сольет в Интернет – тогда конец! Пусть полежит, а потом невзначай выйдет в «Отстое» у Рената. Не пропадать же такому текстищу! Если спросит гадина Заходырка, надо отвечать: «Главный стиль оттачивает!» Пусть побесится. Дочкин понимающе кивнул и, перейдя на шепот, стал бурно восхищаться статьей, мол, такой беспощадной оплеухи власть давно не получала, а так хлестко писать сейчас никто не умеет. Пигмеи! Был Юрка Чехочихин, но за длинный язык парня траванули – сгнил заживо.
– Гениалиссимус! – восхитился Жора. – Как это там у тебя? «…Иногда Кремль кажется мне разбойничьим замком феодала, мимо которого без мзды не проедет ни один обоз, не проплывет ни один караван. Кто знает, может, какой-нибудь барон фон Дрон за зубчатой стеной практикует “право первой ночи”…» Златоперый ты наш!
– Ладно-ладно… – автор поморщился от крупномолотой лести, но оценил, что соратник выучил текст наизусть.
– Ты надолго в «Агенпоп»?
– Туда и обратно.
– Без пальто?
– В машине тепло.
– Тяпнем, когда вернешься?
– Посмотрим.
– Мне ярославский автор «Серебряную казенку» привез. Спирт «Альфа», тройная очистка. А в «Кадушке» я взял белые грузди. Развесные. Из Вятки.
– Уговорил! – кивнул главред, чувствуя, как рот заполнился слюной, а душа затомилась тоской по теплой алкогольной безмятежности. – Поставь в холодильник.
– Водка должна быть холодной, а женщина горячей! – осведомленно кивнул искуситель. – Летишь в Египет?
– Скорее да, чем нет!
У входной железной двери за столом сидел охранник Женя и читал, как обычно, «Энциклопедию успеха». Напоминал он сытого кота, живущего в душевном согласии с мышами и собаками. Его обязанность состояла в том, чтобы, хмурясь, спрашивать у редакционных прихожан: «К кому и зачем?» Если посетитель путался, выдавая свою никчемность, страж должен был объяснить: день сегодня не приемный, рукописи не рецензируют, не возвращают, а телефоны отделов и электронный адрес написаны в выходных данных на последней полосе. Но охранник обычно, не дожидаясь ответа посетителя, углублялся в чтение своей суперкниги. В результате по коридору шлялся иной раз черт знает кто. Недавно забрел бомж и два дня жил в чулане для ведер и швабр. Если бы не страшный запах – обитал бы там до сих пор. И такие сторожа теперь везде, куда ни плюнь. Миллионы бесполезных мужиков в черной подогнанной униформе изнемогают от безделья. Гегемоны! Советская власть была диктатурой пролетариата, а нынешняя – диктатура секьюрити. При Сталине, любил говорить Исидор, полстраны сидело, а вторая половина охраняла. Теперь просто сидят и охраняют. Кого? Что? Сами себя? Никто не знает. Чем не тема для номера?
Увидев шефа, Женя вскочил и дурашливо отдал честь.
– Вольно! – отечески кивнул Скорятин, думая: «Выгнать бы тебя, дармоеда!»
Спускаясь вниз, он задержался на четвертом этаже – купил в магазине «Дринкс анд Дримз» у золотозубой кумычки Гюли бутылку «Абрау Дюрсо». В соседней кондитерской «Свит лайф» у волоокой армянки Сэды взял коробку с белыми шариками «Рафаэлло»: Алиса их обожала. В лавке «Тропикано» прихватил у таджика Али консервированные ананасы. Подойдя к «Меховому раю», он увидел на двери картонку с торопливой надписью:
«Уехала за товаром до 15.00»
В горле защекотала обида, которая в детстве предшествовала слезам, а теперь – тупой сердечной боли. Скорятин давно научился по-взрослому сносить оплеухи судьбы, предательства, обиды, разочарования, но если отменялось свидание с «меховой женщиной» – испытывал совершенно ребячье отчаянье. Превозмогая горе, он посмотрел на часы: без двадцати три. Возвращаться в редакцию бессмысленно, да и не хотелось нести объяснительный вздор: мол, такси не поймал, совещание отложили… Как это все надоело! Срочно бежать в Египет! Алиса обрадуется, бедная замоталась со своими шкурами, ведь у оптовиков надо найти задешево то, что можно потом продать задорого. А дураков, как известно, нет ни среди оптовиков, ни среди покупателей. Впрочем, среди покупателей попадаются: он вспомнил шубу с растянутой мездрой. Гену поразила странная мысль: а ведь она в своем «Меховом раю» занимается примерно тем же, чем он в «Мымре». Удивившись сходству профессий, главный редактор решил до возвращения любовницы скоротать время в книжной лавке «Палимпсест».
На третьем этаже, в конце коридора, ее держал Редников, тот самый подпольный прозаик, сочинивший роман «Центровые». Шаронов дал Гене на одну ночь слепую копию. Лихо написано, с тем желчным, непрощающим презрением, какое все тогда питали к социализму. Посадить автора не посадили, но в «совписовскую» литературу не пустили, точно дебошира в диетическую столовую. В 1991-м роман все-таки опубликовали, но в треске перемен книга прошла незаметно, так возвращается по амнистии душегуб, совершивший громкое, но забытое преступление. Впрочем, поначалу какой-то интерес к «Центровым» критика проявила, но Редников сдуру дал интервью: мол, я боролся за перемены к лучшему, а если бы мне сказали, что при капитализме путаны будут стоять шеренгами вдоль шоссе, я стал бы цепным псом советской власти. Тогда пустили слух, что он был платным стукачом, и лишили Соросовской стипендии. В лихие девяностые Редников для прокорма переводил Генри Миллера и книжки из серии «Улица красных фонарей». Когда читатели насытились срамотой и перестали хватать брошюрки про женщин, изобретательных, как Кулибин, и мужчин, стойких, как барсучьи султаны на гусарских киверах, он продал квартирку умершей матери и занялся мелкой книжной торговлей.
Обычно Редников сидел на стремянке в углу магазинчика и в ожидании нечастых покупателей читал Розанова или де Турайля, иногда «Бесконечный тупик» Галковского. Он отпустил окладистую бороду, но не благостную, как у батюшки, а клочковатую, с рыжими подпалинами, выдававшими в нем вольнодумца. Иногда бывший колебатель основ писал для «Мымры» эссе и рецензии – коротко, умно, зло и по делу.
– Как бизнес? – спросил, входя, Скорятин.
– Бизнес в «Газпроме». У нас тишина. За книгами пришел или так? Прочитал Эпронова?
– Не могу. Какая-то каша.
– Да, писатель не тот пошел. Думают, если в ЖЖ строчат, то и романы сочинять могут. Ерунда. Спьяну за столом все поют, без слуха и голоса, а в опере попробуй-ка! Современная литература – это опера без слуха и голоса. Выпил – спел. Возьми новый роман Карло Паэльи!
– А это еще что?
– Метафизика для дебилов. Очень хорошо идет. Людям нравится, когда автор еще глупее, чем они сами.
– Спасибо, я просто так зашел. А ты, значит, теперь совсем не пишешь?
– Так, понемногу мемуарю.
– О чем?
– О том, как диссиденты трахались без разбору и друг на друга в гэбню стучали.
– Когда издашь?
– Когда издохну. Найдут под подушкой – пусть печатают.
– А что так?
– Я теперь ученый: говорить правду можно только посмертно. Хотя все равно бесполезно. Вон в архивах раскопали, что подлец Лысенко на гения Вавилова доносов в НКВД никогда не писал, а гений на народного академика еще как писал, строчил даже. Оказывается, всю войну мы яровизированный лысенковский хлебушек жрали, а Николай Иванович кучу казенных денег по заграницам профукал. И что? Ничего. Так все и останется: Лысенко – урод, Вавилов – гений… Возьми книжку!
– Какую?
– «Расовые теории и геополитика».
– Не интересуюсь.
– Напрасно. Жизнь – борьба рас: на войне, в искусстве, в постели… Ну, купи книжку, жлоб, поддержи отечественного производителя!
– А у тебя есть что-нибудь издательства «Снарк»?
– Вспомнила бабушка, как девушкой была! Давным-давно закрылось. Хорошие книжки выпускали. Хозяин толковый был, разбирался. Помнишь. Но помер, и как-то странно, с фокусом…
– С каким фокусом?
– Забыл. Могу ребят спросить.
– Не надо.
– Вот еще хорошая книжка «Бей скаутов!». Ты был пионером?
– Был. А почему спрашиваешь?
– Жалко, всю жизнь нельзя оставаться пионером, просыпаться от горна в летнем лагере, делать зарядку, играть в «Зарницу», пить какао с кашей, подглядывать за девчонками в душе, сидеть под грибком на лавочке и читать до одури Жюль Верна, ждать, когда мамка гостинцы привезет. Я зефир в шоколаде любил…
– А сейчас?
– Сейчас диабет. Ты часто детство вспоминаешь?
– Часто.
– Это к смерти.
– Мне пора…
– Я пошутил!
– Я так и понял.
Скорятин не любил разговоры и даже мысли о неминучем конце, считая, что горевать заранее о неизбежном – бесполезно и вредно. Вот когда безносая сядет у изголовья, тогда будет время подумать и о потустороннем варианте. В Бога и вечную жизнь он не верил. Да, конечно, из элемента питания заряд не исчезает бесследно, переходит в иные виды энергии, но сдохшей батарейке-то какая с того радость? На похоронах он старался не глядеть в лицо трупу, озирался по сторонам, выискивая на плитах поминальные надписи в духе Зощенко: «Спи спокойно, сын, муж и отец, мы с тобой!». Ему нравились слова тестя: «Чем ближе старость, тем дальше смерть». Пани Ядвига Халява, как истая полька, сотворила из последнего пристанища Александра Борисовича миниатюрный мемориал с травкой, выстриженной, как выставочный пудель. Гена, будучи в Берлине, проведал могилку.
Гена был в нескольких метрах от «Мехового рая», когда дверь осторожно открыли изнутри. Он припал к стене, прячась и готовя сюрприз. Алиса выглянула, повертела рыжей головой, убрала картонку с надписью и скрылась. Из магазина вышел, поправляясь, Калид, в нем была ленивая гордость зверя, насытившегося самкой. Следом выскользнула ее рука и за ремень втянула индуса назад, видимо, для прощального поцелуя. Через мгновенье он показался вновь, блаженно улыбнулся, провел пальцами по губам и, прыгая через ступеньку, умчался. Продавщица еще раз выглянула, убеждаясь, что никто ничего не заметил, и затворила дверь.
Скорятин стоял, прижавшись спиной к стене, и чувствовал, как холодная оторопь проникает из мертвого бетона в слабеющее тело. Мимо прошаркал пенсионер, по виду запущенный вдовец, в руке он нес облезлую женскую сумку, из которой торчали скрюченные куриные лапы с длинными желтыми когтями.
– Тяжело? – спросил старик.
– Угу…
– Магнитные бури. Меня с утра шатает. Думал, не доеду. А как стал за птицу торговаться, отпустило. Угостить андипалом?
– Спасибо, уже лучше.
– Ну, смотрите… – и дед пошаркал дальше.
На сердце навалилась трепещущая тяжесть – такая бывает в паху, когда выпирает грыжа. В голове было пусто, лишь стучали, сталкиваясь, как деревянные шары, названия крепленых вин, популярных в советские годы: «Рубин», «Гранат», «Кагор». Так на журфаке в шутку называли великого индийского поэта Рабиндраната Тагора.
«Рубин». «Гранат». «Кагор».
Гена почти улыбнулся, но с силой сдавил ладонями щеки, не давая лицу рассмеяться: если захохочешь – уже не остановишься. Истерики ему еще на людях не хватало! Не помня как, он добрел до своего этажа и остановился перед черной дверью с кодовым замком и латунной табличкой:
От унизительного потрясения Скорятин забыл шифр, комбинацию четырех цифр, которые всегда нажимал автоматически. Гена заглянул в глазок видеокамеры, чтобы Женя, узнав шефа на мониторе, впустил, но замок почему-то не щелкал. Тогда главный редактор в бешенстве ударил кулаком по гулкой стальной двери. Безрезультатно. Он ощутил тошноту в сердце и положил под язык валидол, привычный с тех пор, как возглавил «Мымру». Держась за перила, обманутый любовник спустился на промежуточную лестничную площадку, повернулся спиной к снующим мимо людям и стал смотреть в большое окно. Пробка на перекрестке еще не рассосалась, но милиционер, похожий на подушку, исчез, зато несколько водителей, выскочив из кабин, размахивали руками, ругались. Снег шел так же густо и плавно, словно там, в небесах, кто-то специально отвечал за эту густоту и плавность.
– Геннадий Павлович!
Перед ним стоял Коля.
– Вы чего тут делаете?
– Вот, для дома купил, – он потряс пакетом. – Смотри, какой снегопад! Отвез?
– Ага. Только ваша Вика теперь в другом месте живет.
– Как она?
– Нормально. В губу кольцо вставила.
– Как маленькая. Ладно, пошли в редакцию! – он сделал шаг к лестнице и почувствовал сумрак.
– Вам нехорошо? – участливо спросил водитель.
– Да, что-то вот не пойму, аритмия, что ли…
– За грудиной не болит?
– Нет.
– Скорее всего, экстрасистолия, – Коля разбирался в медицине. – Погода! У меня теща третий день – в лежку.
Пока Скорятин тяжело поднимался по ступеням, шофер набрал на замке код, дождался шефа и, уважительно пропустив вперед, посоветовал:
– Вам лучше бы полежать!
«Это точно!» – подумал он и вообразил разбросанную по полу мягкую рухлядь и перламутровые женские ноги, скрещенные на смуглой спине содрогающегося индуса.
Рубин. Гранат. Кагор…
Жени на посту не оказалось. На столе лежала «Энциклопедия успеха», раскрытая на статье «Гороскоп и служебный рост». Сведения, необходимые для достижения жизненного триумфа, были почему-то набраны таким крупным шрифтом, точно о карьере тоскуют исключительно полуслепые граждане.
«Абзац котенку!» – мстительно подумал главный редактор и двинулся дальше по коридору.
Дверь отдела искусства была так же открыта. Телицына одна-одинешенька, без Дормидошина, сидела, пригорюнившись, среди бумажного хаоса.
– Нашли? – спросил прерывисто громовержец.
– Нет еще…
– Заявление на стол!
– Геннадий Павлович…
– Хватит! Не богадельня!
«А вот интересно: с ним, этим Маугли, она тоже всхрапывает? Или нет?»
Много лет назад он так же мучился, гадая, какова Марина с Исидором. Что происходит с женщиной, если она переходит к другому? На что это похоже? Вроде твоей рубашки, прилегающей к новому мужскому телу? Или все сложней: и твоя бывшая скорее напоминает распластанную рыбу, меняющую цвет в зависимости от дна, к которому приникла?
– Уже вернулись? – удивленно спросила Оля.
– Совещание отменили. Вот, купил зачем-то…
– А-а… Вас Оковитый разыскивал, спрашивал, почему мобильный не берете.
– Странно… – он обхлопал карманы и не обнаружил телефона.
Трубка лежала на столе, в бумагах, но, прежде чем соединиться, Гена взял за рыжий нос снеговичка, открыл створку окна, почувствовал холодный удар в лицо и вышвырнул Алисин подарок в падающий снег.
– Ну?! – спросил Скорятин, услышав в телефон голос друга.
– Баранки гну! Отбился наш иллюзионист. Ничего больше в этой жизни не понимаю. Он теперь еще и прессу курировать будет.
– Понятно. Спасибо.
– Не за что! Марине привет!
– Передам. Ты тоже… – начал было Гена и запнулся, вспомнив, что жена Оковитого год назад ни с того ни с сего выпрыгнула из окна. – И ты тоже… будь здоров!
Воротившись из Тихославля, Скорятин с вокзала позвонил жене и предупредил, что скоро будет. Мстить Марине расхотелось – Гена просто ее разлюбил. Любовь кончилась внезапно, как бензин в баке «жигуленка». А от безразличной женщины незачем сбегать. От таких уходят тихо, спокойно, по плану отступая на заранее подготовленный плацдарм, иногда ведут долгие арьергардные бои, доругиваясь, язвя прощальными упреками, признаваясь в былых и небывалых изменах, деля детей и совместно нажитое имущество. Но спецкор ругаться и делиться не хотел, он решил не торопясь подыскать жилье поближе к работе и лишь тогда покинуть обильную икебуцу Ласских.
Однажды, перед свадьбой, они в отсутствие родителей отдыхали в постели от добрачных, но уже дозволенных ласк. Марина вдруг встала, сделала таинственное лицо и принесла из спальни шкатулку, окаймленную серебряным узорочьем. Под крышкой оказались сокровища. Полный невежда в ювелирном антиквариате, Гена все же понял: перед ним богатства несметные. Он разглядывал цепочки и бусы, спутавшиеся, словно золотые и жемчужные змеи, перебирал камеи с античными профилями, витые браслеты, перстни с самоцветами, золотые раскрывавшиеся кулоны со старорежимными портретиками внутри. Невеста подцепила ажурное колечко с небольшим камешком, похожим на мелко ограненный хрусталь, и поднесла к пыльной солнечной полосе, пробившейся меж оконных портьер. «Хрусталь» вспыхнул, разметав игольчатые лучи всех цветов молодой радуги.
– Бриллиант? – догадался жених.
– Да! – подтвердила Марина с благоговеньем. – Карат! По шкале Рапопорта камень очень даже ничего!
– По какой шкале?
– Не важно.
– Наследство?
– Ну да…
– Дедушкино?
– Не смеши! Дед – ученый. От его брата остались.
– Ювелиром был?
– Нет, фининспектором. Нравится? – Марина отстранила руку, любуясь игрой граней.
– Может, лучше вот этот? – Гена показал на большой красный камень.
– Вот когда сорок лет вместе проживем, тогда, на рубиновую свадьбу…
– Мы сто лет проживем! – зашептал он и обнял, загораясь, невесту.
Но вот странно: привычно сплетаясь с ней, Скорятин вдруг вспомнил, как мать в минуты нечастых ссор с отцом, исчерпав упреки, свинчивала с пальца бирюзовый перстенек, подаренный мужем к десятилетию совместной жизни, осторожно клала на край стола и говорила, потупившись: «Все, Паша, собирай вещи!» Потом, конечно, мирились. Гена навсегда запомнил тот предсвадебный день, потому что впервые вместе со счастливым изнеможением ощутил какую-то неприязнь к Марине, точнее ко всем Ласским сразу. Классовую, что ли?
Приехав с вокзала, он хотел одного – рухнуть и доспать. В теле была дорожная ломота и несвежесть, какую всегда чувствуешь после ночи, проведенной на узкой полке под серой влажной простыней. Да и попутчик попался неудачный: выпив, храпел так, что дребезжали ложечки в стаканах. В прежние времена, примчавшись из командировки, Гена сразу же нырял под одеяло, к жене, вдыхал ее невероятный запах, шарил, проверяя целокупность выпуклостей, а Марина, не открывая глаз, умоляла хриплым голосом:
– Генук! Не буди, убью! В пять часов утра с родедормом уснула…
В то утро она встретила его в прихожей. Лицо светилось свежим, чуть торопливым макияжем. На ней был длинный шелковый халат, привезенный тестем из Китая: по черному шелку рябили чешуйчатые кольца дракона, косоглазый Горыныч словно обвивал тело жены, поместив добродушную усатую морду прямо на обильную грудь.
– Я тебе завтрак приготовила! – сказала Марина, оправляя соломенный локон.
Ласская знала, что, сделав новую прическу, тем более перекрасив волосы, она для мужа на некоторое время становилась женщиной повышенного спроса.
– Нравится? – спросила искусительница.
– А что на завтрак? Яичница?
– Не только. Форшмак.
– Ого! – «Значит, готовить завтрак вызывали с вечера тещу». – А где Борька?
– В Сивцевом. Поешь?
– Да, есть и спать.
– Ну уж нет! Сначала – в душ! – Она нежно потрепала его за ухо.
Смыв с себя железнодорожную липкость и въевшуюся в поры рыбную копченость, он съел яичницу, большой бутерброд с селедочным форшмаком и несколько тостов, намазанных малиновым джемом. Налив ему кофе, Марина стояла, опершись на мраморную столешницу финской кухни, и следила за жующим супругом с нежным добродушием, с каким простецкие бабы смотрят на своих уплетающих мужиков. Потом вздохнула и сказала:
– Геныч, я тебя жду!
– Может, вечером?
– Вечером мы идем на Таганку. А днем у меня интервью и примерка.
– Сейчас, только доем.
– И зубы не забудь почистить! Лучше мятной пастой.
«Боже мой! Я даже помню про джем и пасту! Через двадцать пять лет!» – Скорятин, вынув из кармана, порвал билеты на премьеру «Ревизора», аккуратно собрал, ссыпал в корзину глянцевые клочки и подумал:
«Не голова – а мусорный полигон…»
…Гена убедился, что совсем разлюбил Ласскую, когда вошел в спальню. Жена лежала поверх простыней, сомкнув согнутые в коленях ноги и закинув за спину руки, отчего грудь, оплывшая после родов, призывно поднялась, уставив в потолок морщинистые соски. Постельная крикунья, Марина никогда не навязывалась, уступая со снисходительной, дарственной улыбкой. Даже глубокой ночью, прежде чем забыться, выходила в соседнюю комнату и проверяла, уснул ли Борька. И вот теперь она лежала, предлагая себя, как свинина на прилавке. Он увидел ее окладчатые бока и вмятинки на обширных бедрах. Готовясь к встрече, она не только сходила к парикмахеру, но и выбрила подмышки: в безволосых впадинах краснели воспаленные, припудренные прыщики.
– Иди ко мне! – позвала Марина таинственным шепотом и, разведя колени, приоткрыла то, что ошеломляло, – срамную сокровенность, похожую на алый петушиный гребень, чуть склоненный набок. Но Гена лишь брезгливо удивился: как могла прежде волновать его эта, выпершая из чрева требуха? К тому же затейница, став на всю голову соломенной блондинкой, ниже талии осталась жгучей брюнеткой, и это вызвало у Скорятина невольную ухмылку.
– Ты чего улыбаешься?
– От счастья!
В поезде, ночью, бессонно ворочаясь, он понял, что больше не любит Ласскую, а теперь осознал, насколько сильно не любит ее. И спала она в Ялте с Исидором или просто вместе покупала бычков, теперь не имело никакого значения. Алеко охладел. С чего началось охлаждение, не важно, так на пепелище никто, ни победители, ни побежденные, не помнят уже, из-за чего началась война…
– Иди, иди ко мне! – томно позвала она.
Он представил себе Зою – и пошел.
Потом лежали и курили, стряхивая пепел в кулек, свернутый из листка отрывного календаря. После объятий, разочаровавших, кажется, обоих, Гену охватила не привычная благодарная усталость, переходящая в космическую нежность, а изнурительное отчуждение. Раньше после бурной, почти звериной близости он был обдуманно нежен, давая понять жене, что их животная схватка за наслаждение не отменяет высокой душевной связи. Марину, получившую арбатское воспитание, задевала малейшая словесная непочтительность Гены. Теперь же, размышляя о своем, муж отвечал на ее вопросы с небывалой небрежностью. Но она словно не замечала этого, хотя прежде мгновенно улавливала даже минутное мысленное отдаление Гены: «Ты о чем думаешь?» – «О тебе». – «Не ври партии!»
– Слушай, хотела тебе перед отъездом рассказать, но ты так быстро собрался. Даже не прилегли на дорожку. Я скучала!
– Я тоже. Так что ты мне хотела рассказать?
– Про Ялту.
– Там тепло?
– Тепло и вино хорошее. Но бывают же совпадения! Пошла на базар, стою, покупаю вяленые бычки… Ты даже еще не попробовал. А папа достал нам ящик «Родебергера».
– Где? – Он хотел встать с постели.
– В холодильнике, там же, где и бычки. Потом! От тебя будет пахнуть рыбой. Дослушай! Покупаю я бычки, вдруг слышу сзади голос: «Дамочка, берите с темной спинкой, они жирнее!» Оборачиваюсь: Шабельский! В дом творчества заехал поработать. Новую книгу пишет. «Раскол и революция».
– Поработал?
– Наверное. Он трудолюбивый.
– Это – да!
– Ты лучше ревнуй меня к Копернику!
– А ты меня – к Нефертити.
– Шабельский на тебя очень надеется. Ты нашел что-нибудь в Тихославле?
– Нашел!
– Пиши скорее! Исидору нужна бомба.
– Скоро только кошки…
– Да что с тобой? – Жена от возмущения опять закурила. – Я обижусь!
– Ты много куришь.
– Скоро брошу.
– Меня?
– Тебя – не могу. Шабельский хочет тебя замом сделать.
– Это он сам сказал?
– Какая разница. Ты на работу не опоздаешь?
– Да, пора…
Уходя, он предъявил пахучий дар Рытикова.
– Что это? – спросила она, брезгливо разворачивая промасленную газету.
– Копченая стерлядь.
– Ух ты! А она еще не вымерла? Папа такую никогда не приносил.
– Видишь, я тоже добытчик. Одну забираю – угощу Веню.
Едва в редакции они разверстали на троих бутылец под стерлядку, примчалась Генриетта, тоже махнула рюмку и повела командированного к главному. Исидор встретил его как родного.
– Ну, Геннадио, что ты нарыл в этом самом Тьфуславле?
– В Тихославле, – поправил спецкор.
– Какая разница! Есть что-нибудь? Александр Николаевич мне два раза звонил!
– Ничего стоящего. Действительно, Болотина выгнала клуб «Гласность».
– Кто такая?
– Директор библиотеки. Суровая дама. Но Вехов сам виноват.
– А это еще кто?
– Есть там такой. За перестройку атомную бомбу сбросит.
– Хорошо! Ну вот, а говорят, в провинции вековая тишина. Не-ет, пошел, пошел процесс!
– Мутный он мужик, книги из библиотеки таскает, ксерит, на Кузнецком спекулирует…
– Геннадий Павлович, ай-ай-ай, вы где работаете, в «Совраске»? Какая спекуляция? Очнитесь, теперь это называется «индивидуальная трудовая деятельность». Как сказал Селюнин? «План – дефицит. Частная инициатива – изобилие». Спекулянт – просто деловой человек. Не более. Ну, конкретнее: Суровцева есть за что ухватить?
– Реально нет. Народ его любит.
– То-то и оно! Сталина тоже любили, а руки у него по локоть в крови! Жаль, очень жаль! Понимаешь, что они могут устроить на девятнадцатой конференции? Ты внимательно читал ответ Яковлева в «Правде»?
– Внимательно. Одни слова. Ни одной конкретной мысли.
– Гена, что с тобой? Что ты там, в Тихославле, делал?
– Исидор Матвеевич, отпустите на недельку – за свой счет!
– Устал?
– Жуть. Надо проветриться.
– Проветриться? Хорошо. Полетишь в Томск. Знаешь, чья вотчина?
– Лигачева.
– Верно. Не удалось нарыть на правую руку, будем рыть на самого! Он много лет на области сидел. Не мог не наследить. Вперед, тебя ждут великие дела!
– Но Исидор Матвеевич…
– Знаю, Марине не понравится. Жаловалась, что я тебя загонял, сын без отца растет, а сама скоро станет соломенной вдовой. Ничего не поделаешь! Реже всего видят мужей жены разведчиков. На втором месте журналисты. Я поговорю с ней. Вернешься из Томска – и сразу в Индию. Там проветришься. Договорились?
– Но…
– Не ной! В Индию обязательно возьми пару бутылок шампанского.
– Индусы «шампусик» любят? Я думал – «Рубин», «Гранат», «Кагор».
– Не умничай. Бутылки из-под шампанского они любят. Изумруды из них делают. От настоящих только специалист отличит. В отеле наших сразу спрашивают. Не продешеви! Привезешь Марине какую-нибудь цацку.
– Кольцо с изумрудом, – усмехнулся Скорятин и решил обязательно купить там что-нибудь Зое в подарок.
– Иди, мизантроп! А то передумаю и отправлю в Индию Дочкина.
– Когда вылетать в Томск?
– Послезавтра. Денек можешь передохнуть.
Спецкор грустно кивнул, встал и двинулся к двери, вспоминая почему-то, как нес Мятлеву на руках через лужи, сквозь дождь, а она прижималась к нему, шепча: «Боже, что я делаю…» Останься он на день, всего лишь на один день… Взявшись за ручку двери, Гена замер, изумленный тем, как просто можно избежать лигачевского Томска и вернуться в манящий Тихославль.
– Ты чего застыл? – Исидор оторвался от верстки. – Иди, иди! Устал я от тебя.
– Исидор Матвеевич, скажите, а если у первого секретаря обкома две жены, это – частная инициатива или как?
– Конкретнее!
– У Суровцева многолетняя связь с Болотиной. Он дал ей квартиру в «осетре».
– Где?
– В новом доме.
– А Болотина – это кто?
– Я же говорил: директор библиотеки.
– …которая закрыла клуб «Гласность»?
– Ну да!
– Так что же ты молчал, Шерлокхолмище ты мое! Аморалка – это как раз то самое, за что любого можно зацепить и подвесить. Срочно в номер!
– Надо кое-что уточнить. Проверить слухи. Съездить в Тихославль.
– Туда и обратно. Очень важно! Там, – он показал в потолок, – готовят серьезные пертурбации, и генеральному нужны поводы, поводы! Вроде Руста на Красной площади. Понял?
– Но…
– Не бойся! Марину я беру на себя.
«Благодетель!» – усмехнулся Скорятин, поклонился шефу и снова пошел к двери.
– Гена, вернись!
– Ну?
– Не «ну», а сядь! То, о чем ты сейчас подумал, – полная чушь! Давай-ка объяснимся раз и навсегда. – Он нажал кнопку селектора: – Генриетта, я занят. Давай, Гена, выпьем на посошок – по-русски! Ты что будешь – водку, коньяк, виски?
– Водку.
– Правильно. Самый чистый напиток. А я коньячку… Доктор прописал – для сосудов.
После «посошка» Шабельский рассказал, как принес Борису Михайловичу в Сивцев Вражек главу диссертации, увидел Марину и влюбился насмерть с первого взгляда. Потом он долго добивался, а добившись, подал на развод и попросил у Александра Борисовича и Веры Семеновны руки дочери. Отец почти согласился, но мать отказала наотрез: она знала Исидорову жену и даже приходилась ей дальней родственницей. Впрочем, все евреи – родственники, в этом их сила. Выпили «стременную». Исидор, осунувшись, вспомнил, как сошел с ума, узнав, что Марина наглоталась снотворного и лежит в реанимации. Он сидел у ее постели часами, жена относилась с пониманием, даже варила для глупой девочки куриный супчик и соглашалась, чтобы муж продолжал встречаться с молодой соперницей, но потихоньку, не разрушая семью и не травмируя детей. Ласская отказалась.
– Она у тебя гордая! – сообщил Шабельский, наливая «закурганную». – Или всё, или ничего. Имей в виду!
После «закурганной», которую казак пьет с полюбовницей за холмом, чтобы законная половина не увидела, Исидор сознался: его ошеломила встреча с Мариной в Большом театре. А когда он узнал, что она замужем за Геной…
– Я ведь на тебя раньше как смотрел?
– Как?
– Не обидишься?
– Нет. Чего уж теперь…
– Бегает по редакции какой-то полулабазник. А ты, оказывается…
– Ну и что я?
– А ты, оказывается, молодец. Марину Ласскую добыл! Не скрою от тебя, Игнасио, хотел я… ну, ты понимаешь… Или не мужик я! Не обиделся?
– Нет, на мужиков не обижаюсь.
– Но Марина Александровна сказала: «Ни-ког-да!» Теперь просто друзья. «Мы только знакомы. Как странно…» Что пьют после «закурганной»?
– «Шапошную».
– Не слышал. Как это?
– А это когда казак бросает оземь шапку и говорит: «Да ну вас всех на хрен, никуда не поскачу!»
– Гена, ехать надо! Александр Николаевич два раза на дню звонит. А с Мариной я серьезно поговорю.
– Не надо!
– Почему?
– Не бабе бранить, как мужик боронить…
Шабельский хлопнул собабника по плечу и взял с него слово, что тот не только перестанет ревновать, но вообще выбросит глупости из головы. Гена поклялся, а когда выпили «клятвенную», хотел спросить, был ли Исидор у Ласской первым, или ее девичью любознательность удовлетворил раньше еще кто-то, но передумал, не желая омрачать застольную дружбу неделикатностью. Великодушие босса тоже не знало границ: на служебной «Волге» он довез ослабшего сотрудника прямо к подъезду.
– Ты с кем это так напился? – возмутилась Марина. – С Венькой?
– Не-а! С твоим Шабельским!
– Почему это с моим?
– С нашим, с нашим…
Зазвонил мобильник, и на вспыхнувшем экране высветился контакт: секретарь Буханова. Скорятин колебался, мучительно думая о том, как Алиса набирала номер, щелкая по кнопкам коготками, которые полчаса назад впивались в кофейную кожу индуса. Однажды она, забывшись, расцарапала в кровь Генину спину, и неделю он спал в футболке, жалуясь на холод в квартире, благо горячую воду в батареи еще не дали.
– Алло, – отозвался он не сразу.
– Ушастик, приве-ет! – пропела изменщица с торопливой нежностью. – Только вернулась. Оптовики гады! Ты заходил?
– Нет. Много дел сегодня.
– Вот и хорошо. То есть, очень плохо! Слушай, я тоже замучилась. Давай завтра…
– Давай.
– Как обычно?
– Нет, завтра не получится.
– Почему? У нас что-то случилось?
– Я уезжаю в командировку.
– Куда?
– В Тихославль.
– Когда вернешься?
– Через недельку.
– Я не выдержу. Тогда, может, все-таки сегодня?
– Не получится, – ответил он, одолевая желание тут же согласиться, сбежать на третий этаж и посмотреть ей в глаза.
– Почему?
– С дочерью встречаюсь, – Гена подмигнул Ниночке. – Ну пока, ко мне люди зашли.
– Ты еще позвонишь?
– Конечно, рыжик!
Он отключился и сидел, глядя на погасший мобильник. Вернее, на темный экран смотрели сразу три Скорятина. Первый страдал оттого, что упустил сладкую месть. Надо было употребить напоследок Алису постыдне́е, а потом пообиднее выкинуть из своей жизни. Второй рвался позвонить знакомому офицеру миграционной службы и попросить, чтобы Маугли турнули на родину, в джунгли. А там наладится, дело-то житейское. Как бабушка Марфуша говорила: «Жена не лужа – достанется и мужу». Третий брезгливо кривился: «Ага, и подхватить какой-нибудь триппер Эбола!» Был еще и четвертый, он безмолвствовал, и от его молчания болело сердце.
«Ладно, хватит нюнить, надо как-то выпутываться!»
Теперь главная неприятность – Кио. Иллюзионист не только выскочил – возвысился! Плохо. Очень плохо! Закончить, как Исидор, Гена не хотел. Он сидел за столом, обхватив голову, и думал. Проще всего, конечно, позвонить Дронову и на голубом глазу напроситься на интервью, мол, давно вы у нас в «Мымре» не выступали, Игорь Вадимович! Получив ленивое согласие, обаять, обольстить, обезоружить, слушая и восхищаясь брутальным лепетом титана. Большие люди одиноки и падки на лесть, как истомленная брошенка на трамвайный комплимент. Однако без дозволения Кошмарика нельзя. Никак невозможно! Надо звонить в Ниццу охраннику, пробиваться к уху, докладывать, что Дронов отвертелся, и просить добро на контакт. Можно получить разрешение, можно и по шее: «Почему, сволочь, не напечатал «Клептократию» в прошлом номере? Это из-за тебя, свиное вымя, он из дерьма выскочил! За что я тебе бабки невдолбенные плачу?» И выгонит, к чертовой матери, как Исидора.
…Шабельский погорел на выборах. Кошмарик тащил в Думу своего дружка Сёму Злотникова. Тот по-взрослому влетел со строительной пирамидой «Платиновая миля» и задолжал заумные деньги дольщикам – те подняли страшный шум. Дважды Сёма заносил ментам, чтобы не открывали дело. Закон в России не так суров, как дорог. На третий раз решил: чем тупо башлять, лучше сесть в Думу, купить, если получится, серьезный комитет, бюджетный или строительный, а еще надежней – по депутатской этике, и стричь зелень, пока не разрулится беда с «Платиновой милей». Кошмарик стал помогать другу – конечно, не из человеколюбия и даже не из кагальной солидарности, а потому, что сам, как и другие серьезные люди, капитально вложился в пирамиду. В общем, хозяин, который тогда еще не прятался в Ницце, а сидел в особняке на Зубовской площади, вызвал Исидора и приказал: «Злотников должен быть в Думе. Работай!» И «Мымра» начала пиарить Сёму с той шумной беззастенчивостью, с какой славят на «Евровидении» безголосую силиконовую дуру, спящую с нефтеналивным магнатом. Однако Шабельский затеял свою игру, замыслив провести в депутаты давнего соратника по «Демвыбору» Дёму Юкина, законника, краснобая первого призыва, звезду межрегиональной группы, трибунного соперника велеречивого Собчака. На тех первых, дурманных митингах Юкин доводил публику до обморочной любви к идеалам свободы, равен-ства и братства, невозможным даже в стерильной лабо-ратории, а уж тем более в нашем немытом Отечестве. Манежная площадь, заполненная взбаламученным народом, стотысячно подхватывала его слова: «Меньше социализма – больше колбасы!» В 1991-м Юкин стал заместителем министра торговли и тут же попался на совершенно идиотской взятке. Хотел получать процент с фирмы «Глобалчикен», ввозившей окорочка в свободную Россию. Американские куроводы, осерчав, пожаловались в Госдеп, оттуда стукнули Ельцину, а тот на расправу был скор, особенно с похмелья. Дёма едва унес ноги, лет пять отсиживался в Польше, потом в Кембридже – читал курс лекций «От тоталитаризма – к свободе». Наконец президент, допившись до недержания, ушел на покой, и Юкин решил вернуться в политику, а заодно и в Россию. Исидор придумал отличную легенду: оказывается, Дёма напомнил царю Борису его обещание лечь на рельсы, если реформы не заладятся, а всенародно избранный самодур, услыхав такую дерзость, пришел в ярость и отправил правдолюба в изгнание. Теперь же обличитель вернулся в Отечество со словами: «На рельсы лягу я!». Дёмин выход из стеклянных дверей «Шереметьева-2» показали все каналы. Вот он стоит на ступеньках и жадно втягивает воздух родины: в глазах трехкаратные ностальгические слезы, а в руке саквояжик, как у доктора Айболита, прилетевшего подлечить тяжко заболевших африканских зверят. Четыре контейнера с барахлом прибыли позже через Клайпеду. Исидор не только с помощью своих людей на ТВ прославил возвращение Юкина, но и добился, чтобы тот попал на групповой снимок с Лужковым в газете «Центр-плюс». Была такая предвыборная фишка: мэр всех времен от широты души фотографировался с кандидатами, баллотирующимися по Москве, но не со всеми, а с избранными. Получался негласный «Список Лужкова», тайный сигнал местным начальникам помогать именно этим хлопцам, а главное – не мешать лишними поборами.
Но и Злотников не дремал. Его штаб оклеил пол-Москвы листовками: Сёма в оранжевом пластмассовом шлеме толкает по специальному пандусу нового дома коляску с инвалидом и говорит: «Сильным – дорогу, слабым – подмогу!» Кроме того, по всем каналам крутили его предвыборный ролик, надо признать, лихой. Это тебе не Налимов по грудь во ржи. На обочине стоят два пенсионера и робко голосуют. Мимо, не останавливаясь, летят дорогие иномарки. Таксисты притормаживают, но, увидав жалкую мелочь в морщинистой руке, с обидным смехом уезжают. Какие-то скинхеды в размалеванном свастикой джипе с гоготом отбирают у бедняг последние деньги. Плакать хочется! И вдруг на могучей русской тройке, гремящей бубенцами, выезжает Злотников, подхватывает стариков и мчит в светлую даль, где горит солнечный титр: «Будущее есть у всех!».
В общем, оба кандидата шли грудь в грудь. Сначала чуть-чуть опережал Сёма, но Дёма, спев в «Добром утре» дуэтом со знаменитым тенором Колбасковым, вырвался вперед. Зато Злотников спонсировал хирургическое расчленение сиамских близнецов Виты и Риты, вся страна смотрела, как человеческие половинки, обретшие независимость, плакали счастливыми слезами на груди кандидата и призывали голосовать только за него! Соперники сравнялись. Тогда-то в «Общественной газете» и вышел убийственный фельетон «Плутовская миля». Ксерокопии скандальной статьи тем же вечером оказались в почтовых ящиках избирателей. Это был крах. Сёмы не стало, но и он перед своей электоральной гибелью успел нагадить Дёме. Предвыборные листовки Юкина, бесследно исчезнув вместе с грузовичком накануне, вдруг в «день тишины» заполонили район. Они висели на столбах, заборах, стенах, остановках, помойках, даже на дверях избиркома. Дёму сняли с пробега за чудовищное нарушение закона о выборах. В результате гонку возглавил кандидат от КПРФ, уверенно лидировавший до последнего момента: явка по городу низкая, а коммунисты – народ активный и дисциплинированный. Однако за час до закрытия пунктов гражданская совесть москвичей под влиянием внезапного солнечного протуберанца очнулась: толпы избирателей, которых никто не видел, примчались к урнам, чтобы проголосовать за кандидата от «Яблока» Хованюка – никому не ведомого хмыря с обещающей улыбкой.
Разгневанный Дёма проклял немытую Россию и убыл в Лондон – читать курс лекций «Рабская матрица России в свете общечеловеческих ценностей». А вот Сёма пострадал по полной: на него завели уголовное дело и наконец-то спросили, куда он дел средства пайщиков. Ведь вся «Платиновая миля», на которую ухлопан без малого «ярд», являла собой строительный вагончик, рулон утеплителя и шесть вбитых свай. Когда Злотников ехал на допрос, чтобы заключить сделку со следствием и сдать сообщников, его нагнал на светофоре мотоциклист в черном непроглядном шлеме и прилепил к крыше бронированного «мерседеса» магнитную мину, достаточную для потопления линкора. Говорят, от бизнесмена остались только дымящиеся штиблеты из крокодиловой кожи. Любил бедняга хорошую обувь. Кошмарик воспринял провал, а потом и гибель друга со скорбным фатализмом. На поминках он дал клятву отомстить убийцам и взял себе на память о павшем соратнике его последнюю утеху – семнадцатилетнюю воздушную акробатку из циркового училища. Исидор тоже переживал неудачу, у него подскочило давление, и он уехал в санаторий, чтобы подлечиться, а также закончить книгу «Марксизм как манихейство».
Скорятин, к тому времени первый заместитель, остался на хозяйстве. Прочитав фельетон в «Общественной газете», он вспомнил, что этот текст уже видел на столе главного и даже полистал, пока тот выбегал из кабинета, чтобы отругать верстальщика. Статья и тогда называлась «Плутовская миля». В прозрачную папку была вложена дискета. Конечно, Исидор, зная о дружбе Кошмарика и Злотникова, материал отклонил, а возможно, нарочно придержал, чтобы использовать во время выборной схватки. Рисковал, разумеется: хозяин, сам любивший сложные, многослойные интриги, другим двойную игру не прощал и карал беспощадно. Теперь все зависело от осторожности: Исидор мог передать дискету из рук в руки, а мог и сбросить по электронной почте. Конспиративным неврозом Шабельский не страдал и был уверен: его заслуги перед демократией столь грандиозны, что он неуязвим.
Гена нарочно засиделся допоздна, услал охранника за биг-маком и взял с доски ключ от кабинета шефа. Затея могла рухнуть в самом начале, если бы Исидор пользовался паролем, но гранд гласности не тратился на пустяки. Открыв почту, мститель среди отправленных писем нашел «Плутовскую милю». Адрес получателя: [email protected]! А Сева Верников не кто иной, как главный редактор «Общегаза». Оставалось дозвониться до хозяина. Утром Скорятин прибыл в особняк на Зубовской, преодолел три кордона и вошел в кабинет, который босс устроил в бывшем редакционном актовом зале: шагая по ковру к огромному письменному столу, можно было вспомнить всю свою жизнь. Маленький Кошмарик сидел в высоком кресле, обтянутом шкурой белого леопарда, и нежно разглядывал фарфоровую фигурку из своей коллекции антикварных дам, поправляющих подвязку. Вдоль стен стояло несколько шкафов, заполненных сотнями куртуазных красоток, увлеченных этим пикантным занятием.
– Ну? – спросил владыка, подняв на вошедшего грустные глаза. – Что у тебя там за секрет? Рассказывай!
Выходя от разъяренного хозяина, информатор ощутил во рту вкус вяленых бычков.
Изгнание Шабельского Корчмарик обставил с театральным изуверством: в юности, до университета, он при горкоме комсомола пробавлялся режиссурой массовых мероприятий и жутко гордился факельным шествием сводного строительного отряда, которое поставил в 1980 году к Олимпиаде. Лёня намастачил бы еще чего-нибудь духоподъемно-массового, но после закрытия Игр, когда «ласковый Миша возвратился в свой сказочный лес», недосчитались сотни комплектов новенькой формы со спортивной символикой. Скандал замяли: праздник же!
А Гена в предпоследний день Олимпиады отбывал в Красноярск на слет журналистов – его наградили за очерк о молодых гвардейцах пятилетки в «Московском комсомольце». Сибиряки, возвращавшиеся домой, горевали, что в оцепленную пятью кордонами Москву народ пускали только по паспортам с пропиской и специальным вкладышам, лишив таким образом счастья видеть олимпийский огонь. Счастливцы, видевшие атлетическое пламя, рассказывали об этом с эпической дрожью в голосе. Когда взлетели с Домодедовского аэродрома, Гена заметил в иллюминаторе полоскавшийся во тьме газовый факел Капотни, улыбнулся и крикнул:
– Олимпийский огонь!
– Где? – лишенцы переметнулись на правый борт.
– Да вон же!
Самолет опасно накренился, стюардессы заметались по проходу, но сибиряки были счастливы:
– Он! Он! Горит! Теперь и умереть можно.
…Посвежевший в санатории Исидор, войдя в свой кабинет, увидел в кресле улыбающегося повелителя. По углам стояли, заложив руки за спины, квадратные охранники с мускулистыми лицами.
– Леонид Данилович, чем обязан?
– Да вот, Исидор Матвеевич, изучаю вашу почту.
– Это неприлично, рыться в чужой почте! – побледнел курортник.
– Что?! Ты мне будешь, старая про…дь, рассказывать, что прилично, а что нет?! Ах ты крыса жидовская!
Юдофобский вопль носатого Корчмарика, унаследовавшего от предков карикатурную местечковую внешность, прозвучал глупо и забавно, но никто даже не улыбнулся. А лицо Исидора стало похоже на благородное мраморное надгробие:
– Понятно. Мне, думаю, надо собирать вещи? – Он спокойно шагнул к полке и дрожащими руками хотел взять бронзовое «Золотое перо» с чеканной надписью на малахитовой подставке: «Лучшему журналисту десятилетия».
– Ты лучше подумай, как будешь кости собирать! Вон из моей газеты, к свиньям собачьим! Скорятин, принимай редакцию! А этот мусор на помойку! На помойку! – завизжал хозяин.
Охранники придвинулись к изгою, деловито взяли за руки, тряхнули так, что очки слетели с орлиного носа, и потащили тело к выходу, как мешок картошки. В последний момент они встретились глазами. Исидор смотрел на Гену не с презрением, нет, а с победной усмешкой, словно успел уязвить врага отравленным острием, отчего тот непременно умрет в муках. Ночью, видимо от позора, Шабельского долбанул жуткий инсульт. Он выжил, выкарабкался, заново выучился говорить, читать, ходить с палочкой, но его блестящий, изощренный ум погас. Хитроумный философ превратился в полуидиота со слюной на подбородке. Скорятин его с тех пор не видел. Кошмарик предупредил: любой, замеченный в сношениях с бывшим главредом, будет уволен. Но кто-то отважился, навестил и рассказал в редакции о шаркающем и лепечущем старике, в котором лишь орлиный нос выдавал прежнего Исидора, верного соратника академика Яковлева.
Повторять судьбу предшественника, конечно, не хотелось. Теперь, когда Дронов не просто уцелел, а получил под себя еще и СМИ, надо было срочно отползать от ниццианского интригана, ведь газету у него, конечно, отберут. Как? Способов много. Например, вдруг вспомнят, что залоговый аукцион, на котором он купил глиноземный комбинат, провели с нарушениями. Дальше: решай, Лёня, глинозем или «Мымра»! Отняли же «Независьку» у Березовского, а «НТВ» – у Гусинского. Тихо, без пыли. Скорее всего, Кио так и поступит. А утаить, что «Клептократию» готовили в номер, невозможно: рано или поздно доложат и заложат. Значит, надо опередить.
Гена вывел статью на экран и, пройдясь по тексту, сократил наиболее хлесткие и обидные места про того же «фон Дрона». Убрал и кусок про торговлю губернаторскими креслами: «Мы боимся того, что может натворить врач, купивший себе диплом. А на что способен губернатор, взявший свой пост в лизинг? Не потому ли наше Отечество медленно, но верно сползает в компьютеризированный феодализм?!» Проредив вопли воспаленной гражданственности, автор поменял и название: вместо хлесткой «Клептократии» впечатал банальные «О времена, о нравы!», а вместо боевого псевдонима «Павлик Матросов» поставил лукавого «Ивана Юлевича»: он смолоду так подписывал свои вынужденные статьи. В общем, из разящей боевой стрелы вышел детский дротик с присоской, и теперь текст мало чем отличался от обычного либерального лепета. Скорятин отыскал адрес, по которому когда-то отправлял Дронову справку о ситуации в Союзе журналистов, прикрепил изуродованный текст и, обдумывая каждое слово, сочинил сопроводительное письмо:
Уважаемый Игорь Вадимович!
Посылаю Вам заказной материал, который по настойчивым требованиям известного Вам лица я должен был поставить (но не поставил) в текущий номер, возможно рискуя быть изгнанным из газеты, как некогда один из лучших журналистов новой России И. Шабельский. Высоко ценя Вашу государственную деятельность и глубоко уважая Вас лично, я питаю надежду, что придет время, когда «Мир и мы» перестанет быть игрушкой в руках ненадлежащих особ, а сможет наконец послужить интересам общества, идеалам демократии и свободы слова, за которые шли на баррикады лучшие люди Отечества.
Кио начинал политическую карьеру на баррикадах 1991-го, подвозя протестантам пиво с бутербродами, и любил, когда об этом вспоминали. Предшественника Гена тоже упомянул не случайно, Исидор привечал никому не ведомого тогда Дронова и печатал его беспомощные заметки. Кажется, все учтено. Гена несколько минут сидел неподвижно, вспоминая родимое пятно на Алисиной пояснице, и сообразил, что письмо журналиста чиновнику не может быть таким истошно правильным, начальство ожидает от творческого халдея умеренного озорства и разумного непослушания. Поколебавшись, он добавил еще одну фразу: «Душевно надеюсь, что Вы, придя во царствие свое, помяните нас, сирых, но преданных своему делу и стране».
Вроде ничего! Лесть с библейским привкусом, легкое ёрничество и просьбишка не оставить милостями – все это должно понравиться. Главный редактор тяжко вздохнул, понимая, что, кликнув флажок «отправить», он бросает на кон свое будущее. Но другого выхода нет. Важно опередить других, и прежде всего Кошмарика. В очереди кающихся и просящих надо стоять первым. Он послал письмо, удалил файл с первоначальным вариантом «Клептократии», на всякий случай сбросив текст на флэшку, почистил рабочий стол, корзину и даже переписку, перепроверил себя, остался доволен, откинулся в кресле «босс», закрыл глаза и увидел меж распахнутых Алисиных бедер рыжий шубный лоскут. Переходящий как вымпел.
…В Тихославле о возвращении Скорятина никто не знал. На вокзальной площади он влез в рейсовый автобус. Народу набилось порядочно. Рядом сидела старушка в белом платочке и держала на коленях корзину, из которой время от времени выглядывал грустный серый кот и внимательно смотрел в окно, точно проверял, не проспала ли бабка нужную остановку, вздыхал и снова прятался в своем плетеном «укрывище», как сказал бы Исаич. Автобус тащился, притормаживал перед лужами, обползал по обочине развороченный асфальт, скрежетал мостами по колдобинам, а в деревнях останавливался у зеленых навесов, сваренных из уголков и листового железа. Там в ожидании стоял народ: мужики и мальчишки курили, бабы и девчонки грызли семечки. В открывшиеся с лязгом двери входили два-три человека, остальные так же дымили, лузгали и смотрели на автобус с тоской, словно не первый век встречали кого-то в безнадежном ожидании, и здесь же, на остановке, рождались, взрослели, зачинали, разрешались от бремени, болели и умирали, оставляя по себе сугробы подсолнечной шелухи и окурков.
Между поселками тянулись неряшливые поля, подернутые зеленой шерсткой всходов или праздной глинистой рябью, мелькали низкие фермы с продавленными шиферными крышами, вставали водонапорные башни, напоминавшие гигантские ручные гранаты. В плешивых лугах бродили редкие стада коров, попадались загоны с недвижными табунами ржавого колхозного железа. В каждой деревне, обочь дороги стояли, где в полный рост, где припав на одно колено, гипсовые воины, покрытые облупившейся серебрянкой. На темных плитах густо лепились имена тех, кто не вернулся с войны, удобрив аккуратные поля Европы. Возможно, их-то и дожидалась на остановках курящая и лузгающая родня. На пустырях догнивали церковные развалины из почерневшего красного кирпича. В одном развороченном храме, за рухнувшим фасадом, чудом уцелел кусочек росписи, и Гена поймал на себе взгляд какого-то обиженного святого.
Из окон громыхающего автобуса жизнь выглядела совсем не так, как из окна райкомовской «Волги». Скорятину казалось, что едет он теперь другой дорогой: река почти не проглядывалась сквозь загустевшую, сомкнувшуюся всего за пару дней листву. С похмелья или от увиденного, а скорее, от того и другого вместе, он впал в антипатриотическую меланхолию – вспоминал игрушечные европейские пейзажи, сказочные замки, домики, будто из марципана, вылизанные кирхи с интеллигентными крестиками на макушках, рослых коров, бодрых и чистых, как спортсменки, принявшие душ. А в окошке виднелась мусорная обочина, дырявые фермы и родные буренки с костистыми задницами, вымазанными подсохшим навозом. Он содрогался, предчувствуя неизменность, вечность этой разрухи и нищеты. А может, прав Вехов с его нейтронной бомбой? В самом деле лучше огромным бульдозером содрать эту вековую русскую коросту, взрыхлить землю, дать пашне постоять под паром лет двести, а потом уже что-то здесь сеять и строить…
Кот снова выглянул из корзины и тревожно мяукнул – задремавшая старуха очнулась, запричитала, поспешая к закрывавшимся дверям, и выскочила на остановке, где курили пьяные мужики и грызли семечки беременные бабы.
Скорятин решил никакой «разоблачуги» о шашнях Болотиной и Суровцева не писать. Вот еще! Зачем? Надо встретиться с Зоей, объясниться, вернуться в редакцию, объявить, что слухи не подтвердились, и бросить на стол заявление об уходе. Исидор, конечно, удивится, будет уговаривать, клясться, что между ним и Мариной ничего нет. И это чистая правда: его, Гены, между Шабельским и Ласской больше нет и не будет. Как говорила бабушка Марфуша: «Владей, Фаддей, моей Маланьей!» А в «Гудке» его до сих пор ждут – «золотые перья» везде нужны! Какое-то время придется пожить на съемной квартире, помучиться в разлуке, проверить чувства. Хотя что за глупость! Не ты проверяешь чувства, а чувства проверяют тебя. К тому же звонили из Союза журналистов, спрашивали, нет ли в «Мымре» желающих купить кооператив. Первый взнос увеличился из-за инфляции, которой, если верить «Правде», в СССР нет и быть не может, – поэтому освободились места в очереди. Дом хороший, кирпичный, в Сокольниках, окнами в парк, и почти готов, осталась внутренняя отделка. Плати пять тысяч деревянных и через полгода въезжай с фикусом!
Денег у Скорятина не было, но в «Политиздате» намечалась книжка очерков «Иного не дано». Аванс – две тысячи. Три можно призанять. Впрочем, есть и другой вариант: добыть валюту, взять за границей «видак» и продать в Союзе за четыре тысячи рублей. Недавно дружок тестя, молодой режиссер Саша Гугнин, толстяк с волосатым лицом образованного примата, предлагал за восемь тонн двойку «Панасоник». Говорил, взял в Париже для себя, но как на грех из Союза кинематографистов прислали открытку на «девятку» – вот и приходится жертвовать. В качестве бонуса Саша прилагал полдюжины кассет с «джеймс-бондами» и «греческими смоковницами». И на бутылочном стекле в Индии тоже можно заработать. Но тогда сразу увольняться нельзя: загранка обломится…
Очнувшись от мечтаний, Гена обнаружил, что едет по Тихославлю. Люди провожали громыхающий автобус мрачными взглядами, а куры с мерзким кудахтаньем выскакивали из-под колес. Странно! Он ехал, торопясь мыслями к желанной женщине, а радости не было. Да и город казался не сказочно-лучезарным, как давеча, а грязным, тусклым, заброшенным: храмы стояли облупленные, позолота на куполах зияла черными проплешинами, а кое-где остались только ржавые каркасы с лохмами листового железа. Правда, две или три церкви, подревней, лезли в глаза свежей побелкой и покраской, а маковки блистали дешевым глянцем, как анодированные сувениры. Успели-таки к 1000-летию крещения. Вот что такое аврально-плановая экономика! С отреставрированной колокольни еще не успели убрать леса. Была она похожа на арестанта, которого помыли, приодели, подрумянили, но колодки снять забыли.
Когда Гена выходил из автобуса, сизый от водки парень подал ему, как даме, грязную шершавую руку и прохрипел: «М-жик, у водилы братан помер…» Пришлось бросить мятую коричневую рублевку в блюдечко с медью и серебром. Шофер сидел, сгорбившись и отвернувшись к боковому стеклу. Отчего в то утро было так тошно и тоскливо, почему мир казался отвратительно, невыносимо чужим? Ненависть к обступающей действительности ошеломляла, давила до обморока. Даже теперь, спустя четверть века, Гена отчетливо помнил гноящиеся глаза тощей кошки на паперти, чувствовал смрад переполненных выгребных ям, бивший из подворотен. Ничего подобного потом с ним никогда не случалось. Лишь иногда, наталкиваясь на такую же тошнотворную ненависть к жизни в разговорах с «наоборотниками» или в книгах модных писателей, Скорятин недоумевал: однажды испытав это уничтожающее состояние, он до сих пор не мог его забыть, а они сделали из своего отвращения профессию. Бедные, несчастные, как они существуют с этим червивым шевелением в душе?
На площади перед Гостиным двором он глянул на свежую листву, вдохнул полудеревенский воздух, вспомнил, как под дождем нес на руках Зою, и сразу очнулся, повеселел, понял, что жизнь прекрасна, жизнь – это недоцелованная женщина! Бегом бросился он в библиотеку, взлетел по ступенькам, репетируя в уме: «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног!» Скажет и упадет на колени.
Утром читателей почти не было. Гипсовый Пушкин возле абонемента подмигнул земляку с лукавым мужским поощрением. Однако за конторкой сидела не Зоя, а Катя. Она смутилась, лицо ее покраснело, а прыщи побелели. На вопрос, где Мятлева, девушка прошептала, оглянувшись:
– Наверное, дома.
– Заболела?
– Не знаю… Вы у Елизаветы Михайловны спросите!
Но Болотиной в кабинете не оказалось – уехала в область на культурно-массовый актив. Секретарша тоже почему-то трусила, будто перед ней стоял не знакомый столичный журналист, а рецидивист, разыскиваемый милицией. Не дослушав ее сбивчивые объяснения, Скорятин помчался на улицу Ленина. Дорогу он решил срезать, ориентируясь на высокую, опутанную лесами, колокольню монастыря, но заблудился и долго, как Андрей Миронов в «Бриллиантовой руке», метался по запутанным улочкам, поднимавшимся к детинцу. Попутно Гена изумлялся изобретательности обывателей, приспособивших под коммунальное житье каждый закуток, проем, тупичок, бывшие лабазы, амбары, развенчанные храмы, братские и трапезные корпуса. На расчищенных от старины местах стояли пятиэтажки, сложенные, казалось, из грязно-белых кубиков неряшливыми малолетними великанчиками. Швы между блоками были промазаны черным гудроном, а балконы заставлены рухлядью. Зоин дом (к нему он внезапно вышел через случайный проходной двор) выглядел поновей: на двери даже имелся распотрошенный домофон.
Проскочив мимо старушек, влюбленный спецкор ворвался в подъезд, но перепутал этажи и нужную квартиру отыскал благодаря почтовому ящику с логотипом «Волжского речника». Он долго давил на кнопку, слышал, как за дверью трещит звонок, однако никто не открывал.
«Ну где же она?»
Гена, чуть не плача, спустился вниз и столкнулся нос к носу с Колобковым, бледным, насупленным, решительным. В черном костюме, белой сорочке и фиолетовом галстуке, Илья напоминал похоронного агента из западного кино. Среди тружеников советских ритуальных услуг тогда преобладали тетки средних лет в ярких мохеровых кофтах.
– Привет… – смутился москвич. – А ты-то как узнал?
– Тихославль – город маленький.
– Где Зоя? Что случилось?
– Я знал, что ты вернешься…
Осведомленные старушки прислушивались к разговору с надеждой на драку или хотя бы громкий скандал, чтобы потом рассказывать соседям с неспешным превосходством очевидцев: мол, вы даже не представляете, какое безобразие учинили два на вид приличных мужчины из-за «свистушки» со второго этажа, тоже вполне на вид обтекаемой дамочки.
– Пойдем, надо серьезно поговорить! – тихо позвал Колобков.
– Куда?
– Ко мне.
Старушки проводили их слезящимися от разочарования глазами.
Кабинет заведующего отделом агитации и пропаганды был скромней некуда: без приемной и секретарши. В двухоконной комнате теснились типовой двухтумбовик, кресло, шкаф с розовыми занавесками, на приступке помещались телефон и селектор. Стол для совещаний окружали стулья с инвентарными жестяными бирками, прибитыми к спинкам. На низком мраморном подоконнике стояли горшки с фикусом, столетником и геранью, вышедшими из моды сто лет назад. Со стены бодро глядел в будущее очередной генсек, два предыдущих вождя, столь же оптимистичные, прожили при исполнении недолго, один – полтора, второй – год. Разумеется, у портретного Горбачева никакой родимой отметины на ранней лысине не наблюдалось. На власти, как и на солнце, пятен нет!
Соперники сели за приставной стол друг против друга и некоторое время молчали. Наконец Колобков сурово спросил:
– Может, чаю?
– А покрепче?
– В райкоме нельзя.
– А морсу?
– Тоже нельзя.
– А что же тогда можно?
– Сейчас покажу.
Илья встал, со скрипом открыл дверцу шкафа, достал оттуда полированный ящик, напоминающий сложенную шахматную доску, но без обычных черно-желтых квадратиков. Вернувшись, он щелкнул замочками, но тут зашипел селектор, и капризный женский голос спросил:
– Илья Сергеевич, ты когда идешь обедать?
– Не знаю.
– Место занять?
– Нет, у меня люди из района.
– А потом?
– Потом я в область уеду.
– Ну и пожалуйста! – обиделся голос, и селектор перестал шипеть.
Пропагандист внимательно посмотрел на московского гостя и откинул крышку: там, в красных бархатных углублениях, лежали валетиком два дуэльных пистолета с гранеными стволами, кудрявыми курками и рукоятями красного дерева, отделанными серебром.
– Это что? – оторопел Гена.
– «Лепажи».
– Откуда?
– Из музея.
– Зачем?
– Будем стреляться.
– Разве можно? Из них…
– Конечно! Я же устраивал реконструкцию дуэли Онегина и Ленского. Для школьников. Так жахнуло – неделю в ушах звенело.
– А еще говорят, перестройка до глубинки не дошла. Заведующий отделом пропаганды и агитации вызывает на дуэль корреспондента еженедельника «Мир и мы». Дошла, болезная, еще как дошла!
– Боишься? – жестоко усмехнулся Колобков.
– Конечно боюсь! Тебя, дурака, боюсь убить… – ответил Гена.
– Почему же это ты меня убьешь? Я в армии стрелял на «отлично».
– Тогда убьешь ты меня и сядешь. Лет пятнадцать дадут.
– Нет… Лет шесть. У меня смягчающие обстоятельства.
– Какие же?
– Сам знаешь, сволочь!
Они сидели, молча, набычившись, уперев взгляды в пистолеты, и напоминали шахматистов, задумавшихся над сложной партией. Наконец Илья проговорил:
– Но я могу забрать вызов, если ты…
– Если я…
– Если ты на ней женишься.
– Ты этого хочешь?
– Нет, не хочу, но я хочу того, чего хочет она, а она хочет этого…
– Почему ты так решил?
– Она любит тебя, вуалехвоста!
– Сам догадался или подсказали?
– Сам.
– Где Зоя?
– В Затулихе.
– Где?
– В деревне. У нее там дом. От бабушки.
– А почему она там?
– Болотина ее с работы выгнала. Но сначала надо отпуск отгулять, так положено.
– Как это выгнала? За что?
– Зоя какую-то редкую книжку из КОДа домой взяла… почитать.
– Но это же полная ерунда! А куда смотрит райком?
– Райком смотрит на обком. Из-за тебя ее выгнали, сукофрукт! Понял?
– Не понял…
– Она видела, как ты Зою ночью на руках нес. Мимо проезжала.
– Действительно, маленький у вас город. «Не сойтись-разойтись, не сосвататься…»
– «…вдалеке от придирчивых глаз…» – закончил Колобков куплет из фильма «Дело было в Пенькове».
– «…в стороне от придирчивых глаз…» – поправил Скорятин.
– Ну, стреляемся или женишься?
– Сначала стреляемся, а потом тот, кто выживет, женится. Идет?
– Идет. Жутко хочется выпить! – вздохнул Илья. – Перестройку погубит сухой закон.
…У Зелепухина, встретившего гостей старорежимными поклонами, они пили морс графинами, закусывая холодцом с хреном, и нарезались до плаксивой приязни, до сопливых мужских откровенностей, о которых утром вспоминаешь со стыдом и отвращением. Колобков рассказал, как три года носил портфель за одноклассницей, а она спуталась с второгодником. У того на плече была пороховая наколка «Нет в жизни счастья!», Илья сделал себе такую же, занес инфекцию, чуть руку не отняли, в последний момент достали импортный антибиотик и спасли. Гена поведал о недождавшейся однокласснице, описав в унизительных подробностях свою первую мужскую оплошность, хотел, видно, утешить, мол, не только у тебя, друг, случаются обломы в личной жизни. Колобков даже всплакнул, потом снова озлобился, хотел вернуться в райком за пистолетами и все же стреляться. Через платок!
– Это как? С завязанными глазами?
– О невежда! И что она в тебе нашла? Через платок – значит дуэль с одним заряженным пистолетом и только гладкоствольным!
– Почему?
– Положено!
– А платок-то зачем?
– Идиот! Смотри!
Бывший музейщик вскочил, с грохотом опрокинув стул. На шум явился Зелепухин, Илья его успокоил, услал, потом вынул из кармана несвежий носовой платок, взялся за один угол, а за другой велел держаться сопернику. Растянув клетчатую материю по диагонали, они оказались друг от друга на расстоянии почти двух метров. Илья, кровожадно глядя на москвича, изобразил с помощью большого и указательного пальцев пистолет:
– Пиф-паф! Понял?
– Нет.
– И чего ты теперь не понял, тормоз?
– Зачем нужен платок, если один пистолет не заряжен?
– В самом деле… Глупость какая-то! – расстроился Колобков и предложил еще выпить.
…Проснулся Гена от скрежещущей сухости во рту. Ему снилось, что он наелся стальных опилок, а запить нечем. Оглядевшись, спецкор осознал, что распростерт на тахте в незнакомой квартире, уставленной с пола до потолка книгами. Колобков лежал напротив, на раскладушке, поверх одеяла, он был в трусах, майке и одном носке с дыркой на пятке. Глаза его страдали.
– Давно проснулся? – спросил Скорятин, с трудом приподнимаясь.
– Давно… Водички принеси!
– Попробую…
Он, шатаясь, добрел до ванной, ужаснулся своему измученному потустороннему лицу, возникшему в провале зеркала, и долго пил из-под крана железную воду. Потом вытряхнул из граненого стакана зубные щетки: большую – синюю, и красную – поменьше, налил воды и побрел в комнату.
– Надо было воду спустить…
– Да?
Жидкость в стакане напоминала яблочный сок с мякотью.
– Ладно, давай…
– Может, лучше пива?
– Мне сегодня на аппарате докладывать.
– Тогда возьми бюллетень.
– Коммунисты не болеют. Собирайся!
– За пивом?
– К Зое.
– Пешком?
– Слабо к любимой женщине по бережку тридцать верст, а?
– Не слабо!
– Ладно, не бойся! Я машину заказал. Вроде как в район поеду.
– Ты же докладываешь…
– А вот я и не поеду. Поедешь ты! Николай Иванович отвезет. Купи что-нибудь пожрать. Там в сельпо ничего нет, кроме частика в томате. И выпить тоже возьми. Подожди, у меня, кажется, остался талон на водку…
…Снова зашуршал селектор.
– О величайший! – послышался сладкий, как рахат-лукум, голос Жоры Дочкина. – У меня все готово. Ты идешь?
– Иду! – Он вынул из пакета бутылку «Абрау-Дюрсо», обернул газетой и тяжело поднялся из кресла.
В приемной пахло валерьянкой. Ольга успокаивала Телицыну, которая рыдала, придерживая живот.
– Вот! – укорила секретарша и показала на заявление «по собственному желанию», придавленное надкушенным яблоком.
– Не нашли? – спросил главный редактор, пряча за спиной бутылку.
– Н-е-е-т! – раззявилась беременная.
– А вы скажите: «Черт, черт, поиграй да и отдай!»
– Как?! – от удивления растеряха перестала плакать. – Почему?
– Так бабушка Марфуша говорила.
Увидав на пороге шефа, Жора склонился в восточном поклоне:
– О долгожданнейший! – и сдернул, как фокусник, газету с журнального столика.
На блюде лежали любимые бутерброды босса: ломтики бородинского хлеба, а сверху жирная балтийская килька с зеленым лучком. На отдельной тарелке сгрудились белые с прожелтью слизистые грузди. «Серебряная казенка», вынутая из морозилки, искрилась изморозью.
– Это тебе, – Гена протянул шампанское.
– Я же не пью шипучку.
– Жену побалуешь.
– Спасибо, о щедрейший! – Жора разлил тягучую водку по рюмкам. На стекле остались оплывшие следы от пятерни.
– Ну, как говорил Шарончик, кто не пьет – тот идиёт!
– Мы же Танкиста помянуть хотели! – напомнил Скорятин.
– Ах да! За Деда!
– За Поликарпыча!
Через минуту затеплилось в груди, потом отпустило сердце, а главное – перестала болеть душа, точно ее укололи наркозом.
«Интересно, а у Маугли большой?» – равнодушно подумал Гена. – У Будды, где-то написано, был совсем маленький, с пипетку…»
– Повторение – мать учения! – Жора налил по второй.
Продублировали. В теле появилась счастливая легкость.
– Дронова повысили…
– Да ты что! – воскликнул Дочкин так искренне, что стало ясно: знает, подлец, все знает. – Значит, «Клептократию» не планируем?
– А мы ее и не планировали. Запомни и файл сотри!
– Конечно, о предосторожнейший! Что же теперь с Кошмариком будет?
– Ничего не будет. Дерьмо и деньги не тонут!
– Златоустейший, за тебя!
Выпили еще, и Гене снова стало до слез обидно. Те давние колобковские «лепажи», выглядевшие тогда несусветной чушью, теперь показались вполне разумным выходом из треугольного тупика.
«Надо все-таки пробить Маугли через ментов! – решил Скорятин. – Вдруг приторговывает травкой?»
Замигал красным селектор, но верный заместитель не отреагировал, даже зевнул.
– От кого прячешься?
– Ни от кого… – вздохнул темнила и нажал кнопку.
– Зайди ко мне! – сквозь шипение донесся повелительный голос.
– Ого, уже с Заходыркой на «ты»!
– Она со всеми на «ты», кроме тебя, – хохотнул Жора. – Хабалка. Ну ее к черту! Лучше – выпьем!
– Сходи! Потом расскажешь.
– Ну разве что… А ты… посидишь или пойдешь? А то я дверь запру…
– Боишься?
– Позавчера у Расторопшиной кошелек уперли. Не редакция – проходной двор. Женю надо гнать к чертовой матери!
– Иди, я постерегу.
Заместитель нехотя вышел из кабинета, бросив на шефа странный взгляд. Скорятин выпил в одиночестве рюмку, закусил килькой, потом схрустел груздь, наблюдая, как покрывается испариной бутылка и отлипает от стекла, морщинясь, этикетка. Сознание наполнилось смутным разномыслием и ускользающими воспоминаниями.
…От женщин остается в душе множество щекотливых подробностей, которые потом, вдали от любовного смятения, кажутся нелепыми, даже смешными. Вамдамская колонна в страсти хрипло смеялась. Ольга Николаевна шептала: «Мы никуда не спешим. Не спешим!» Худышка Нора на миг теряла сознание, потом, открыв глаза, спрашивала кукольным голосом: «Где я?» Убиенная Варвара, холодно-изысканная в вертикальной жизни, в постели металась и рычала, как тигрица. У Жанны в пылу бугрилась спина, словно девушка оказалась оборотнем. Марина, откричав, смотрела на мужа с укором, словно он стал нежеланным свидетелем ее буйной сокровенности. У Алисы тоже была… да, была занятная особенность: она всхрапывала в забытьи, как лошадь, потом смущалась. Гена вдруг сообразил, что от Зои в памяти не осталось ничего. Только солнечный провал.
Николай Иванович бережно вел машину по бездорожью. Асфальт кончился почти сразу за городом, и по днищу забарабанил щебень, а вскоре пошла грунтовка с такими глубокими колеями, что низкие мосты «Волги» скребли землю. Водитель кряхтел, переживая за страдающий автомобиль как за собственную плоть.
У райкома он вежливо открыл перед москвичом заднюю дверцу и потом всю дорогу не проронил ни слова. От дорожной тряски Гена забылся оздоровительной похмельной дремой, ему приснилась Ласская, но не настоящая, а нарисованная глумливой кистью Целкова. Лицом Марина напоминала неровную розовую картофелину с проросшими глазками. Жена загадочно улыбалась и хотела что-то сказать. Машина дернулась и встала.
– Приехали! – сказал шофер и вылез из «Волги».
Пассажир открыл глаза. Перед ними раскинулась огромная лужа, почти озеро. Колея терялась в воде и выныривала метров через сто пятьдесят.
– Заглохну! – уверенно предположил Николай Иванович.
– А где Затулиха?
– Там! – водитель показал на луковку рубленой церкви, видневшейся за деревьями.
– Я и адреса-то не знаю… – спохватился Скорятин.
– Там все по-русски разговаривают.
– Ну да, конечно…
– Вас ждать?
– Не надо, – обидчиво отказался Гена. – Спасибо! – и пожалел.
Он обошел лужу полем, перешагивая через бочажки, и углубился в лес. Свежая листва овевала глянцевые ветви. Морщинистые зеленые лоскутки ракитника еще не расправились после зимнего стеснения, даже не успели обронить розовые шпоры опустевших почек. Трава под ногами пока не загустела, не сплелась, и каждая былинка помнила, наверное, как ее зовут. Зеленые ершики живучки были едва тронуты синевой, цвели белыми звездочками трилистники кислицы, у берез, между корнями, светились нежно-фиолетовые бантики болотной фиалки, из земли высовывались тугие рулончики будущих ландышей и лохматые кулачки юного папоротника. Но выше всех поднимались золотые головки долговязых лютиков. Под ногами то и дело попадались свежие отвалы кротов, оголодавших, видно, за зиму. Над головой невидимые разноголосые птицы пели о любви. Земля и небо впали в безрассудство весны.
Шагая, москвич сообразил, что Зоина бабушка могла носить другую фамилию. Где тогда искать гражданку Мятлеву? Однако его столичные опасения оказались напрасны. С косогора открылся вид на деревню: не более дюжины изб под шифером и дранкой стояли, упершись в мокрую дорогу, извивавшуюся вдоль рваного берега. За каждым домом, как за трактором, тянулись полосы вспаханной рыжей земли, огороженные тыном. В стороне поднималась часовня, сложенная из черных бревен, посеребренных мхом. Купол, покрытый узорным тесом, кое-где облетел. На маковке, вместо креста, сидела сорока, напоминая флюгер. За околицей пенились белые и розовые купы. Торчали бездомные печные трубы. Видно, раньше, до плотины ГЭС, село было намного больше, но ужалось, смытое большой водой. Городское сердце Скорятина заныло от невольной обиды за умаление деревни, которую он видел в первый и, возможно, в последний раз в жизни.
Зою он заметил с пригорка: она тяпкой подбирала осыпающиеся края высокой грядки. На девушке были черные сатиновые трусы с резинками (в таких школьницы раньше ходили на физкультуру), желтый лифчик от старого купальника, а на голове – пионерская белая панама с прорезями для косичек. Библиотекарша крестьянствовала умело, отложила тяпку и взялась за грабли. Мускулы играли под кожей, порозовевшей на цепком весеннем солнце. Незваный гость подошел, незаметно просунул лицо между жердями и громко, как майский репродуктор, объявил:
– Да здравствует советское крестьянство, самое колхозное в мире!
Зоя ойкнула, обернулась и выронила грабли. Ее загорелое лицо, не успев обрадоваться, ужаснулось:
– Вы?! Ну, вы… Не смотрите на меня! Я же пугало… – И убежала в дом.
Вернулась она минут через десять – причесанная, припудренная, в бирюзовом ситцевом платье и туфельках.
– Добрый день, Геннадий Павлович, – Зоя поздоровалась так, словно только что его увидела. – Какими судьбами в наше захолустье?
– Вот, приехал в Тихославль, а вас нигде нет.
– Неужели из-за меня приехали?
– Конечно!
– Интересно. А кто же вам сказал, что я здесь?
– Колобков.
– Еще интереснее. Предатель!
– Признался под пытками.
– Знакомьтесь! Геннадий Павлович, журналист из Москвы! – громко произнесла библиотекарша, сильней, чем обычно, округляя слова.
Он, недоумевая, оглянулся и обнаружил над забором, справа и слева, любопытные соседские головы, одну женскую в косынке, вторую мужскую, усатую, в газетной шапочке. Спецкор вежливо раскланялся. Головы, кивнув в ответ, исчезли.
– Проходите в дом! – все так же нарочито окая, пригласила Зоя. – В пять часов вечерний катер. Или вы на машине прибыли?
– Да, Николай Иванович подбросил и уехал.
– Времени у вас не так много. Но пообедать успеем.
– Благодарю! – Скорятин понимал, что сквозь жерди за ними следят придирчивые сельские взоры.
В избе пахло старым деревом, керосином и щами. Полкомнаты занимала беленая печь, но судя по тому, что на шестке выстроились пластмассовые фигурки: Чебурашка, Крокодил Гена, Волк и Заяц, – очагом не пользовались. В углу стоял большой черно-белый «Рекорд» на тонких ножках. Соседство телеэкрана и печного устья вызвало у журналиста тонкую философическую улыбку, по-своему истолкованную хозяйкой.
– Живем скромно. Да! Щи будете?
– Буду.
Пока она хлопотала, разогревая на керосинке кастрюлю, поднятую из подпола, пока выставляла на стол соленые огурцы и грибочки, хлеб, масло, гость незаметно огляделся. На стене висела обрамленная фотография бабушки в платочке. В красном углу, под образом, мигала живым огоньком лампадка. На иконе, старой, с ковчежцем, темноликая Богородица держала Сына в тонких, угловатых, как у марионетки, руках. На этажерке теснились книги и плутал фаянсовый Сусанин с топором, заткнутым за красный кушак.
Хозяйка налила кислых щей с тушенкой, а он гордо вытащил из сумки бутылку сладкого марочного вина «Ширин» и полкило костромского сыра, за которым простоял в очереди чуть ли не час. Выпив, Зоя раскраснелась, разоткровенничалась и рассказала, что же случилось после отъезда журналиста. Когда она, хромая, дошла до работы, Елизавета Вторая вызвала ее к себе и обвинила в краже книг из КОДа. Мол, заведующая абонементом выносит, ксерокопирует и продает по спекулятивным ценам. В доказательство царским жестом повелительница выложила на стол «Последнюю черту» Арцыбашева со штампом Тихославльской библиотеки.
– Вот, купила на Кузнецком мосту. За двадцать пять рублей. Ты брала эту книгу домой?
– Брала.
– Копировала?
– Нет.
– Можешь доказать?
– Нет.
– Пиши заявление!
– Неужели из-за какой-то книжки… – удивился спецкор.
– Не из-за книжки, а из-за вас!
– Из-за меня?
– Да.
– Из-за того, что я нес вас на руках?
– Вероятно, в своих догадках она зашла дальше, чем мы с вами.
Зоя посмотрела на него с веселым отчаяньем. Дальше пошел странный разговор, обычный, впрочем, между мужчиной и женщиной, которые уже устремились телами друг к другу и теперь случайными словами готовили души к стыдным, но неодолимым зовам плоти. Когда он, умолчав, конечно, о фасовщице с консервного завода, рассказывал, как бегал в самоволку полярными ночами, солнечными, словно сочинский полдень, Зоя подняла глаза на ходики, стучавшие на стене, и ахнула:
– Скорей! Уйдет!
Они выскочили во двор и помчались вдоль берега, крича и размахивая руками, но катер уже отвалил от понтонной пристани и, вспенивая винтом желтую воду, уходил вдаль.
– Значит не судьба.
– Или – судьба.
– Когда следующий?
– В шесть утра.
– Переночевать пустите?
– Даже и не знаю…
– Я вас не стесню. Сам лягу на лавочку, хвостик под лавочку.
– Допустим. Но есть одна проблема.
– Какая?
– У меня тюфяки еще бабушкины, набиты сеном.
– Ну и что?
– Колются…
– Ерунда.
– Что-то мне не нравится ваша решительность.
– Скромнее меня не найти из полка.
– Посмотрим.
До темноты они сидели на завалинке, молчали или говорили ни о чем, грызли семечки и следили, как раскаленный солнечный шар, остывая, тонет в холодной весенней Волге.
– А знаете, Зоенька, что мне рассказывал один знатный сталевар?
– Что?
– Когда из мартена бьет струя расплавленной стали, ее можно рассечь пальцем – и ничего не будет.
– Неужели?
– Да! Я сам удивился, но он мне объяснил: если руки абсолютно чистые, не страшен никакой огонь. Кто-то пытался повторить, но забыл вымыться и лишился пальца.
– По-моему, это ерунда.
– Не исключено.
– Пора спать… – вдруг как-то по-семейному сказала Зоя.
Действительно, вместо матраца на гостевом топчане оказался тюфяк, застеленный суровой простыней. Острое сено покалывало и опьяняло сухим ароматом.
– У вас тоже колется? – осторожно спросил скромнейший из полка.
– Тоже, – ответила из темноты Мятлева.
– Сильно?
– Можете проверить… – странным голосом отозвалась она.
…Скорятину казалось, он мерно косит податливую траву на душистом, влажном лугу: «Т-шик, т-шик, т-шик…» Среди ночи Зоя ахнула, разбудив Гену, и вскочила. В окно била полная луна. Мелькнув по избе млечной наготой, возлюбленная библиотекарша с запозданием набросила на икону посадский платок.
– Ты комсомолка, да? – улыбнулся он.
– Я кандидат в члены партии. И не смотри на меня так – стыдно же!
…Из Затулихи они возвращались через четыре дня. Катер то и дело приставал к берегу, развозя по сельпо серые взгорбленные буханки, уложенные в деревянные поддоны. На борту пахло московской булочной. Влюбленные устроились на скамейке за рубкой, чтобы укрыться от ветра. Три дня погода стояла изумительная: ни облачка, распустилась даже поздняя персидская сирень, грядки покрылись зелеными ворсинками всходов. Гена и Зоя бегали на коровий пляж загорать и, раздевшись, не могли удержаться от смеха: кожа пестрела красными точками, словно их с ног до головы искусали комары. Но виноваты были не летучие кровососы, а бабушкин тюфяк. Они падали на него вновь и вновь, насыщаясь друг другом, уставая, загораясь, приноравливаясь к робким пока взаимным прихотям. Умом, но не телом понимая, что плоть нуждается в отдыхе, шли вдоль берега, степенно здоровались с сельчанами, и это прилюдное гуляние «под ручку» искупало первобытную грешность их ночей. Она водила его ловить рыбу. Устроились на ветле, простершей толстые ветви над рекой. В прозрачной весенней воде было видно, как дергается на крючке червяк, а вокруг ходят окуньки, извиваясь полосатыми спинками и чувствуя подвох в упавшем свыше лакомстве. Но соблазн неодолим.
– Как мы с тобой…
– Что?
– Тащи!
Гена дернул ореховое удилище, откинувшись назад, потерял равновесие и упал в ледяную майскую реку. Сушились в баньке, на краю участка.
«Зачем все остальное? Зачем Москва? Ничего больше не нужно. Ничего!» – еле думал Скорятин, лежа на полке и счастливо содрогаясь от мягких и жгучих ударов распаренного березового веника.
Зоя оказалась отменной банщицей: у покойной бабушки научилась. За самоваром, смеясь, рассказала, как дед после войны (мужиков-то вернулось мало) обольстился молоденькой фельдшерицей, но вскоре, побаловавшись, вернулся с повинной. На суровый вопрос: «Что забыл-то?» – изменщик ответил, отводя глаза: «По веничку соскучился…»
«Вот оно, счастье!» – жмурился свежевымытый мечтатель, запивая малиновым чаем блинчики с земляникой.
В последнюю ночь они сломали бабушкину кровать, сбитую сельским столяром из дубовых брусьев еще до войны. Наутро погода испортилась. Распустился дуб, и настало черемуховое похолодание. Небо заволокли серые, дымные тучи, заветрило, и катер, ныряя носом, рассекал свинцовую ледовитую волну. Казалось, вот-вот из-за островка выплывет айсберг. Они накрылись вязаной кофтой и сидели, вжавшись друг в друга, как сиамские близнецы, сросшиеся сердцами.
– Вернусь в Москву, все устрою и заберу тебя.
– Нет, они подумают, я сбежала.
– Пусть думают.
– Не хочу, чтобы так думали. Особенно Болотина.
– Но ты же ни в чем не виновата.
– Во всем виновата гроза. Если бы не гроза, знаешь, сколько бы ты за мной еще ходил?
– Знаю.
– И еще, между прочим, неизвестно…
– Известно!
– Но почему, почему, почему?
– Что – «почему»?
– Почему ей можно, а мне нельзя?
– Ты о чем?
– Почему ей можно любить женатого, а мне нет?
– Почему ты решила, что я женат?
– Потому что ты женат – и у тебя ребенок.
– Кто тебе сказал?
– Колобков.
– Сволочь! Жалко, я его не убил. Он-то откуда узнал?
– У него в Москве друзья. Давай ты будешь просто приезжать. Я не хочу тебя ни у кого отнимать. У тебя красивая жена?
– Пожалуй…
– Вот и пусть все останется как есть.
– Нет, не останется. Я разведусь.
– А ребенок?
– У нас тоже будет ребенок!
– А я думала, ты согласишься. Ведь это же так удобно: одна жена в Москве, другая в Тихославле, третья…
– Ты меня с кем-то путаешь! – Гена сбросил с плеча бабушкину кофту.
– Глупый, я же тебя проверяла. Никому не отдам. Ни за что!
Зоя еще крепче прижалась к нему, и Скорятину показалось, что у них не сросшиеся сердца, нет, у них одно на двоих трепещущее от любви сердце. Тихославль возник за извивом реки, внезапно, будто поднялся со дна. Дебаркадер приближался, таращась черными покрышками, привязанными к борту. На причале из-под полы продавали вяленую красноперку и открыто – семечки. Старушки у подъезда встретили их, будто дружную семейную пару, вернувшуюся в город после праведных трудов на земле-кормилице.
– Добрый вечер! – вежливо сказал Гена.
– Спокойной ночи! – пошутила старушка, похожая на Маврикиевну.
– Говорят, яблынь в этом году обсыпная? – спросила вторая, точь-в-точь Авдотья Никитична.
– Как в снегу стоят! – кивнула Зоя.
– Цвет густой да плод пустой! – вздохнула третья, совсем как бабушка Марфуша.
Едва сели за чай, постучался Маркелыч, вызвал «хозяина» в коридор и деловито забасил, что давно пора менять колонку, старая совсем никакая, может в любое время рвануть и снести полдома. А ему мужики из газового хозяйства по собутыльной дружбе предлагают агрегат, почти новый, после капитального ремонта – и всего за литр с закуской. В общем, червонец на бочку – и будет всем счастье. «Хозяин», не обинуясь, с чувством сладкой домовитости, отдал соседу деньги.
Вечером пришел Илья, долго извинялся за беспокойство, исподтишка озирал комнату, ища приметы поселившейся тут взаимности. Он сообщил, что спецкора второй день ищут коллеги, подняли на ноги обком, звонили даже в приемную Суровцеву, мол, исчез московский журналист: приехал по острому сигналу и пропал, не случилось ли беды, не пора ли бить тревогу, поднимать органы? Враги перестройки готовы на всё!
А ведь и впрямь прошло целых четыре дня, но пролетели они, как миг, как нежное безвременье. Колобков выгораживал спецкора, крутился так и сяк, чтобы не догадались, куда делся важный гость. Николай Иванович тоже помалкивал, даже в путевке написал, что ездил совсем в другой район…
– Спасибо! Получишь орден Павлика Матросова. Похлопочу.
Говорил Илья и с Болотиной. Елизавета Вторая была непреклонна: Зое в библиотеке больше не работать, но обещала не сигналить куда следует, что заведующая абонементом Мятлева использует казенные книги, в том числе и идеологически небезупречные, в целях личного обогащения.
– Но это же Катя с Веховым! – возмутился Скорятин.
– Иди – объясни этой самодуре! – предложил Колобков.
– Не надо! – вздохнула Зоя. – У Кати мать без руки. К тому же Болотина и так все знает.
– Кандидатский срок у тебя когда заканчивается? – спросил Илья.
– В июле.
– Могут не засчитать.
– Значит, не достойна, – улыбнулась она.
– На нормальную работу не возьмут, – предупредил пропагандист.
– Да, – согласился спецкор. – В партии, как в банде, вход рубль, выход – два.
– Переживу.
Договорились так: Гена покажется в райкоме, поулыбается, успокоит общественность, а потом Николай Иванович отвезет москвича на аэродром, откуда в Быково летает Ан-24. Уходя, Колобков тоскливо посмотрел на разложенное кресло-кровать. Скорятин проводил его до порога и по-хозяйски запер за ним дверь. Зоя долго молчала, потом объявила, что утром пойдет на работу и объяснится с Болотиной раз и навсегда.
– Не барыня она в конце концов, а я не сенная девка, чтобы меня ссылать в птичницы!
– Только не нервничай, прошу тебя!
– Как это – не нервничай! Меня просто всю трясет!
– Успокойся! Думаю, вашей Салтычихе недолго осталось…
– С чего ты так решил?
– Предчувствие. А знаешь, какое самое лучшее лекарство от нервов?
– Теперь знаю… – она улыбнулась, перехватив его мечтающий взгляд. – У тебя в котором часу самолет?
– В тринадцать пятнадцать.
– Ты можешь проехать мимо библиотеки?
– Я думал, ты меня проводишь…
– Не будем дразнить гусей.
– Гусыню.
– Гусыню. Давай так: я буду стоять на ступеньках. Только ты не останавливайся, хорошо?
– А если снова гроза?
– Какие же вы в Москве все нахалы…
Утром, не напрощавшись всласть, они расстались. Зоя, как и обещала, пошла на работу, а Скорятин метнулся в райком. Знакомый сержант Степанюк пропустил его по-свойски, не спросив документы. Илья, отводя взгляд и ругая за опоздание, повел москвича к Рытикову. Районный вождь в ожидании рокового пленума обкома осунулся и засветился добрым участием к простым людям. Редкое состояние, накатывающее на больших начальников в канун падения с вершин. Он мягко упрекнул гостя за исчезновение и поинтересовался, где спецкор побывал, что повидал – ну и вообще…
– Любовался вашим районом, – тонко ответил Гена.
– Ну и как?
– Восхитительно, особенно зябь.
– Озимь! – поправил Илья.
– Ну конечно – озимь! Просто не выспался.
– Оно и заметно! – буркнул Колобков.
– Места у нас необыкновенные! – удивленно глянув на пропагандиста, кивнул первый секретарь. – Напишите! Не все же у нас плохо…
– У нас все просто хорошо! – улыбнулся журналист, вспомнив костлявые задницы коров. – Обязательно напишу!
– Как стерлядка?
– Фантастика!
Прощаясь, Колобков, чтобы не встречаться глазами со счастливцем, вертел головой и старательно приветствовал ответработников, сновавших по коридору с броуновской целеустремленностью. Илья говорил сразу обо всем: о том, что май в этом году капризный, что мальчишки копали землянку и нашли дохристианский амулет с рунической надписью, что после снятия Рытикова он вернется в музей, чтобы снова водить экскурсии и писать книгу о Святогоровой Руси…
– Пистолеты в музей отдал? – спросил Гена.
– Угу, – кивнул дуэлянт.
– Смотри, а то тебя за вынос оружия из партии погонят.
– Не погонят. Я под расписку взял. Вроде как для лекции «Поединок чести».
– Ну хитер! Слушай, а почему все-таки, если через платок стреляются, один пистолет не заряжен?
– А черт его знает!
– И это мне говорит историк?
– Ладно, посмотрю в литературе. Когда снова к нам?
– Не успеешь соскучиться.
– На свадьбу позовешь?
– Ага, шафером.
Николай Иванович подал машину и буркнул «здрасте!». Он был все так же осуждающе молчалив, а когда гость, спохватившись, попросил проехать мимо библиотеки, засопел, словно предстояло развернуть не «Волгу», а целый бронепоезд. Зоя стояла, как и договорились, на ступеньках, возле колонны, она почти незаметно махнула рукой, проводила автомобиль медленным поворотом головы и поникла. Гена задохнулся от сладкого горлового спазма, вспомнив фильм «Сережа», который часто крутили по телевизору в прежние годы, доводя до слез всю страну. Разве можно сухими глазами смотреть, как отчим Коростелев (в исполнении Сергея Бондарчука) увозит в прекрасные Холмогоры свою жену, Сережину мать (в исполнении Ирины Скобцевой), а пасынка, ослабшего от болезни, оставляет с бабушкой? Укутанный Сережа стоит в заснеженном палисаднике и в безысходной тоске смотрит на отъезжающий грузовик с пожитками. «Стой! – вдруг велит шоферу Коростелев, высовывается из кабины и кричит мальчику: Собирайся!» «Ему нельзя!» – причитает Скобцева. «Собирайся! Он едет с нами в Холмогоры!» – отрезает фронтовик Бондарчук. И ребенок расцветает счастьем. Все это взорвалось в сознании Скорятина, как шаровая молния.
– Остановите, Николай Иванович, пожалуйста!
Он, как каскадер, почти на ходу выпал из машины, взлетел по ступеням и с налету поцеловал Зою в губы, так, что они звонко стукнулись зубами.
– Поедем в Холмогоры!
– На самолет опоздаешь, ненормальный! – засмеялась она, поняв и оценив.
– Плевать! – и снова поцеловал ее – осторожнее и протяжнее.
– Меня же теперь никто замуж не возьмет! – прошептала Зоя, озираясь.
– Я возьму.
Шофер, наблюдавший прощание из машины, сразу подобрел и, когда счастливый спецкор плюхнулся на сиденье, тронулся не сразу, дав им допрощаться глазами. В дороге Николай Иванович не умолкал, возмущаясь статьей «Волжский застой» во вчерашней «Сельскохозяйственной жизни». Там Суровцеву припомнили все: и сдохших кур, и вертолетные атаки на колхозы, и даже то, что он не досмотрел до конца спектакль, привезенный в область Художественным театром. Сказал: «Вашему Калягину жуликов играть, а не Ленина!» – И вышел из ложи.
– Правильно Нина Андреева написала: с какой это стати там Ленин перед Троцким на колени встает?
«М-да, всерьез за мужика взялись!» – подумал Гена.
– Боятся они Петра Петровича, – вздохнул шофер.
– Кто боится?
– Горбач-балабол боится. Точно писатель-то ваш сказал: «На самолете взлетели, а куда садиться не знаем». Не знаешь – не лети! Сиди, где сидится.
– А Суровцев знает, куда лететь?
– Знает! За то и сживают. А его бы – в Кремль. Сразу порядок наведет. Посоветуй там своим в Москве.
– Посоветую.
– И Зойку не обижай! Редкая по нашим временам девушка… Сестра у меня такая же была. Как думаешь, рак скоро лечить будут?
– Скоро.
– Хорошо бы!
Маленький тряский Ан-24 летел чуть выше дымных облаков. В прорехи виднелась темно-синяя, широко петляющая Волга в зеленой опушке лесов, рябили в глазах разноцветные лоскутья полей и оловянные овалы озер. Крошечный поезд отсюда, сверху, напоминал нитку ртути, ползущую по частым черточкам градусника. Из аэропорта Быково, маленького, вроде магазина-стекляшки, Скорятин на такси поехал сразу в редакцию. Генриетта, увидев пропащего в приемной, закричала, что Гена – полный гад. Исидору пришлось звонить в ЦК, жаловаться на Суровцева, который явно сделал с потерявшимся журналистом что-то недоброе. Парторг редакции Козоян уже открытое письмо обобщенным врагам перестройки сочинил.
– А ты чего такой счастливый? – подозрительно спросила она.
– Потому что нашелся.
Шабельский ходил по кабинету шагами полководца, обдумывающего план генерального сражения.
– Ну, – спросил он, – есть?
– Есть!
– Где?
– Здесь! – Гена ткнул пальцем в лоб.
– Утром должно быть здесь! – Главред хлопнул ладонью по столу. – Надо, чтобы до пленума вышло и прогремело. Они не ждут, готовятся, хотят тезисы к девятнадцатой конференции оспорить. Вот будет драчка! Не подведешь?
– Не подведу.
– Почему не звонил?
– Боялся, что Суровцев телефоны прослушивает.
– Правильно. Возьми загранпаспорт с визами. Вылетаете послезавтра. Не забудь шампанское. Если хорошо напишешь – сразу после Индии полетишь в Чикаго.
– Зачем? – спросил Гена: после Индии он собирался снова в Тихославль.
– На Форум восходящих лидеров. Очень важное мероприятие. Я тебя заявил. Будешь в группе молодых журналистов. Делегация солидная. В ЦК утверждают. Чехочихин летит.
– В Америку-то что с собой брать?
– Бдительность. Еще можно икру. Черную. Но обязательно в стеклянных баночках.
– Они там из баночек алмазы точат?
– Остришь? Смотри, в Томск ушлю! Они просто хотят видеть то, за что платят деньги. Странный ты какой-то вернулся… Куда все-таки пропадал?
– В банду внедрялся, как Шарапов.
– Молодец! Я примерно так Марине и объяснил.
– Тебя ждать? – спросила жена, выходя из ванной в одном влажном полотенце, обмотанном вокруг головы.
– Нет, я утром должен сдать статью.
– Про Тихославль?
– Угу.
– Завари себе цейлонский! Там осталось. Не забудь из Индии чаю привезти. Грузинский я пить не могу. Трава!
– Хорошо, не забуду.
– Хочешь, я тебя подожду? Мне «Зияющие высоты» на два дня дали.
– Не знаю, когда закончу…
– Я все-таки почитаю.
Статья удалась. На планерке Шабельский возносил Гену так, что всем стало неловко от многословной щедрости главного, обычно скупого на похвалу. Триумфатор внимал вполуха и ловил себя на том, что испытывает к любовнику жены смутное чувство благодарности, ведь уйти от непорочной Ласской было бы куда труднее: чужая верность стреноживает. Но теперь, после ялтинских бычков, его совесть чиста, как свежая сорочка. Слушая восторги Исидора, он томился плотской памятью, невольно сравнивая нежную чуткость Зоиного тела с навязчивой щедростью Марины, которая все-таки дождалась…
Фельетон назывался «Номенклатурный многоженец и библиотечная Салтычиха». Публикацию сразу вывесили на стенде «Лучшие материалы номера». Сочиняя, он вдохновлялся благородной обидой за Мятлеву и ненавистью к самодуре Болотиной, а чтобы текст не вышел безысходным (по советским правилам это не допускалось), сделал лучом света в темном царстве раздолбая Рытикова, изобразив его талантливым руководителем среднего звена, затурканным областным тираном.
Одно начало фельетона дорогого стоило:
«Достопочтенный читатель, ты, конечно, думаешь, что «осетр» – это такая рыба. В крайнем случае, река, впадающая в Оку. А вот и нет! Так в старинном русском городе Тихославле, известном чудными церквами и дивным клюквенным морсом, называют новый дом из бежевого кирпича, выстроенный прямо на берегу матушки Волги в природоохранной зоне. И живут там, в спецхоромах, ох, не простые люди. У нас в Москве кунцевская «Ондатровая деревня», а у них, в Тихославле, «Осетр». Поговаривают, вместо «Осетра» можно было выстроить три многоквартирных дома. Не выстроили. Почему? Может, жилищный вопрос давно и окончательно решен в области? Как бы не так! В «волжском Китеже» народец живет в монашеских кельях, лабазах, ризницах, переоборудованных под коммуналки, в ветхих довоенных пристройках, бараках, оставшихся от зэков, строивших Костроярскую ГЭС. Надеюсь, гласность и тяга к социальной справедливости приведут к тому, что с каждого насельника «осетра» спросится: «За какие подвиги ты здесь навеки поселился?» Если заслужил – живи. Если хапнул – на выход с вещами.
Это дело будущего. Но об одной ответственной квартиросъемщице по фамилии Болотина промолчать в ожидании грядущей справедливости не могу. Еще недавно она обитала с дочерью в отдельном домике, рядом с городской библиотекой имени Пушкина, каковой и заведует. Да-да, бдительный читатель, это та самая библиотека, где недавно запретили заседания клуба «Гласность». Но я не об этом, я о жилищном вопросе, который продолжает портить людей. Итак, вроде бы куда еще Болотиной улучшаться? Однако, как учил отец народов, лучшее – враг хорошего. И вот она уже в «Осетре» – в трехкомнатной квартире. Почему же ей на двоих дали трехкомнатную? Не волнуйся, бдительный читатель, все по закону: наша книгохранительница с небывалой быстротой защитила кандидатскую диссертацию и получила право на дополнительные двадцать метров площади. Что, спросите, плохого в научном труде и степени? Ничего, если пишешь научный труд сам. Но, как поговаривают в городе, ей помогли и подсобили. Одна подчиненная, например, собирала библиографию и теперь в благодарность уволена. Так в преступном мире прячут концы в воду и убирают свидетелей.
А как живут в Тихославле прочие кандидаты наук? Иные так в бараках и прозябают. За что ж такая честь Болотиной? Увы, увы, не обошлось тут без обкома. Об ком же звонит колокол? Тут, читатель, мы вступаем в область грязного белья. Нет, речь не о единственном в городе допотопном банно-прачечном комбинате «Волна». Поднимай выше! Речь о первом секретаре обкома КПСС Петре Петровиче Суровцеве, который положенные ему по должности белые одежды сменил на предосудительное исподнее, весьма несвежее, ибо много лет живет на две семьи. Многоженец, короче говоря…»
– Ну ты дал! – похвалил Веня, поднимая «стременную».
– Аверченко в гробу плачет от зависти! – закусывая, подтвердил Дочкин.
– Талантливо, но не по-мужски, – вздохнул Шаронов, наливая «закурганную».
– Знаешь главный закон джунглей? – спросил опытный Жора.
– Нет.
– Утром, натощак, двести грамм виски. Дезинфекция. Иначе вылетишь через прямую кишку.
…В Индии Скорятин, кроме экзотических восторгов (слоны, обезьяны, кобры, базары, ковры, форты, таджмахалы, храмы совокупления), испытал чувство гордости за Родину. Отсюда, из тощего, голодного и нечеловечески грязного мира непритязательный Советский Союз выглядел раем для скромных душ. В отеле, едва войдя в шестиместный номер, они увидели на столе здоровущую обезьяну. Она смотрела злыми глазами потревоженного хозяина и угрожающе бурчала, обнажая желтые клыки. Туристы осторожно попятились и побежали жаловаться в рецепцию. На зов пришел сикх в синей чалме и с бамбуковой палкой. Примат заухал, схватился волосатыми руками за голову и высигнул в окно. В ответ на сердечные «сенькью» копченый спаситель белоснежно улыбнулся и произнес: «чимпейн». Бутылок оказалось столько, что вызвали носильщика. Наверное, до сих пор в ювелирных лавках на «Яшкин-стрит» можно купить изумруды, выточенные из того стекла.
Гена, получив ворох засаленных ветхих рупий, купил Марине нитку жемчуга для отвода глаз, Зое – роскошное топазовое ожерелье, а на продажу – бирюзовые бусы, которые наши брали метрами. Опытный собкор «Коммуниста» Войскунский объяснил: в Москве каждый камушек идет по семьдесят рублей. Скорятин, пересчитав бусинки, понял: треть суммы вступительного взноса уже есть. Вернувшись в Москву, бирюзу и топазовое ожерелье он спрятал в книгах, за собранием сочинений Лиона Фейхтвангера, а жемчуг вручил жене: возвращаться из-за границы без подарков у Ласских считалось дурным тоном. К тому же внезапная пусторукость мужа могла вызвать преждевременные подозрения. Марина обычно принимала дары и презенты с рассеянностью принцессы, забывшей счет своим сокровищам, а тут вдруг от пустячных бус вскипела восторгом, ошеломив бурной признательностью.
«Неужели Исидор подучил?» – размышлял Гена, содрогаясь от могучих ударов благодарных чресел.
…На Жорином столе зазвонил телефон, и главный редактор, сам не зная зачем, взял трубку.
– Алло, дундило, ты разве еще не переехал? – спросил звонкий баритон.
– Жора вышел.
– Ой, извините… – голос сразу охрип.
– Кто это?
– Я перезвоню…
«Ну Жора, ну жук! – подумал он. – Уже и на кабинет Сун Цзы Ло прицелился».
Дочкин давно мучился, что его комната меньше кабинета, доставшегося Сунзиловскому, и предлагал первому заместителю обмен, обещая взамен множество бонусов и вечную благодарность. Но китаевед, разукрасивший стены гористыми пейзажами Поднебесной, наотрез отказывался. Скорятин хотел заглянуть в Жорин компьютер, просмотреть почту, так, на всякий случай, но удержался. В прежние времена читать чужие письма считалось подлостью. Хуже только подглядывать за целующимися парочками. Но где они, прежние времена, где?
Перед Америкой Гена хотел на денек слетать в Тихославль, однако Шабельский услал брать интервью у Ельцина, которого задумали двинуть делегатом на 19-ю партийную конференцию назло Горбачеву и врагам перестройки. Спецкор поехал к опальному партайгеноссе на Лесную улицу, возле Белорусского вокзала. Квартира в цековском доме была просторная, хотя меньше сивцевовражеских хором, да и обставлена без антикварных затей, но с дефицитной роскошью. Разжалованный бонза принял журналиста приветливо и понравился: деловит, справедлив, подтянут, улыбчив. Только глаза злые, как у обезьяны, залезшей в номер.
Ельцин объявил: чтобы победить дефицит, надо пересажать московскую мафию, потом сообщил: хочет открыть правду о том, что с ним случилось, ищет писучего помощника. Сказав это, он испытующе посмотрел на гостя. Гена, поежившись, кивнул, обещал подумать над предложением и сразу перезвонить. Тот воспринял ответ как отказ и насупился. Чтобы сгладить неловкость, Скорятин перед уходом признался, что его сына тоже зовут Борисом, и попросил автограф – мальчику на память. Номенклатурный изгой взял из стопки свой снимок, еще политбюровских времен, с державной полуулыбкой и могучим зачесом над безмятежным лбом, задумался на миг и размашисто написал:
«Борис, будь всегда прав!»
Вручая фото, Ельцин посмотрел с той веселой мстительностью, которая впоследствии всем дорого обошлась. Людей с такой ухмылкой надо отлавливать на дальних подступах к Кремлю, на самых дальних, на самых-самых… Потом Гена пожалел, что отказался от предложения, ведь материал фантастический – человек пошел против системы, а что у него в душе? Чем жив вчерашний небожитель? Спецкор хотел позвонить Ельцину, но, еще раз обдумав ситуацию, делать этого не стал. Впереди был развод, устройство нового дома, смятение чувств, объяснение с сыном, расходы, а писать без надежды на гонорар книгу, которую вряд ли напечатают, не хотелось. Вот дурак-то! Если бы согласился накатать «Исповедь на заданную тему», то сегодня, как Юмашев, не знал бы, куда девать деньги. Впрочем, тогда его интересовала только Зоя!
Скорятин тщетно пытался дозвониться до нее. В библиотеке, узнав, кто спрашивает, сразу бросали трубку. Телефон Колобкова в райкоме не отвечал. Приблизительно вспомнив адрес, обеспокоенный Гена дал телеграмму: «Зоенька, срочно позвони в редакцию. Улетаю в командировку. Вернусь через десять дней. Сразу приеду. Люблю. Люблю. Люблю».
– Может, достаточно одного «люблю»? – посчитав карандашиком слова, завистливо улыбнулась почтовая дурнушка.
– Нет, не достаточно!
Однако в «Мымру» никто ему не позвонил, хотя Гена всех предупредил: если будут спрашивать из Тихославля, трубку не вешать, искать, найти, где бы он ни был.
– Не до тебя! – успокоил Жора. – Там сейчас после твоей статьи знаешь что делается?
– Догадываюсь.
Они снова бражничали. Скорятин проставлялся – теперь перед отбытием в Штаты. Веня, изнуренный ежедневным пьянством, дремал в кресле, сохраняя на лице вежливое внимание к застольной беседе, а Дочкин, дважды летавший в Америку, объяснял другу, что у негров покупать ничего нельзя: обманут в любом случае. В кабинет заглянул Козоян:
– Суровцева сняли.
– Когда?
– Только что. На пленуме обкома.
– Откуда знаешь?
– По белому ТАССу прошло.
– С какой формулировкой? – не просыпаясь, уточнил Веня.
– По собственному желанию.
– А что так?
– У него там, говорят, что-то с женой случилось.
– С которой из двух? – засмеялся Жора, подавая вестнику стакан водки.
– Рано еще вроде? – усомнился тот и с удовольствием тяпнул.
– Водка – продукт диетический. Можно пить в любое время суток, – все так же, сквозь дрему, наставил Шаронов.
– Я никуда не лечу… – тихо объявил Скорятин.
– Поздно, Дубровский! Списки знаешь где утверждали? – Жора показал пальцем в потолок. – У них там перекос с пятым пунктом вышел. Исидору приказали: только русского! Никуда ты не денешься.
– Долой политику государственного антисемитизма! – вздохнул Веня и открыл грустные голубые глаза.
На следующий день Гена уже летел в Чикаго. Ил-86 был набит перспективной советской молодежью. Возглавлял делегацию Мироненко – большеголовый говорун с таким же хохляцким «г», как у Горбачева. Пить начали, едва погасла надпись «Пристегните ремни!».
– А как же указ? – спросил кто-то из боязливых провинциалов.
– На путешествующих не распространяется, – ответил румяный попик.
По негласному разрешению на время встречи «Восходящих лидеров» трезвость отменили, чтобы не смущать американцев антиалкогольным тоталитаризмом. Кого только не было в том пьяном самолете! Молоденькие майоры, оттопырив мизинцы, поднимали чарки за своих боевых подруг. Свежебородые батюшки чокались с хасидами в широкополых, как у Михаила Боярского, шляпах. Даже муллам незаметно запускали в зеленый чай зеленого змия. Комсомольские вожаки со всех концов огромного дружного СССР угощали своей, местной, водкой и заставляли пить за вечное братство между народами. Прибалты кривились, но пока не отказывались. Захмелев, мужская часть делегации с интересом поглядывала на актрису Негоду, потрясшую страну диковинной позой наездницы в нашумевшем фильме «Маленькая Вера». Шептались, что она должна была с актером Лебедевым сымитировать интим, но чересчур увлеклась и вышло по-настоящему. На камеру! Семен Кусков улыбался верхней десной и, тряся мелированной гривой, пел для народа свой шлягер «Мы хотим перемен!». Фокусник Тигран Амакян на глазах изумленных советских пилигримов превращал десять рублей с профилем Ленина в доллар с Джорджем Вашингтоном. Популярный кинокомик Котя Яркин под общий хохот пародировал полупарализованного Брежнева. Пузатый борзописец, успевший в журнале «Юность» уязвить комсомол, школу и армию, размахивая руками, шумно рассказывал, что пишет теперь о том, как поссорились Михаил Сергеевич с Борисом Николаевичем. Ему не верили, думали: человек просто напился. Изредка меж кресел вежливыми единообразными тенями скользили молодые гэбэшники. В одном из них Гена узнал чекиста Валеру, и они по-братски переглянулись.
Летели долго, с посадкой в Дублине. Братались, орали любимые песни, особенно часто гимн советских загранкомандированных:
И Родина щедро поила меня
Березовым соком, березовым со-о-оком…
Дирижировал неведомый композитор Крутой, украинский парубок с ранней местечковой лысиной. Утром похмельная толпа выстроилась к паспортному контролю в Чикагском аэропорту – грандиозном, как декорация к «Звездным войнам».
– Не люблю я заграницы! – грустно молвил стоявший рядом Котя Яркин.
– Почему? – спросил Гена.
– Никто меня здесь не узнает.
Даже бывалого Скорятина Чикаго потряс инопланетными небоскребами и невероятными эстакадами. Вдоль бесконечной озерной набережной впритык стояли яхты, одна другой вместительней и круче. Вспомнив ржавый катер, на котором они с Зоей возвращались из Затулихи, Гена нехорошо вздохнул. Отсюда, из Чикаго, СССР выглядел бескрайним скудным захолустьем. А тут витрины огромных, как ангары, универмагов ошеломляли неземным изобилием. Спецкор, еще позавчера стоявший в очереди за колбасой, чувствовал себя дачником, который, выглянув за забор садово-огородного участка, обнаружил у соседа не мелкую, как орехи, картошку да вечнозеленые помидоры, а бананы, кокосы, ананасы и еще черт знает что – неведомо-тропическое. Всем было не по себе. Даже чекисты застеснялись своих одинаковых костюмов. Редактор «Памирского комсомольца» Мирза Сафиев от потрясения рухнул на какой-то коврик и стал нараспев жаловаться Аллаху. Вологодская комсомолка упала в обморок посреди магазина бытовой техники. Хорошо, у чекиста Валеры был нашатырь.
Американцы смотрели на русский табун с опасливым восторгом, словно к ним заехали бывшие людоеды, перешедшие на вегетарианскую пищу и выучившие десяток английских слов. Огромную делегацию разделили по интересам, в группе журналистов оказались человек десять. В «Чикаго трибьюн» спорили, как прийти к согласию через взаимопонимание, то есть ни о чем. Молодые американские райтеры, лохматые, в майках, старых джинсах, говорили легко, улыбчиво и снисходительно. Наши, потея в жарких костюмах, пытались соответствовать новому мышлению, но высказывались осторожно, боясь каждого слова. Оправдывая введение в Афган ограниченного контингента, простодушный хлопец из харьковской молодежки помянул изведенных индейцев и умученных негров. На него с тоской посмотрели даже свои, а американцы презрительно усмехнулись.
– Спроси их про Пуэрто-Рико! – шепнул чекист Валера.
Гена, поняв, что его втягивают в какую-то гэбэшную интригу, изобразил бытовое нетерпение и отлучился в туалет, где обнаружил в кабинке рулон туалетной бумаги с портретиками улыбающегося Рейгана. Потрясенный такой политической вольницей, Скорятин отмотал несколько метров и, туго свернув, спрятал в карман. Лучшего сувенира для смешливых московских друзей вообразить было нельзя, к тому же бесплатно.
Дискуссия несколько раз заходила в тупик, в ход шли нафталиновые взаимные укоры за убитого Михоэлса, депортированных мирных чеченцев, расстрелянного Че Гевару, Второй фронт, открытый, когда до Берлина можно было доплюнуть. Чтобы развеять навязчивые призраки холодной войны, кто-то из американцев с рычащим акцентом и примирительной рафинадной улыбкой говорил: «Peresroyka!» «Гласность!» – облегченно вторили наши. «Gorbatchov!» – подхватывали хозяева. «Новое мышление!» – не уступали советские. «Razorugenie»… Котя Яркин, с похмелья ошибочно затесавшийся к журналистам, под дружный смех изобразил советский танк, который сначала стреляет, а потом сам себя закапывает в землю.
– Спроси про Пуэрто-Рико! – умолял в отчаянье чекист Валера.
– Сам спроси! – огрызнулся Гена.
– Нам нельзя…
Потом выпивали и братались. Советские восходящие лидеры принесли водку, балык и черную икру. Хозяева окосели, хохотали, размахивали руками и просили Яркина снова и снова закопать в землю Империю Зла. Поправив здоровье, комик делал это с удовольствием. С водкой рашен – черт не страшен.
На другой день отправились с визитом в Чикагский горком компартии США. От метро шли какими-то грязными улицами, спотыкаясь о брошенные пластиковые бутылки. Вслед делегации нехорошо смотрели темнокожие аборигены. Навстречу попался огромный пузатый негр. Под мышкой он нес ободранный видеомагнитофон, а в руке держал прозрачную сумку, набитую банками пива и кассетами с голыми девицами на обложках. Комсомольцы переглянулись с завистливым недоумением, а актриса Негода презрительно повела своей всесоюзно знаменитой грудью. Горком помещался в большой грязной квартире на третьем этаже старого кирпичного небоскреба, обвитого ржавыми пожарными лестницами. Местные активисты, в основном цветные, встретили их пением «Интернационала». Был, правда, и один заморенный европеоид.
– Племянник генсека Гэса Холла! – шепнул чекист Валера.
На стенах висели портреты Маркса, Энгельса, Ленина и других лидеров коммунистического движения.
– А это еще кто? – спросил редактор «Курганского комсомольца», показав на снимок шевелюристого господина в пенсне.
– Троцкий, – с благоговением объяснил журналист из «Вопросов мира и социализма».
– Ах, вот он какой!
Сначала дружно – через переводчика – ругали злобный американский неоколониализм, империализм и, конечно, экспансионизм, потом хвалили «новое мышление» и взывали к пролетарской солидарности. Все это напоминало считалочку, в которую зачем-то играют взрослые дяди и тети. Закончилось, как положено, водкой, икрой, семгой и салом, прихваченным провинившимся харьковчанином. Чикагские коммунисты закусывали водку белыми, в красных прожилках ломтиками, сокрушенно твердя неведомое слово «holesterin». Потом пели «Катюшу», «Подмосковные вечера» и заунывные «зонги» несчастных негров, рубящих на плантации сахарный тростник, что-то вроде нашей «Дубинушки». В конце концов, племянник Геса Холла заплакал, вспомнив восхитительный круиз по Москве-реке во время незабываемого фестиваля молодежи и студентов.
Улучив пару часов между плотными встречами, делегацию отвезли в огромный супермаркет за городом. Скидки доходили до 50 процентов. Старые цены были безжалостно перечеркнуты косыми красными крестами. Чтобы никто не сомневался в дешевизне, у входа стояли ряженые микки-маусы и раздавали яркие листовки, подтверждавшие тотальную распродажу. Сначала советских людей, привыкших к товарному ригоризму, охватило оцепенение, особенно тех, кто впервые попал за границу. Хотелось купить все и сразу: и кроссовки «найк», и джинсовый комплект на роскошном синтетическом меху, и самозабрасывающийся спиннинг, и ковбойские полусапожки со стальными набойками, и кожаную куртку цвета «грязного апельсина»… Но вот кто-то отважный взял двухкассетный «Шарп» – и началась эпидемия. Рыжеволосая кассирша, видимо, ирландка, выбивая бесконечные чеки за одинаковые «шарпы», смотрела на чужаков, не понимая потребительского единодушия этих странных русских. Возможно, там, у себя, в СССР, они и спят все в одной постели…
– Обшарпанная у нас вышла делегация, – сострил Котя Яркин.
Он проявил небывалый индивидуализм: взял себе твидовую кепку и пообедал в хорошем ресторане с родственником, эмигрировавшим в США лет пятнадцать назад. Гена отнесся к покупкам серьезно, с мыслью о будущем. В Москве он занял триста долларов у Веркина и провез в сувенирной Спасской башенке, которую потом подарил племяннику Геса Холла. Парень пришел в такой восторг, словно пролетариат США наконец сбросил ярмо крючконосых банкиров с Уолл-стрит. Кроме того, Скорятин прихватил с собой четыре банки черной икры, как и учили, стеклянные, и сначала не знал, куда и за сколько пристроить, но переводчик из местных коммунистов, парень вполне смышленый, скупил деликатес у всей делегации по пятнадцать долларов за банку, видимо, неплохо наварив на этой негоции. Из командировочных денег спецкор не потратил ни цента, не позволив себе в июньскую жару ни банки пива, ни глотка пепси. В результате была куплена «двойка» – телевизор и видеомагнитофон «Панасоник». На метро денег не осталось, и он полтора часа пер до отеля «Ирокез» две коробки, огромную и поменьше, вызывая сострадание чикагских бомжей, побиравшихся на тротуаре. Слава богу, в холле он встретил соседа по номеру Витю из Донбасса, и крепкий редактор «Шахтерской правды» помог дотащить груз.
Перед отлетом снова дали два часа на шопинг. Гена налегке, без денег, бродил по джунглям бесчеловечного изобилия, мечтал, как увезет Зою из Тихославля в столицу, поселится с ней в новой кооперативной квартире, и они станут строить семейный уют с начала, с первых, сообща купленных вещей: тарелок, ложек, стульев, занавесок, кровати, подушек, простыней… Кропотливое, бережное домашнее созидание таит в себе не меньше радости, чем бурные совпадения плоти. И никто не знает, что прочнее слепляет вместе мужчину и женщину – упоительное синхронное плавание в море телесной любви или согласие, достигнутое в муках при выборе обоев для спальни? Он вдруг понял, что, нырнув из окраинной полунищеты в изобильный дом Ласских, лишил себя счастья муравьиного возведения родной кучи, а значит, и самоуважения. Марина всегда смотрела на него как на ухудшенную копию отца. А бабушка Марфуша любила приговаривать: «Прежде полбу – батраку, а впослед и примаку!»
– За что по лбу-то? – удивлялся маленький Гена.
– Полба – это тюря такая, – объясняла старушка.
В день отлета, утром, в дверь кто-то постучал. Шахтера в номере не было, после отвальной пирушки он заночевал у ростовчанок, кажется, отличниц народного образования. Спецкор открыл дверь: никого. На пороге лежал пакет. Проинструктированный о возможных провокациях, восходящий лидер хотел поначалу обратиться за советом к Валере, жившему на том же этаже, но любопытство пересилило осторожность. В пакете обнаружились миниатюрное Евангелие в виниловой обложке и три томика «Архипелага ГУЛАГ», набранного блошиным шрифтом. Оглядев пустой коридор, Гена схватил пакет и спрятал на дно чемодана.
В людном чикагском аэропорту «обшарпанная» советская делегация с одинаковыми белыми коробками напоминала роту, пришагавшую в баню со скатками чистого белья под мышками. Лишь трое, как Скорятин, разжились видаками и телевизорами, они поглядывали друг на друга с гордой классовой солидарностью. Чекисты, сменившие одинаковые серые костюмы на неотличимые джинсовые куртки «ливайс», нервничали: исчезла Негода и куда-то пропали пять молодых политиков, которые все эти дни ездили по отдельной программе. С актрисой скоро разобрались: ее пригласили сняться в купальнике для «Плейбоя» (потом оказалось – голышом), и она осталась в Штатах на несколько дней (позже выяснилось – на много лет).
А вот по поводу «особой пятерки» заподозрили худшее, собирались даже задержать чартер, но тут они появились, толкая перед собой тележки с компьютерами, факсами, ксероксами, радиотелефонами, принтерами и прочей невиданной оргтехникой. Гена глянул на Валеру, но тот в ответ недоуменно пожал плечами.
– Сколько же все это стоит?
– До хрена и больше!
– Ты этих ребят знаешь?
– Еще бы! – вздохнул чекист.
Через несколько месяцев, когда объявился Народный фронт, о котором Исидор знал заранее, и в телевизоре замелькали новые лица, перекошенные жаждой перемен, среди них были и те ребята с полными тележками. Чудны дела Твои, Господи, особенно если Ты, вездесущий, занимаешься большой политикой!
Едва Ил-86 тяжело, но аккуратно припал к родной земле и покатился, подпрыгивая на стыках плит, делегация захлопала в ладоши: новшество, подхваченное в Америке, когда они на два дня летали внутренним рейсом в Филадельфию – посмотреть на знаменитый колокол демократии. Штатники, как дети, аплодировали в честь удачного приземления. Жизнерадостный народ! В Шереметьево солидно, как большие, лидеры проходили через спецкоридор для дипломатов, и вдруг хмурый таможенник приказал Гене:
– Откройте чемодан!
В одно мгновение бедняга вспотел так, что даже в ботинках захлюпало. Предчувствуя гибель, он дрожащими руками стал расстегивать молнию, собираясь чистосердечно выдать властям запрещенную литературу, тщательно завернутую бывшим коммунистом в грязное белье…
«А может, и к лучшему, – обреченно думал спецкор. – Козоян не будет душу выматывать, не потащит из-за развода на партком…»
– Да не вы! – поморщился страж. – Вы!
Журналист оглянулся: за ним стояла толстая дама с лицом директора комиссионного магазина и прической депутатки райсовета. В подведенных глазах ее застыл ужас.
В зале прилета долго прощались, обещая писать и звонить, полагая сберечь те странные узы, которые переплетают людей за неделю-другую коллективных скитаний. В момент расставания эта связь кажется неразрывной. Ну как это завтра не увидеть уморительную физиономию Коти Яркина? По горячим просьбам комик в последний раз изобразил советский танк, сам себя зарывающий в землю, и все хохотали, пряча слезы. Ростовская отличница народного образования в голос рыдала на шее редактора «Шахтерской правды», он гладил бедняжку по голове и беспомощно хмурился: обоим предстояло возращение в крепкие советские семьи. Гена смотрел на них с превосходством: он-то принял решение!
«Вот были времена!» – улыбнулся Скорятин и налил себе водки, не дожидаясь возвращения Дочкина.
Недавно на даче, роясь в макулатуре, он наткнулся на трехтомник Солженицына и вспомнил, что из-за этих книжек с мелким, как лобковая вошь, шрифтом едва не получил инфаркт в Международном аэропорту Шереметьево-2. А может, и стоило умереть тогда, еще при советской власти, и не увидеть всего этого бардака, этого накликанного жизнетрясения, как купец первой гильдии Семиженов, преставившийся в январе 1917-го. Донбасского Витю потом как-то показали по телевизору: он стучал каской у Горбатого Моста, требуя почему-то закрытия шахт. А Мирзу Сафиева четвертовали во время Душанбинской резни, лет через пять…
…Гена опрокинул в одиночестве рюмку, закусил килькой, оглянулся на дверь, быстро пересел в Жорино кресло и попытался открыть почту. Не тут-то было: «Введите пароль!».
«Осторожный мальчик! – подумал главный редактор. – Долго он что-то сидит у Заходырки. Да и черт с ним!»
Выйдя в коридор, главный редактор чуть не столкнулся лоб в лоб с Непесоцким. Фотокор мчался, нежно прижимая к груди листок бумаги, и поспешил поделиться своим счастьем:
– Подписала!
– Что?
– Смету на расходные материалы!
В приемной сидел тощий старичок в коричневом пиджаке, похожем на френч. Желтая клетчатая рубашка была застегнута на все пуговицы, синие лыжные брюки с белыми лампасами заправлены в серые сапоги-луноходы. На коленях посетитель держал красную папочку – в такие вкладывают поздравления к памятным датам. Ольга, увидев шефа, отвела глаза: оберегать начальство от «чайников» входило в ее прямые служебные обязанности.
– Геннадий Павлович, это к вам! – виновато прощебетала она.
– Ко мне? Э-э-э…
– Николай Николаевич, – подсказала секретарша.
– Николай Николаевич, а мы разве с вами договаривались?
– Я вам звонил, но вы все время в командировках! – тонким обиженным голосом ответил визитер.
– Ну не все время. Вы преувеличиваете! Сейчас я, видите, на месте. – Главред отвечал «чайнику», как и полагалось, с доброй терапевтической улыбкой.
– Вижу и много времени у вас не займу. – Старик по-военному встал и одернул френч.
– А по какому вы вопросу, если не секрет? – задушевно поинтересовался Скорятин, предчувствуя муку.
– По важному. Могу сообщить только один на один! – пришелец глянул на Ольгу с недоверием.
– Хм… Проходите в кабинет!
Пропустив «чайника» вперед, Геннадий Павлович наклонился и с тихим раздражением спросил секретаршу:
– Это кто еще такой?
– Не знаю! – шепотом ответила она. – Месяца два звонит. Сегодня утром тоже. Я объяснила: вы уехали, а он, поганец, был в здании и видел, как вы шли… на третий этаж.
– Предположим. А в редакцию впустили зачем?
– Он сказал Жене, что хочет оформить льготную подписку. Хитрый!
– Вот и отправили бы его в распространение.
– Я предлагала. Он уперся: только к вам. Я хотела Женю позвать, а дедок стал за сердце хвататься…
– Плохо!
– Симулянт, наверное.
– Симулянты тоже умирают. Ладно. Если попрошу чаю, вы минуты через три зайдите и скажите, что меня срочно вызывают…
– Куда?
– В Кремль. Придумайте что-нибудь! Меня никто не искал?
– У вас там, на столе, мобильный обзвонился…
– Опять оставил. Склероз.
– Геннадий Павлович!
– Что?
– Муж, кажется, все знает! – с торжественным ужасом сообщила она.
– Не сознавайтесь ни в коем случае. Мужчины доверчивы, как индейцы. Господи, только «чайника» мне сегодня не хватало!
Когда-то, на заре гласности, в «Мымру» тянулись ходоки со всего СССР – за правдой, защитой, помощью, советом. Стояли к знаменитому журналисту в очереди, как к доктору, исцеляющему мертвых. Редакционные коридоры заколодило мешками с письмами, присланными в рубрику «Граждане, послушайте меня!». Люди не только жаловались, просили помощи, сигналили о недостатках, нет, они заваливали газету идеями, проектами, рацпредложениями, открытиями, – особенно много было планов добычи всеобщего счастья. Веня, помнится, бегал по редакции и всем показывал трактат учителя физкультуры из Кременчуга. Тот грезил приспособить вулканы под реактивные двигатели и превратить Землю в космический корабль, скитающийся по Вселенной в поисках лучшей доли.
– Гений! Новый Чекрыгин! – кричал Шаронов. – О великий русский космизм!
– Но это же бред! – возражали ему.
– Бред – двигатель прогресса!
Он телеграммой вызвал гения в Москву, они пропьянствовали неделю – тем и кончилось. Случались, правда, дельные предложения. Например, кому-то пришла мысль за перевыполнение плана выдавать трудящимся премии не деревянными рублями, а бонами, которые получали советские заграничные труженики. Отоваривать чеки предлагалось в тех же самых ненавистных «Березках», переведенных на круглосуточный режим работы. По расчетам, производительность труда должна была взлететь на фантастическую высоту и обеспечить стране мощный рывок в соревновании экономических систем. Несли в редакцию и практические изобретения. Народный алхимик из Целинограда привез клей с красивым названием «Навсегдан», сваренный в гараже из подручных материалов. Чудо! Мазнули под ножками стула, и через пять минут оторвать мебель от пола не смог даже здоровенный Ренат Касимов, еще не покалеченный в Чечне. Съезжая из зубовского особняка, приклеенный стул так и оставили – он буквально врос в пол, оправдывая название клея. Умельцу вручили диплом и фотоаппарат «Зенит». Где он теперь, Кулибин? Пропал, наверное. Имелось у самородка еще одно изобретение, так сказать, внеконкурсное: капал какую-то хрень в метиловый спирт, и тот становился этиловым. Обпейся!
А после 1991-го люди сникли, разуверились, отупели, выживая, и не стало проектов скорейшего процветания, безумных идей блаженной справедливости, замысловатых подпольных изобретений. Ничего не стало. Слишком жестоким оказалось разочарование. Даже жалуются теперь в газету редко: не верят, что помогут. Несправедливость стала образом жизни. Гена попытался возродить знаменитую рубрику «Граждане, послушайте меня!». И что? Ни-че-го. Пришло несколько писем, в основном от психов. В редакцию ходят теперь только «чайники», от них не спасают ни охрана, ни кодовые замки.
…Главный редактор ободряюще кивнул посетителю, который всерьез устроился за длинным столом и хмуро озирал кабинет, особенно интересуясь Большой тройкой, читающей «Мир и мы». Скорятин нашел в бумагах свой телефон и проверил, кто звонил. Так и есть: пять непринятых вызовов от «помощницы сенатора Буханова». Последний – десять минут назад.
«Ишь ты, спохватилась, индушечка!»
Ощутив в сердце болезненное удовлетворение, он сел напротив незваного гостя и с профессиональным дружелюбием спросил:
– С чем пришли?
– Сколько у меня времени?
– Пять минут. В шесть планерка.
– Планерка у вас уже была. – Николай Николаевич строго посмотрел на собеседника. – Вы, конечно, думаете, я сумасшедший? – Взгляд у него был водянистый.
– Ну что вы!
– Не отпирайтесь! Все так думают. Циолковского тоже считали чокнутым, а теперь он – памятник. Но и это не важно.
– Что же важно?
– Важно то, что я вам сейчас скажу. Ваш кабинет проверен?
– В каком смысле?
– В смысле прослушки.
– Разумеется. Я весь внимание!
– Минуточку! – «Чайник» достал из папки проволочную рамку и поднял над головой.
Контур чуть дрогнул в его кулаке.
– Прослушки нет. Но энергетика черная. Очень!
Естествоиспытатель покачал головой и спрятал прибор, потом несколько раз глубоко вздохнул, размял пальцы, ловко поймал что-то в воздухе, размахнулся и выбросил прочь.
– Я почистил ваш аурофон.
– Спасибо! – душевно поблагодарил Гена.
– Тогда ответьте: народное достояние присвоили два десятка инородцев, которых мы вежливо именуем олигархами. Это нормально? Погодите, не отвечайте! Это только первый вопрос. Теперь – второй. Десять лет страной правил пьяница. Это как? Мы резали линкоры, отпиливали боеголовки, а американцы обкладывали нас по периметру. Кто ответил? Никто. Путин – кадровый сотрудник КГБ и терпит в правительстве агентов ЦРУ. Почему?
– А кто в нашем правительстве из ЦРУ?
– Скажу. Потом. Если захотите. А вам не интересно, почему русские женщины, самые целомудренные в мире, стали поголовно проститутками и совокупляются черт знает с кем? Это мой второй вопрос!
Гена вспомнил рыжий переходящий лоскут Алисы, сытую улыбку Маугли и молча согласился с «чайником». Нет, Зоя никогда бы так с ним не поступила. Никогда!
…Чекист помог Скорятину перетащить коробки из зала прилета на стоянку такси и уместить картонный куб с телевизором в багажник черной «Волги», левачившей у аэропорта. Друзья обнялись и расстались навсегда. Впрочем, нет, однажды Гена в ожидании очередного нагоняя томился в приемной Кошмарика, пока тот совещался со Злотниковым, провалившим выборы. Наконец Сёма, злой и красный, выскочил из кабинета. Его тут же стеной окружила охрана. Так вот, один из «секьюрити» показался похожим на Валеру, постаревшего и облысевшего, но еще бодрого. По всему, он был тут главным, распоряжался, командовал в шипящую рацию, даже не глянул на своего чикагского друга. Так, наверное, и погиб, бедняга, вместе с боссом, когда мотоциклист прилепил к крыше бронированного «мерседеса» бомбу. Или ехал в другой машине. Какая разница? Человек, выпавший из твоей судьбы, в сущности, так же мертв, как и все, зарытые в тесной кладбищенской ограде.
«Левак», крутя баранку, косился на яркую плоскую коробку с видаком, которую счастливый обладатель бережно держал на коленях. Наконец водила не выдержал:
– Откуда?
– Из Штатов.
– И почём?
– «Видак» – двести. Телик двести пятьдесят.
– Недорого.
– Просто повезло – на сейл попали.
– На что попали?
– На распродажу. Сезонная уценка.
– С браком, что ли?
– Почему с браком? Перепроизводство у них. Не знают уж, как товар продать. Берешь двойку – сразу скидка 50 процентов.
– А сколько же там народ получает?
– По-разному. Работяги – тысячу-полторы долларов.
– В год?
– В месяц.
– Вот суки!
– Кто?
– Коммунисты долбаные!
Предусмотрительный Гена повез покупку не домой, а к Алику. Тот обещал за хорошие деньги пристроить технику дружественному жестянщику с Кунцевского автосервиса. Бирюзовые бусы Веркин уже сдал знакомому ювелиру. План был такой: забрать выручку за вычетом долга, отдать на реализацию «двойку», потом днем, когда Марина на работе, заскочить домой, вынуть из тайника Зоино ожерелье, быстро собрать вещи и улететь в Тихославль – без рыданий и объяснений. Как говорили в те годы: «Уходя, уходи!»
Бывший рыцарь правды встретил гостя в махровом халате. Он переживал трудные времена. Не без папиной помощи его взяли в АПН и готовили к засылке в Австрию – собкором. И вдруг он по-дурацки погорел на валюте – спьяну решил разменять в «Метрополе» сто долларов. Дело-то пустяшное, привычное, но Алик попал под декаду борьбы с фарцовщиками. Расстрелять, конечно, не расстреляли, не те времена, но загранка обломилась, да еще отец набил сыну морду, и тот долго не мог показаться на людях. Поганца пристроили в «Пионерскую зорьку», и он приторным голосом рассказывал в эфире, как юные поколения всего мира завидуют счастливому советскому детству.
– Ну ты дал! – восхитился Веркин, обнимая однокашника.
– А что случилось?
– Твоего «Многоженца» Горбач на Политбюро цитировал. Сказал: только гласность может одолеть агрессивно-послушное большинство. Знаешь?
– Нет. Я же прямо с самолета.
– Слушай, Ген, я хочу свою газету организовать.
– А разве можно?
– Скоро будет можно, хотя и трудно. Я на «коня» надеялся, но он не при делах.
– А что такое?
– Выперли.
– За что?
– Не с теми водку пил. Теперь на даче кроссворды разгадывает. Поговори с Исидором! Он у Яковлева через день бывает.
– А как назовешь газету?
– «По прочтении сжечь!» – хихикнул Алик.
– Я серьезно!
– Еще не думал.
– Назови «Честное слово».
– Здорово! Прямо сейчас придумал?
– Угу.
– Такая голова и такому дураку досталась. Не разводись с Мариной!
– Ты-то откуда знаешь?
– Все знают.
– Я люблю другую.
– Гена, любовь – это функциональное расстройство. Лечится регулярным семяизвержением. А семья – святое.
– Не обсуждается.
– Вот к чему приводят смешанные браки. Еврей так бы не поступил! На, забирай свои бабки! Долг я вычел… – Веркин протянул перехваченную аптечной резинкой пачку красных десятирублевок с камнелицым Ильичом.
– Спасибо, – спецкор, недоумевая, взъерошил купюры: денег было явно маловато.
– Я семь процентов снял, – уловив сомнения, разъяснил Алик. – Комиссионные. Обычно берут десять, но я по-дружески…
– Конечно, конечно… – закивал Скорятин, прежде не сталкивавшийся с рыночными отношениями в своем кругу.
– За «двойку» возьму пять процентов! – лучезарно пообещал однокурсник.
– Почему же?
– Скидка за «Честное слово»! – Взор рыцаря правды заволокло счастье вынужденного благородства. – В этой жизни все имеет цену. Бесплатно только птички поют.
«Может, это и есть социализм с человеческим лицом? – думал Гена, спускаясь в лифте. – Общество цивилизованных кооператоров. Или это уже капитализм?»
– А вы знаете, что трупы в могилах теперь не разлагаются?
– Почему? – очнулся главный редактор.
– Почему-у? – передразнил «чайник». – Из-за консервантов, которые мы с вами кушаем. На страшном суде все будем как огурчики. Пошутил. Теперь шестой вопрос. Как получилось, что флаг новой России по расцветке один в один с этикеткой «Пепси-колы»? Замечали?
– И в самом деле: красный, синий, белый… Вы верите в теорию заговора?
– Заговор, мой друг, – это не теория, а тысячелетняя практика. Вспомните ветхозаветных интриганов!
…По пути домой окрыленный Гена залетел на почту и дал Зое телеграмму: «Буду сегодня вечером. Встречай! Люблю. Люблю. Люблю».
Знакомая почтовая девушка уже не советовала сократить количество слов, а лишь завистливо вздохнула.
Но дома его встретила Ласская в черном платье.
– Борис Михайлович? – с порога догадался он.
– Павел Трофимович… Котенок, мне очень жаль!
Отец умер от обширного инфаркта, разругавшись со сменным мастером из-за несправедливого распределения продовольственных заказов в цеху: курица, гречка, чай, колбаса, зеленый горошек… Мать перечисляла продукты и плакала в трубку, потом мертвым голосом попросила купить недорогой черный костюм. Темно-синий, справленный к сорокалетию, отдали в ателье перелицевать, а там совсем испортили. Оставался второй, серый, летний, но в светлом хоронить никак нельзя. Скорятин пожалел: в Чикаго, в магазинчике секонд-хенда, он видел почти новую черную тройку всего за десять баксов. Но тогда бы не хватило на телевизор.
Марина успокоила и повезла осиротевшего мужа в Измайлово, где в универмаге работала дальняя родственница, удивительно похожая на актрису Ахеджакову, даже голос точь-в-точь, будто из двух близняшек одну отдали в кино, а вторую – в торговлю, на всякий случай. «Ахеджакова» вынесла из подсобки польский костюм фирмы «Элана», очень дешевый, но приличный на вид.
Потом на машине помчались в Жуковский, за полсотни километров от Москвы. Там, в центре городка, стоял мощный сталинский гастроном – с колоннами, мозаичным полом, золоченой лепниной на потолке, тяжелыми латунными люстрами, мраморными прилавками и огромным аквариумом, где медленно плавал одинокий карп, косясь на покупателей обреченным глазом. К стеклу приклеили бумажку: «Образец не продается». В магазине было шаром покати. В холодильных витринах лежали только желтые кости с остатками черного мумифицированного мяса, а вдоль кафельных стен высились замки, выстроенные из красно-синих банок «Завтрака туриста». Через весь зал тянулась, петляя, сварливая очередь за гречкой: килограмм в руки. Директор гастронома, кругленький и лысый, как актер Леонов, уныло сидел в кабинете, увешанном грамотами и желто-алыми вымпелами с ленинским профилем. Чего-чего, а вождя в пустом магазине хватало. Увидав на пороге гостей, «Леонов» вяло махнул пухлой лапкой:
– Не завезли.
– Мы от Александра Борисовича, – тихо объяснила Марина.
– А-а! Тогда за мной! – посвежел толстяк.
По бетонной лестнице спустились в большой, как теннисный корт, подвал. Это была пещера продовольственного Али-Бабы! Ежась от холода, они шли вдоль многоярусных полок с невозможной жратвой. Сквозь пелену горя Гена видел банки с давно забытыми деликатесами – икрой, красной и черной, крабами, осетровым балыком, тресковой печенью, атлантической сельдью, макрелью и трепангами. По закуткам стояли корчаги маслин, оливок и корнишонов. С потолка копчеными сталактитами свисали колбасы, от пола росли штабеля сыра. В аккуратных коробах желтели гроздья бананов, местами уже почерневших, в ячеистых картонках покоились апельсины, груши, персики, из бумажных оберток торчали жесткие зеленные охвостья ананасов. Целый угол занимали коробки с пивом «пилзнер».
«Теперь понятно, почему наверху ни черта нет! – подумал спецкор и начал в мыслях сочинять фельетон «Подпольное изобилие».
Марина, оставаясь скорбно-сдержанной, мела продукты впрок, не только на поминки, но и на свой скорый день рожденья. Толстяк-директор советовал со знанием дела: «Возьмите сахалинскую семгу, она лучше, а икру берите осенней расфасовки!» Попутно он восхищался коллекцией Александра Борисовича, жалуясь, как подорожала в последнее время графика Сомова. Оно и понятно: в стране скрытая инфляция. Продукты сложили в большие коробки из-под яиц. Грузчик, воровато озираясь, вынес их через черный ход и быстро покидал в багажник «Жигулей», пока не заметили озлобленные дефицитом граждане. Стоило все это больше двухсот рублей, да еще двадцать процентов сверху.
– Оформляем как свадебный заказ с доставкой на дом, – виновато объяснил «Леонов». – Иначе нельзя. Контроль и учет. Социализм…
«Да уж, социализм!» – хмыкнул Скорятин.
Похоронная агентша, рыхлая тетка с халой на голове, объяснила родне усопшего, что хоронят теперь чуть ли не в Домодедово, однако за пятьсот рублей она может похлопотать и добыть местечко на Востряковском, а это хоть и на окраине Москвы, но зато со МКАДа очень удобно заезжать…
– Не надо! – брезгливо ответил Марина. – Сами разберемся.
– Гробы остались защитного цвета. Оборка темно-зеленая. Других нет! – мстительно объявила «харонша» и ушла в одуряющем мареве покойницких духов.
Жена разобралась: тесть позвонил кому-то в Моссовет и выбил хорошее место на Ваганьковском кладбище, у забора, под старинной липой, рядом с черной мраморной тумбой купца первой гильдии Евлампия Карповича Семиженова, «усопшего 6 дня января 1917 года от Р. Х. пятидесяти трех лет от роду». Сын стоял у открытой могилы и в последний раз смотрел на безмятежно-мертвое отцовское лицо, на его ставший вдруг крючковатым нос и думал почему-то о купце, вовремя юркнувшем в землю от грядущих кошмаров революции. Марина бережно поддерживала шатающуюся от горя свекровь, которая уже не плакала, а тихо сипела. Александр Борисович и Вера Семеновна переминались, склонив головы в отчужденном сочувствии. Борька уткнулся в бабушкин шанелевый ридикюль, чтобы не видеть мертвого деда. Это были его первые похороны. Борис Михайлович по ветхости не пришел, но прислал соболезнование почему-то на первомайской открытке. Поминки устроили в редакционной столовой с великодушного разрешения Исидора. Впрочем, такова была традиция. Марина не отходила от свекрови, сочувствуя ее скорбной радости по поводу удачного кладбища и уютной могилки, куда она и сама с радостью уляжется рядом с «бедным Павликом». Сын слушал и удивлялся: как можно радоваться своей будущей яме, даже если выроют ее возле мавзолея? Это же «мо-ги-ла», где твое прежде живое, полное желаний тело сгниет, исчезнет в утробах жадных червей. Бред! И лишь недавно, лет пять назад, после смерти матери, ему стали являться такие же мечтательные мысли о посмертном уюте. Видимо, родители, пока живы, заслоняют ребенка от могильного хлада, сквозящего из неведомых щелей Вечности.
Приезжая сюда раз в год, перед Пасхой, прибраться, Гена по-хозяйски оглядывал стесненную местность. Любовался липой, анютиными глазками, ревниво осматривал ближние ограды, кресты, плиты, имена, все плотнее обступавшие родительскую, а в будущем и его собственную могилу. И в душе появлялась коммунальная обида на кладбищенское уплотнение. В детстве он слышал однажды сквозь дрему возмущенное перешептывание взрослых. Они сердились, что вместо умершего инвалида Савельева в соседнюю комнату вселяется семья из трех человек. «В уборную теперь не достоишься!» Недавно исчезла и черная тумба купца Семиженова. На ее месте вспух, будто гигантский шампиньон, «Гурам» – беломраморный верзила с волчьим загривком и добрыми голубыми глазами – инкрустированными.
– …Вы следите за ходом моей мысли? – усомнился Николай Николаевич.
– Конечно!
– Тогда одиннадцатый вопрос. Почему мы так спокойно отнеслись к легализации однополых связей? Скоро в храмах пидарасню венчать будут!
– Как вы сказали?
– Извините, не сдержался. У вас не принято угощать гостей чаем?
– Что? Да, конечно… – главред встал и нажал кнопку селектора. – Оленька, нам бы чайку!
– Конечно, Геннадий Павлович, – с пониманием отозвалась секретарша.
– А вы не задумывалась вот еще о чем, – пришелец внимательно посмотрел в глаза собеседнику: – Почему цивилизация выбрала бесплодный грех? Ведь и гомосексуализм, и полигамия – это в любом случае попрание заповедей Христовых. Но если человечество решило грешить, то почему не выбрало многоженство, многомужество, промискуитет наконец? Да, мерзко, да, разврат, но плодоносный! Ан нет, цивилизация предпочла бесплодный содомский грех, чреватый СПИДом. Почему?
– Почему? – переспросил Скорятин, сообразив, что Алиса могла делиться своим рыжим лоскутом не только с индусом.
– Объясню. Позже.
…Гена так и не смог объявить скорбно-заботливой Марине, что уходит к другой женщине. Намекнул безутешной матери, мол, в его семейной жизни возможны перемены, но та пришла в ужас, замахала руками, стала искать валидол и твердить, что покойный отец за такие мысли прибил бы сына. Она как-то сразу забыла, что всю жизнь надрывно ревновала мужа, даже тайком обнюхивала его рубашки на предмет неверных ароматов.
Пришлось дать Зое еще одну телеграмму. Он решил после девятин тихо, никому ничего не объясняя, уехать в Тихославль и оттуда написать жене: мол, будь же ты счастлива со своим Исидором, плодитесь и размножайтесь! Но не в лоб, конечно, а с помощью какой-нибудь язвящей аллегории, пока еще не придуманной. Алик впарил «двойку» жестянщику, честно снял свои пять процентов и отдал выручку. Спецкор внес деньги в журналистский кооператив. Готовясь бросить семью, он был терпеливо-многословен с сыном, чтобы Борька запомнил отца добрым, мудрым, заботливым. Если Ласская привлекала к брачной ответственности, не отвиливал, боясь подозрений, честно отрабатывал, но при исполнении нежно вспоминал благословенный ливень, колючий бабушкин тюфяк, запах сухого разнотравья и затихающую дрожь Зоиного тела. На телеграмму она не ответила. Зато Гена наконец дозвонился до райкома и получил ответ: Колобков в командировке. Но придя утром в редакцию, обнаружил Илью возле своего кабинета.
– Здорово, сволочь! – сказал гость.
– Я не сволочь. У меня отец умер. Заходи!
– А-а-а… Извини! – смягчился пропагандист, вошел, сел и стал с интересом осматриваться.
Особенно его увлекла висевшая на стене метровая лента туалетной бумаги с портретиками смеющегося Рейгана.
– Оттуда? – спросил он.
– Оттуда.
– Ни фига себе!
– Где Зоя? Почему она мне не отвечает?
– В Затулихе. В городе ей нельзя. Можно оторву?
– Оторви. Но только одного. А почему в городе ей нельзя?
– Все считают, что Суровцева из-за нее ушли, – объяснил Илья, отрывая веселого Рональда. – Ты понимаешь, что такое городок, где все друг друга знают?
– Представляю, – кивнул Гена, вспомнив одинокую «Волгу» под ливнем.
– На Зою теперь пальцами показывают, как на немецкую овчарку.
– Брось, я немец, что ли? Неужели так плохо?
– Хоть брось, хоть подними. Ты москвич. А все зло из Москвы. Слушай, у них что, в каждом сортире Рейган?
– Нет, только в редакционном. Передай Зое: я скоро приеду.
– Лучше пока не надо.
– Почему?
– По кочану! У Болотиной рак. После твоего «Многоженца» она упала на улице, отвезли в больницу, нашли опухоль, запущенную. Но разве кому-то объяснишь? Все на Зою свалили…
– Она-то в чем виновата?
– На хрена ты написал, что она собирала для Болотиной библиографию?
– Ты же сам говорил: об этом все знают.
– Знают. А печатать-то зачем? Все знают, чем муж с женой по ночам занимаются, но никто не орет об этом на улице. Елизавета, кстати, помогла Зое комнату получить.
– Я не знал.
– Ты много чего не знаешь. Рытиков тиснул в «Волжской правде» статью против Суровцева. «Самодурство как стиль руководства». Раз пять на тебя ссылается. Не сам, конечно, написал, велел Пуртову. И знаешь, что еще он придумал?
– Что?
– Вызвал Вехова и предложил проводить заседания клуба «Гласность» в райкоме. Я – ответственный.
– Грамотно.
– Еще бы! Понял, как выкрутиться. Мол, посевную провалил, зато мыслю по-новому. А это важнее.
– И что?
– Ничего хорошего. Суровцев ушел по собственному, сидит у Болотиной в больнице. Говорят, узнать ее невозможно – после химии все волосы выпали. Скоро пленум обкома. Кадровый вопрос. Волков приедет – подчищать врагов перестройки. Народ волнуется. Хочет Петра Петровича выбрать на девятнадцатую конференцию. Скандал. Обещают демонстрацию перед обкомом устроить. Милицию подтягивают на всякий случай.
– А кто будет первым?
– Рытиков. После твоей статьи он у нас теперь самый перестроившийся получается!
– Это хорошо или плохо?
– Мне – хорошо, ему нравится, как я доклады пишу. Области – каюк. Вот какую бучу ты замутил, человек с золотым пером! Что Зое-то передать?
– Я приеду. Скоро. Совсем.
– На развод подал?
– Конечно!
– Не тяни. В городе даже не показывайся. Побить могут. Дуй прямо в Затулиху. Понял?
– А позвонить ей можно?
– Нельзя. С космической станцией «Восход» связь имеется, а вот с Затулихой нет. С тобой-то, если что, как поговорить? В редакции тебя не поймаешь.
– Запиши домашний.
– А ты разве дома живешь?
– Кооператив не готов… Отделывают.
– Можно я еще одного Рейгана оторву? Рытикову.
– Валяй!
– А где у вас тут в Москве морс наливают?
Гена повез Илью в Дом литераторов, где им принесли большой заварной чайник с водкой, две чашки и блюдо разносолов. Вокруг густо сидели писатели, народ неказистый и обиженный. За каждым столиком кого-нибудь ругали: редакторов, власть, жен, знаменитых собратьев, социализм, климат, коммунистов, дефицит, Запад, прорабов перестройки, грандов гласности, евреев, немытую Россию… Пьяный поэт Заяц, качаясь на стуле, как бедуин, повторял на все лады: «Суки, суки, суки, суки…» Потом упал навзничь. Между столиками бродил краснолицый мужичок со шкиперской бородкой – председатель отделения Общества трезвости. Он озирал народ с пристальной суровостью, время от времени подходил к кому-нибудь и строго спрашивал:
– Что пьем?
– Нарзан! – в подтверждение ему наливали из минеральной бутылки.
– А почему не шипит?
– Выдохся.
Шкипер выпивал, морщился, закусывал, разрешающе кивал и шел дальше. После второго чайника Илья объявил, что если Скорятин испортит Зое жизнь, он его убьет. Гена поклялся не испортить и спросил:
– А почему все-таки один пистолет не заряжен?
– Ну тебя замкнуло. Ладно, давай рассуждать!
– Давай.
– Допустим, первый пистолет без пороха. Теперь твоя очередь стрелять. Сможешь всадить пулю в лоб человеку с белыми от ужаса глазами?
– Не смогу.
– Вот и ответ.
– А если первый пистолет заряжен?
Колобков долго смотрел на журналиста с пьяной неприязнью, потом сказал:
– Вот за это я и не люблю вашу Москву!
– Вам покрепче?
– Что? – очнулся Скорятин.
Оля разливала по чашкам коричневый чай.
– Геннадий Павлович, вы не забыли, через пять минут совещание! – с нарочитой озабоченностью напомнила секретарша.
– Какое еще совещание?
– Ну как же! – растерялась она.
– Ах, ну да… Потом, попозже…
– Понятно, – кивнула помощница, обиделась и пошла к двери.
– Она у вас что, двухмужняя? – тихо спросил Николай Николаевич, сопроводив оживающим взглядом вольноопределяющиеся ягодицы Ольги.
– С чего вы взяли?
– Когда в организме женщины соперничают два мужских семени, этого не скроешь. На чем я остановился?
– На пьянстве.
– Нет, до пьянства я еще не дошел. Мы говорили с вами о постмодерне. Будьте внимательней! Это важно. Так вот, почему вместо создания подлинно нового, искусство с головой ушло в глумливую инвентаризацию сделанного предшественниками? Вы в театр ходите?
– Случается.
– Тогда скажите: Борис Годунов с ноутбуком, Офелия с фаллоимитатором, три сестры-транссексуалки – это что такое?
…Они как раз вернулись из театра, кажется, из «Табакерки». Смотрели спектакль «Кресло» – про разложение комсомола.
– Гена, нам надо развестись! – сказала Марина, раздеваясь.
У него закружилась голова: все разрешалось само собой. Он с трудом помрачнел, насупился и спросил:
– Ты так считаешь?
– Папа так считает. Он провентилировал в Моссовете. Жилкомиссия тебя зарубит. Второй кооператив нам не положен. Но если ты выпишешься – другое дело.
– Ты знаешь про кооператив?
– Смешной! Конечно, знаю.
– И давно?
– Позвонил Шабельский и спросил, какой этаж мы хотим. Я сказала: третий.
– Почему тебе позвонил?
– Потому что у нас, евреев, такими вопросами занимаются женщины. Генуся, мне нравится, что ты стал самостоятельным. Папа сказал: матереешь. И твои секреты тоже очень милые. Это круто: вынуть из кармана ордер и сказать: «Сюрприз!» Мы съедемся в хорошую сталинскую «трешку» возле родителей. И второй твой сюрприз мне тоже понравился! – Марина вынула из тумбочки Зоино ожерелье. – Работа, конечно, так себе, туземная, огранка грубовата, но издалека – вполне.
– От тебя не спрячешь! – мутно улыбнулся он.
– Шпиона из тебя не получится. Додумался, балда, где спрятать: мама перечитывает Фейхтвангера каждый год, заканчивает последний том и начинает первый. Ты же знаешь.
– Угу. А когда?
– Что когда?
– Когда разводиться пойдем? – уточнил Гена, для достоверности зевнув.
– Не знаю. Надо заехать в суд, подать заявление, мол, не сошлись характерами.
– А этого достаточно?
– Наверное. Расскажу судье по-бабьи, как ты изменяешь мне направо и налево. Жутко хочется курить!
– Ну и кури.
– Ребенку вредно.
– Раньше ты на Борьку дымила – и ничего.
– Борьке и сейчас ничего. А вот Виктории Геннадиевне вредно.
– Какой Виктории?
– Ты же хотел второго ребенка или я чего-то не понимаю?
– А ты уверена?
– Конечно, я была в консультации.
– Когда ж это мы успели, даже интересно?
– Главное – успели, а когда – не важно.
– Но ты же пила таблетки!
– Тогда уже не пила.
– Почему?
– У меня стали расти на ногах волосы.
– Они у тебя всегда росли.
– Не всегда! А теперь щетина! Гормоны шалят. – Марина провела мужниной ладонью по своей голени.
– Чувствуешь?
Волосы кололись, как сено бабушкиного тюфяка.
– …В полях запустение. Вы давно были на селе, Геннадий Павлович? – строго спросил «чайник».
– Бываю, Николай Николаевич, как же, бываю…
– Уму непостижимо: земля, ради которой мужик шел с вилами на барина, а потом с винтовкой на большевиков, не пахана, брошена, бурьяном заросла. А что едим? Жуть! Мясо новозеландское, окорочки американские, картошка израильская! Но главное зло – генномодифицированный продукт. Арбуз с крысиным хвостиком, а? Каково! Человек есть то, что он ест, понимаете? Если людей кормить такими арбузами, они в крыс превратятся. Есть версия, что все животные – это одичавшие потомки разумных рас, которые злоупотребляли ГМО и превратились черт знает во что! Вам ясно?
– Ясно! – кивнул Скорятин и подумал про себя: «Гена модифицированный… Точней не скажешь…»
– Вы согласны с тем, что человечество гибнет? – строго спросил Николай Николаевич.
– Безусловно, – подтвердил главный редактор, размышляя о том, что люди портятся изнутри, так сказать, с изнанки.
«Хорошо бы всех вывернуть, как перчатки, и пустить на улицу…»
– А почему никто не бьет в набат, не задумывались? – давил «чайник».
– Очевидно, привыкли.
– Нет, Геннадий Павлович, тысячу раз нет!
– В чем же дело?
– Нас облучают.
– Что вы говорите? – живо удивился Скорятин и сообразил: синдром Кандинского-Клерамбо.
Когда-то в перестройку он написал цикл статей о «карательной психиатрии» и усвоил кое-что из загадочной науки об умопомешательствах.
– Да, облучают! – подтвердил Николай Николаевич.
– Каким же образом?
– Очень просто, – псих улыбнулся, словно объяснял ребенку правила сложения. – Мобильный телефон. Импульс покорности через ухо проникает в мозг – и готово: ты – зомби!
– И давно нас облучают?
– Сорок лет.
– Минуточку, но мобильные телефоны появились… – Гена замолк, вспоминая, когда сам обзавелся «трубой», – лет двадцать назад, не больше.
– Правильно. А раньше по улицам ездили машины с надписью «Хлеб». И тоже облучали, но не так прицельно, поэтому люди еще задумывались о будущем.
– Почему «Хлеб»?
– Чтобы не заподозрили. Хлеб вызывает доверие на уровне подсознания. Помните, в кино, бандиты ездили в фургоне «Хлеб»?
– Да, конечно.
– Это гениальный Володя Высоцкий нам сигнал посылал. Не поняли!
«Сумасшедший!» – окончательно понял Скорятин и мягко уточнил:
– А почему нас не облучали с помощью обычных телефонов, кабельных?
– Потому что релейная связь не передает импульс покорности, – ответил безумец так, словно ждал именно этого вопроса. – Вы физику в школе учили?
– Учил. А кто нас облучает?
– Они, – ответил Николай Николаевич и уставил желтый ноготь вверх.
– Понятно. Чем я могу вам помочь?
– Опубликуйте немедленно! – «чайник» достал из папки листок бумаги с аккуратно написанным разноцветными фломастерами текстом:
Люди планеты Земля!
К вам обращаюсь я, дети мои!
Будьте бдительны и непримиримы!
Смертельная угроза нависла над вами!
Настоящее пожирает будущее!
Откажитесь от мобильных телефонов!
Главный редактор, как и положено, внимательно прочитал воззвание, покивал, похвалил лапидарность и точность выражений, затем осторожно спросил:
– Николай Николаевич, я часто получаю письма от Великого Ведуна. Тоже разноцветные. Не от вас?
– Нет, – отводя глаза, отказался пришелец. – Но, возможно, пишет кто-то из наших.
– Ваши это – кто?
– Мы – «заботники».
– Ах, вот оно в чем дело! – Скорятин вызвал Олю и громко приказал:
– Ольга Ивановна, отнесите текст Дочкину – и немедленно в номер!
– Лучше сразу в набор, – посоветовал псих.
– Да – прямо в набор.
– На шестую полосу, – подсказал осведомленный безумец. – Там дырка.
– Откуда вы знаете?
– «Заботники» все знают.
– Да, на шестую. Немедленно!
– Хорошо! – кивнула она, по суровому голосу шефа сообразив, что бумажку надо немедленно бросить в корзину.
– Спасибо! – Глаза старика благодарно повлажнели. – Человечество вас не забудет. Берегите себя!
– Постараюсь.
– После публикации обращения у вас будут неприятности. Могут угрожать, вредить, мстить, возможно, убьют. Спрячьтесь! Уезжайте! Вам есть куда скрыться?
– Да, пожалуй. Поеду в Тихославль.
– Отличное место! Один из филиалов Шамбалы. Есть мнение: именно там сакральный центр земли.
– Что вы говорите!
– Да. Хотя лично я сомневаюсь. Когда опасность минует, я вас извещу.
– Каким же образом?
– Геннадий Павлович, вы, вероятно, так и не поняли, с кем имеете дело.
– Кажется, понял. Вы «заботник».
– Правильно!
Николай Николаевич встал и поклонился, приложив скрещенные руки к груди. При этом он сцепил вместе большие пальцы, а остальные растопырил наподобие крыльев. Получилось что-то вроде птицы.
– Запомнили? – спросил псих, шевельнув пальцами.
– Что?
– Жест.
– О да!
– Это сакральный символ Космического Орла. Если умру, моего преемника узнаете по этому знаку. Но в контакт вступите после того, как он пошевелит левым крылом. Не раньше. Левым! Не представляете, сколько теперь развелось самозванцев! Прощайте…
На пороге «чайник» остановился, оглянулся, подмигнул Скорятину и вышел.
Через минуту заглянула виноватая Ольга.
– Охранника ко мне! – рявкнул главный редактор.
Женя стоял на ковре согласно наставлениям «Энциклопедии успеха»: живот подобран, глаза опущены, на котячьей морде тихая готовность незаслуженно пострадать. Когда его бранили за очередного «чайника», проникшего в редакцию, он отвечал: «Виноват – исправлюсь! Не повторится! Разрешите вернуться к исполнению?» Прежде парень служил в армии и заведовал чем-то съедобным, но его выгнали. Недаром ходил такой анекдот. Армянское радио спрашивают: почему у прапорщика на правом погоне звездочки блестят, а на левом нет? Ответ: на правом плече он мешки с краденым носит.
Прощенный после очередного прокола и отпущенный восвояси, Женя выходил из кабинета начальства с видом победителя, а в кругу ближних – уборщицы, курьера и водителей – объяснял, ухмыляясь: «Пресса не должна отрываться от масс! Ишь ты, забаррикадировались от народа!» Эти обидные слова донес боссу водитель Коля, жестоко обыгранный охранником в карты.
– Вы видели человека, который был у меня в кабинете? – строго спросил Скорятин.
– Видел. Не слепой.
– А как он попал в редакцию?
– Пришел за льготной подпиской. Инна Викторовна приказала всех, кто за подпиской, пропускать.
– Какая подписка?! Какая Инна Викторовна?! Он же сумасшедший. Псих!! – сорвался на крик главный редактор.
– Сейчас у всех с нервами плохо. – Женя глянул на босса с глумливым соболезнованием. – Луна в Овне.
– Какая, к черту, Луна? В каком еще Овне? Я требую, чтобы «чайников» в редакции не было. Никогда. Где вы болтались час назад? Я не мог войти в редакцию.
– Уж и в сортир отойти нельзя…
– Я вас уволю!
– Не вы меня брали – не вам увольнять, – ухмыльнулся наглец вместо самокритичного «виноват – исправлюсь».
– Что-о?! – взревел Гена.
– Я работаю не в редакции, а в дирекции, – примирительно разъяснил охранник. – Если у вас есть ко мне вопросы, обращайтесь к Заходырке.
– Да я вышибу тебя вместе с твоей Заходыркой!
– А это попробуй!
– Вон! – Скорятин жахнул кулаками по столу. – Во-он!
Женя победно хмыкнул и вышел подбородком вперед.
Главный редактор выдавил из упаковки валидолину, бросил под язык, откинулся в кресле «босс» и закрыл глаза…
…Шабельскому незадолго до изгнания тоже хамила уборщица. Откуда они, эти простейшие, все знают наперед?! Чувствуют, что ли? Он вспомнил, как перестала с ним здороваться консьержка в Сивцевом Вражке. При советской власти домов с дежурными было немного, а пенсионеров, мечтающих за пятьдесят рэ в месяц посидеть в теплой «сторожке», хоть отбавляй. Поэтому из хмурой массы трудящихся дежурные бабушки выделялись особой приветливостью и всячески старались понравиться жильцам. И вдруг интеллигентная Эмма Осиповна, в прошлом экономист-плановик, о чем она упоминала в самом пустячном разговоре, стала демонстративно отворачиваться при виде Гены. Почуяла, наверное, что он хочет бросить Марину – любимицу всего подъезда, никогда не забывавшую купить к празднику дежурной старушке тортик.
Завибрировал мобильник и заскользил по глянцевой обложке с Карабасом Барабасом, похожим на президента.
Звонил опальный прозаик Редников из «Палимпсеста»:
– Слушай, тут такое дело… Может, зря беспокою? Забегала твоя Алиса из «Мехового рая», спрашивала, заходил ли ты ко мне в районе трех.
– А ты – что?
– Сказал на всякий случай, что не заходил. Правильно?
– Теперь без разницы.
– Но она, по-моему, не поверила. Бабы ведь чуткие.
– Ее проблемы.
– Вот как? Значит, все порвато-разломато?
– Вроде того.
– Ну и правильно: не твой формат. Мне из лавки кое-что видно. Даже обидно за белую расу!
– Спасибо за бдительность!
– За это купишь у меня три книжки.
– Договорились.
…Ласская тоже не поверила ни в какие сюрпризы, ни с ожерельем, ни с кооперативом. Муж не то что квартиру, – носки без одобрения не покупал, а приготовив заранее подарки, никогда не мог дотерпеть до заветной даты, гордо раскалываясь задолго до торжества. Но Марина сделала вид, что верит. Исидор, наверное, подучил. А может быть, мудрый тесть посоветовал. Индийскую роскошь она так ни разу и не надела, передарила кому-то. А когда кооператив вдруг накрылся (квартиры отдали многодетным семьям, устроившим митинг возле Моссовета), жена даже не расстроилась, забрала деньги и расточила.
Однажды вечером в квартире раздались короткие междугородные трели. Обычно трубку снимала Марина – мать звонила ей с дачи десять раз на дню. Но Ласская замешкалась в ванной, и Гена, отложив «Новый мир», ответил сонным голосом:
– Алло.
– Можешь говорить? – сквозь треск спросил Колобков.
– Могу.
– Третий раз звоню. Ты сам-то к телефону когда-нибудь подходишь?
– Вот подошел.
– Передаю.
– Это я, – сказала Зоя прерывающимся голосом.
– Как хорошо! – задохнулся он. – Ты… ты… позвонила… Как ты?
– Плохо. Я очень скучаю. Я умру. Приезжай!
– Конечно! Обязательно! Я тебя люблю! – вскричал он, понизив голос, ставший сразу подловато таинственным.
– Приезжай, пожалуйста! – снова попросила она, задетая этой неуместной в разлуке секретностью.
Во время разговора послышался щелчок, и звук стал чуть слабее: так всегда бывало, если кто-то снимал трубку на кухне. Но конспиратор не решился оборвать разговор, боясь окончательно обидеть Зою. Потом он долго присматривался к жене, соображая: слышала или нет? Но Марина ничем себя не выдала. Призналась она много лет спустя, во время пьяной перебранки: мол, думаешь, забыла, как твои бляди домой мне названивали! Вскоре тесть пригласил Гену на обед в Дом художника и долго с усмешкой объяснял зятю, что у мужчины баб может быть навалом, сколько осилишь, а жена – одна-единственная. Человечество совершило два великих открытия: моногамный брак и гарем. Увы и ах, наша цивилизация не оценила удивительного изобретения чувственного, но мудрого Востока и теперь расплачивается кризисом семьи.
– Запомни: любовница для страсти, а жена для старости…
…Скорятин тяжко вздохнул, включил монитор, глянул в почту и увидел письмо от Дронова. Так скоро? Впрочем, эти твиттерные мальчики без планшета на унитаз не сядут. Недавно губернатора сняли за то, что, балбес, наябедничал всему Интернету, что на приеме в кремлевском салате червячка нашел. Детский сад! Несколько мгновений Гена не отваживался открыть судьбоносное, без преувеличения, письмо, сидел и чувствовал, как тяжелеет затылок. Наконец решился.
Геннадий Павлович, зря Вы «почистили» свою чудесную «Клептократию» перед тем, как послать ее мне. Та, которую я получил вчера, была острее, ярче, задиристее. Хорошо и честно! Власть должна знать, что о ней думает народ. И совсем уж напрасно Вы подписались псевдонимом. Ваш стиль перепутать ни с каким другим нельзя. Если опубликуете первый вариант статьи где-нибудь, с удовольствием перечитаю. По-моему, Вы преступно относитесь к своему таланту: Вам надо писать, а не тратиться на редакционную рутину. Жизнь коротка. Вы старше меня и должны понимать это лучше. Заходите, если совсем станет плохо!
Скорятин задохнулся от подлой невероятности случившегося. В глазах потемнело, а тело заволокло дурнотой, какая бывает, если узнаешь о смерти близкого человека, с которым еще вчера обсуждал планы на отпуск.
– Су-уки! – заорал Гена и хватил по столу кулаком с такой силой, что треснуло стекло, а карандаши вылетели из малахитового стаканчика, как стрелы из арбалета. Опрокинув кресло, главный редактор выскочил из кабинета и промчался мимо Ольги, воздушной волной сметая со стола легковесные машинописные странички. От удивления секретарша выронила мобильник, откуда струился бархатный баритон: «Мы уедем, уедем…»
«К саблезубым медведям…» – срифмовал он на бегу и чуть не заплакал.
Кабинет Дочкина был заперт, но изнутри доносились Жорино хихиканье и дамское ржанье. Во всей редакции так смеялась только Заходырка. Гена обрушился на дверь:
– Открой, скотина!
Веселье стихло, послышался совещательный шепот. Тогда Скорятин с размаху ударил ногой, оставив на фанеровке черный зигзаг от микропорки:
– Дочкин, открой! Я хочу посмотреть тебе в глаза, скотина! – и снова шарахнул ботинком, уродуя хлипкий шпон.
Из соседних кабинетов на шум выглянули изумленные сотрудники, но, увидав разгневанного шефа, юркнули в комнаты, как улитки в раковины. Гена стал колотить попеременно – ногами и кулаками. Боли он не чувствовал и остановился, когда заметил на текстуре розовые пятна от сбитых в кровь костяшек. Оценив раны, мститель сложил кулаки вместе и размахнулся, как дровосек, чтобы окончательно снести преграду. Вдруг дверь распахнулась, и он едва не въехал в лоб Заходырке.
– В чем дело? – величественно спросила она.
Глянув через ее плечо, он увидел заново накрытый журнальный столик, но вместо бутербродов с килькой на блюде возлежали бананы и виноград, а водку сменила початая бутылка «Абрау-Дюрсо». Того самого. В пепельнице дымилась тонкая дамская сигарета с красным от помады фильтром.
– Курить в помещении нельзя! – тихо упрекнул Скорятин.
– По праздникам можно, – улыбнулась гадина.
– И что же вы празднуете?
– Ваш уход, – ответила «генеральша».
– Не вы меня назначали – не вам меня увольнять.
– Разумеется. Вас уволил Леонид Данилович.
– Врешь! Я ему сейчас позвоню.
– Соединить?
– Жора, зачем ты так? – Гена попытался поймать взгляд Дочкина. – За что?
Друг молодости молчал, ковыряясь в пустой банановой кожуре, лицо его мелко подергивалось, а вместо глаз были сгустки серой слизи.
– Идите к себе и успокойтесь! – почти ласково посоветовала Заходырка. – Будьте мужчиной! Истерите, как диатезный ребенок. Идите! Я сейчас приду…
Последние слова она произнесла с тем обещающим придыханием, с каким женщина обнадеживает мужчину, уходя под душ. И закрыла дверь, едва не прищемив главному редактору нос.
«Бред какой-то!»
Он повернулся и побрел к себе, медленно прошаркал мимо изумленной Ольги, войдя в кабинет, постоял у двери, потом подошел к окну и удивился: перекресток был выморочно пуст, словно в ужастике Спилберга. Куда девались машины и люди? Тайна. Гена еще немного постоял у окна, наблюдая, как два голубя на нижнем балконе выклевывают друг у друга горбушку, брошенную кем-то. «Сладким будешь – расклюют, горьким будешь – расплюют…» – вспомнил он присказку бабушки Марфуши и поднял опрокинутое кресло, а когда разогнулся, едва не упал: дыхание потерялось в груди, в глазах зароились белые мухи. Продышавшись, Гена осторожно сел за стол и стал с сожалением изучать расходящиеся лучами трещины на стекле, затем собрал в стаканчик карандаши и вгляделся в фотографию Ниночки.
«Вот и все, девочка моя! Но ничего страшного. Заслуженный отдых. Покой. Тишина. Никто тебя на части не рвет… Нирвана!»
В дверь заглянула Ольга:
– Нашли письмо из Тихославля!
– Где?
– Лежало почти на виду.
– Я сказала: «Черт, черт, поиграй да отдай!» – и сразу заметила… – выглянув из-за секретарши, объяснила Телицына.
Она была горда и счастлива, будто родила идиоту Дормидошину трех богатырей разом.
– Поздравляю! – экс-босс равнодушно махнул рукой. – Когда в декрет?
– С понедельника.
– Удачи! Чтобы все обошлось…
– Я как из пушки рожаю.
– Пошли, пошли, пушка! – Ольга участливо посмотрела на шефа и увела подругу.
…Марина Вику еле выносила, два раза ложилась на сохранение. Так бы, наверное, и скинула, но Исидор привез из Англии какие-то безумно дорогие лекарства. О великодушии Шабельского долго шептались в «Мымре». При советской власти и в голову не залетало, что таблетки могут стоить столько же, сколько телевизор «Грюндиг». Накануне родов Гену услали в Донбасс, где начался бессрочный митинг шахтеров. Чумазые парни стучали касками по ступеням обкома партии и скандировали: «Долой! Долой! Долой!» К работягам выходил первый секретарь, обрюзгший мужик с фиолетовыми губами инфарктника, стыдил, напоминал, что зарплата у горняка больше, чем у него, хозяина области, но они злобно смеялись в ответ и орали: «Долой! Долой! Долой!» Ласскую из роддома забирали свекровь, теща, тесть. Машину дал Исидор.
Скорятин засмеялся и начал дрожащей рукой набирать домашний номер. Глупо, конечно, но ему никогда в голову не приходило, что Вика не его дочь. Маринин грех казался бесплодным. Почему? С какой стати? Эх ты, Чингачгук… В кабинет по-хозяйски зашла Заходырка. Лицо, обычно бледное, как у вампирши с низким гемоглобином, оживилось, порозовев от шампанского. Глаза торжествовали. Казалось, сейчас она приоткроет ярко напомаженные губы, обнажит клыки, вобьет их в шею бывшего главреда и выпьет до капли его усталую кровь.
– Ну вот теперь вы держитесь как мужчина. Нельзя так распускаться!
– Извините.
– Значит, все-таки общаетесь с Шабельским?
– Я? С чего вы взяли?
– Есть такая информация.
– Я, может, и общался бы. Но он со мной не захочет. Сами же знаете…
– А что вы передали ему сегодня через свою дочь, деньги?
– Я?! Какие деньги?! Ничего…
– Врете! Коля встретился с вашей дочерью, отдал пакет, а потом отвез к Шабельскому. По ее просьбе.
– Коля? Он не знает, где живет Исидор. Он при нем не работал. У нас вообще водители долго не задерживаются…
– Зато ваша дочь знает, где живет Шабельский. Он ждал ее во дворе и даже поцеловал. И часто вы через нее подкармливаете предателя?
– Это слежка?
– Нет, почему же? Просто у водителей тоже есть глаза. Не замечали? Зря. Знаете, Леонид Данилович не хотел с вами расставаться. Добрый человек, а вы пользовались. Но когда сегодня узнал, что вы якшаетесь с этим мерзавцем… В общем, вы свободны.
– Ерунда какая-то!
– Нет, не ерунда. Предательство – заразная болезнь. Зачем вы отправили Дронову свою статью?
– А вы зачем?
– Ее отправил Леонид Данилович. Это его право. Он издатель. Завтра же освободите кабинет!
– Почему мне говорите это вы, а не Корчмарик?
– У него много дел. Он возвращается в Москву. – Ее лицо по-девичьи посветлело.
– Ах, вот в чем дело!
– Ваше выходное пособие. – Заходырка выложила на стол толстую пачку денег. – Золотой парашют. Наличными, чтобы без налогов.
– А я думал, вы жадная.
– Я экономная. Будь моя воля, вы бы ничего не получили. Не за что! Скажите спасибо Леониду Даниловичу.
– Кому сдавать дела?
– Пока Дочкину, а там посмотрим. – Она протянула расходный ордер. – Сумму прописью. Дату не ставьте! – «генеральша» брезгливо взяла запачканный кровью бланк. – Не бережетесь вы, Геннадий Павлович! А ведь мы могли стать настоящими друзьями. Жаль!
Она резко встала, усмирила ладонью подпрыгнувшую грудь и ушла. Скорятин проводил взглядом ее презрительно подрагивавшие ягодицы, потом позвонил Марине. Сначала тянулись долгие гудки, он хотел дать отбой, но жена наконец ответила снотворным голосом:
– Ну что тебе еще? Геноцид какой-то! Только уснула…
– Что делает Вика у Шабельского?
Ласская долго не отвечала, дышала в трубку, потом вымолвила:
– Сам-то как считаешь?
– Я сейчас тебя спрашиваю!
– Все-таки выследил. Я-то думала, тебя, кроме этой рыжей проститутки, больше ничего не интересует.
Он вяло удивился: оказывается, куча отставного женского мяса способна на ревность, даже на бдительность. Хорошо еще, Марина не знает, что выкурвила Алиса с этим индопахарем. Вот бы потешилась!
– Я не выслеживал. Мне сказала Заходырка.
– Ну и хорошо, что сказала…
– И что Вика забыла у Исидора? Он тоже ее первый мужчина?
– Совсем дурак?
– Объясни!
– Ты и так все понял.
– Нет, объясни!
– Девочка хочет видеться с отцом.
– Что?!
– Высплюсь – поговорим.
Жена повесила трубку. Гена долго сидел, тупо слушая короткие гудки. В них угадывалось, как в колесном перестуке, бесконечно повторяющееся слово. Но какое?
…Исидор, в приталенном итальянском костюме а-ля «папаша Корлеоне», ходил по кабинету и убеждал, а спецкор, понурив голову, слушал.
– Генацвале, не дури!
Гена сообразил, что у Шабельского и Марины совершенно одинаковая шутливая манера переиначивать его имя на разные лады.
– Пойми ты, крокодил, у дочери должен быть отец. Должен! Ты вырос с отцом? Вот! А я без отца. Папа от инсульта умер, когда арестовали Фефера по делу космополитов. Папа был помощником у Фефера. А мама играла в театре у Михоэлса. И осталась без ролей. Ты понимаешь?
– Понимаю.
– Да, твоя Зоя – очень интересная… особа. Возможно, даже женщина твоей жизни…
– Откуда вы знаете?
– Знаю! Ты будешь потом раскаиваться, рваться сердцем назад, к семье. Она, кстати, это понимает…
– Кто?
– Мятлева.
– Откуда вы ее знаете?
– Я был в Тихославле.
– Зачем?
– Меня просила Марина. Зоя Дмитриевна все поняла и просила передать, что никаких претензий к тебе не имеет.
– Врешь! – Скорятин схватил шефа за галстук и потянул на себя.
Исидор, багровея, с трудом вызволил свой полосатый «Хермес», отдышался и положил перед подчиненным конверт с портретом Героя Советского Союза Заслонова.
«С такой-то фамилией просто невозможно не свершить подвиг…» – думал Гена, вынимая тетрадный листок в клеточку, исписанный ровным красивым подчерком, каким заполняют библиотечные формуляры.
Геннадий Павлович!
То, что мне рассказал Ваш друг, совершенно меняет дело. К сожалению, во все обстоятельства Вашей семейной жизни Вы посвятить меня не удосужились. Напрасно. Впрочем, майские грозы бурные, но скоротечные. К утру даже лужи высыхают. Желаю Вам счастья и обильного потомства. Дети оправдывают все, даже стыд. Ждем новых высокоталантливых статей, Ваша гражданская смелость всегда вызывала уважение. Привет от Ильи. Он возвращается на работу в музей.
– Вот как было, Ниночка! Я не виноват… – прошептал он и нажал кнопку селектора.
– Оля, у нас есть что-нибудь вроде йода и пластыря?
– Ой, сейчас найду!
…Когда родилась Вика, Гена ощутил в душе странную легкость и беспечность, словно отвечал лишь за сохранность уродливого Марининого живота, а не за появившегося на свет младенца. В мае, через год после незабвенной грозы, в воскресенье, Скорятин поехал на кладбище к отцу, но, вместо того чтобы припарковаться возле теток с бумажными цветами, даже не проведав могилу, рванул по Звенигородскому шоссе к кольцевой дороге, и дальше без остановок – в Тихославль. Трасса была почти свободна. Караваны импортной жратвы и подержанные иномарки с правыми рулями еще не забили склеротические дороги Отечества. Возле редких, как магазины «Березка», АЗС выстроились очереди из легковушек: автолюбители караулили бензин. Рядом спекулянты продавали горючее канистрами. Гена мчался на серебристом «Москвиче-2141», купленном за кооперативные деньги по лимиту Союза журналистов. Новинка советского автопрома еще не примелькалась на улицах и трассах: неосведомленные водители и пешеходы удивленно провожали взглядами незнакомую разновидность легковушки, для отечественной модели слишком обтекаемую, а для иномарки недостаточно изящную. «Жигули» оседлала Марина. Теперь, пока свекровь пела колыбельные писклявой Вике, жена сама возила Борьку на музыку и большой теннис в Лужники, сдавала на руки тренеру и любовалась, как лихо сын управляется огромной ракеткой. Кстати, Исидор жил рядом, на набережной, в доме с аптекой, его болезная супруга не вылезала из санатория. Пожилые еврейки любят лечиться…
«Мог бы тогда и догадаться!» – думал Скорятин, морщась от боли.
– Как же вы так? – сострадала Ольга, обрабатывая сбитые костяшки перекисью водорода.
– Случайно. А где письмо из Тихославля?
– У вас в папке. Я положила.
…Он бросил машину возле Гостиного двора и побежал вдоль стены Духосошествинского монастыря к Зоиному дому. Из распахнутых железных ворот рабочие, матерясь, с грохотом выкатывали огромную черную бочку. На булыжную мостовую сыпалась прошлогодняя квашеная капуста, оглашая окрестности тяжелым кислым духом. Козы, истошно блея, бежали следом, подбирали и жадно выхватывали друг у друга серые протухшие клочья. Мужики хохотали и передразнивали обезумевший мелкий рогатый скот: «М-м-е-е-е…»
Старушки у подъезда встретили пропавшего москвича с недоумением, а кошка, сидевшая на пенсионных коленях, посмотрела на него желтыми испуганными глазами. Дверь открыл Маркелыч. Он был в той же майке и трениках.
– Ого! – только и вымолвил сосед.
– А где Зоя Дмитриевна? – спросил Гена.
– Укатила.
– Куда?
– Не доложилась. Пошли – покажу!
Он взял нежданного гостя за локоть и повел на кухню. Там гудела тугим синим пламенем новая колонка.
– Чистый Чернобыль! Греет так, что и чайник не нужен.
– А она разве не на работе?
– Кто?
– Зоя.
– В отпуске она теперь. Наверное, в Затулихе.
– Одна? – сухим голосом спросил спецкор.
– Одной нельзя. С Колобком укатила. Догоняй!
…Скорятин поблагодарил Ольгу за скорую помощь и посмотрел на часы: без десяти шесть. Можно вызвать такси, поехать в Сивцев Вражек, смести снег с «вольво» и рвануть, как тогда, в 1989-м, в Тихославль. Но, во-первых, придется подниматься домой – за ключами и техпаспортом, а значит, разговаривать с Ласской, слушать ее вранье или, еще хуже, правду. Во-вторых, после такого снегопада дороги вычистят к утру в лучшем случае. Можно полночи простоять в заторе где-нибудь у Загорска, сиречь Сергиева Посада. Да и выпито немало. Это раньше, при советской власти, достаточно было махнуть редакционной корочкой – и наблюдательный гаишник брал под козырек: связываться с прессой себе дороже. Сколько погон слетело за неосторожное вымогательство на трассе у водил, оказавшихся журналюгами! Теперь совсем не так: вытрясут, как бабушкину копилку. Капитализм. Ради денег на все готовы. И правды не доищешься. Вон, главред «Московского календаря» пожаловался в МВД, так его стали на каждом перекрестке тормозить, штрафовать, мучить, номера снимать. «Покажите-ка огнетушитель! Ясно, на три дня просрочен. Пройдемте!» А уж если «выхлоп» изо рта унюхают, держись: разденут, как в подворотне. Странно, что еще на кремлевские башни до сих пор вместо звезд долларовые загогулины не нахлобучили. Честнее будет! К тому же бывший главный редактор столько лет разъезжал на служебной машине, что отвык сам крутить баранку. Надо учиться заново…
Он снова нажал кнопку селектора:
– Оля!
– Аушки.
– Посмотрите, когда поезд на Тихославль? Или лучше даже автобус. Их теперь много.
– Одну минуточку!
– И закажите мне гостиницу в Тихославле.
– Сейчас, Геннадий Павлович.
…Возле голубого дебаркадера народу не было – только вездесущие куры ворошили клювами подсолнечную лузгу, оставленную на берегу уплывшими пассажирами. Тускнеющее солнце на розовой туче опускалось в воду почти незаметно, точно теплоход в шлюзовой камере. Кузнечики уже завели свой вечерний стрекот. На чугунном быке сидел сторож в тельняшке и курил ядреный «Памир». Вокруг него, не решаясь приблизиться, роилась мошкара. Пустая пачка с силуэтом «нищего в горах» валялась у ног, обутых в кирзовые сапоги с обрезанными голенищами.
– Давно? – спросил Гена.
– Эвона пошел! – Дед беззубо улыбнулся и показал на дымок, поднимавшийся из-за стрелки. – И где ж ты, милок, гулял?
– Когда следующий?
– Завтра. Импортная? – он кивнул на «москвич».
– Отечественная.
– Ишь ты! Ускорение значит?
Объясняя сторожу, чем новая, 41-я модель отличается от прежней, спецкор осознал: ждать утренний катер бессмысленно. Ну, доберется он до Затулихи и что скажет Зое? «По веничку соскучился…» Если бы любовь обходилась без слов! Если бы… А еще там Колобков, который, судя по всему, занял его, Генино, место. С ним-то что делать? Стреляться через платок? Наверное, один пистолет не заряжают для того, чтобы кого-то обязательно прикончили и благородной даме не пришлось мучиться выбором. Могла бы, между прочим, утешиться и не так скоро…
Но Гена не уезжал, он медлил, страдал, бродил по городу, замечая перемены. На куполах прибавилось крестов, иные храмы стояли в лесах. Кажется, советская власть помирилась с церковью. Все-таки родственники. На клубе речников появилась самодельная вывеска «Штаб народного фронта». Потом Скорятин томился в машине возле библиотеки, уставившись на то место у колонны, где в последний раз говорил и целовался с Зоей. На доске у входа вечерний ветер шевелил объявление об окружном собрании по выдвижению кандидатом в народные депутаты первого секретаря обкома Рытикова А. Т. Начало смеркаться. Сирень запахла дешевыми духами. Пенные волны навалились на заборы и напоминали фиолетовую пузырчатую квашню, прущую через края бадейки. Куры вышли из подворотен на вечерний клев и с опаской поглядывали на незнакомый автомобиль. По ступенькам сбежала Катя со свертком в руках. Увидав Гену, выскочившего навстречу ей из машины, она страшно испугалась и умчалась, скрежеща каблучками о булыжники.
В Москву он вернулся под утро. Марина не спала, сидела над пищащей Викой. Из красной сморщенной попки торчала резиновая газоотводная трубка.
– Ты куда пропал?
От нее пахнуло теплой молочной несвежестью, как от коровы.
– Машина сломалась. Советское – значит лучшее!
– Тише!
– А что такое?
– Миша у нас заночевал.
– С чего это?
– Борька не отпускал.
– Даже так?
– С сыном надо чаще разговаривать!
Зою он забывал постепенно. Рана любви заживала долго. Сначала болело постоянно, всегда, каждую минуту. Потом, вспоминая о ней, он вздрагивал всем телом, словно от удара широкого отцовского ремня, и слезы обиды сыпались из глаз. Чувство непоправимой потери мучило и мешало жить. Он просыпался ночью, тихо лежал, перебирая в памяти мгновения, как в детстве перебирал, любуясь, свою немногочисленную коллекцию монет во главе с большим екатерининским пятаком. Ему казалось, если удастся вспомнить какую-то забытую нежность или прикосновение, случится чудо: все вернется и останется. Но ничего, конечно, не возвращалось, и душа ныла от плаксивого отчаянья. Со временем боль ослабла, отстранилась, сделалась тягучей, сладкой, будто сон после обеда. И наконец память о короткой любви превратилась в туманную печаль об утраченной молодости с ее ослепительными безумствами. Лишь иногда, при знакомстве с какой-нибудь женщиной по имени Зоя, вздрагивало сердце и на миг терялось дыхание. Впрочем, то же самое он чувствовал, когда звонил Кошмарик и орал: «Разгоню всех к свиньям собачьим!» Врач объяснил: экстрасистолия от нервов. Надо больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Гена купил хорошие кроссовки и спортивный костюм, стал бегать по Сивцеву Вражку и дачным тропинкам, потом бросил, увлекся горными лыжами, но как-то в Андорре сломал ногу, засмотревшись на выпуклую молодую инструкторшу.
Поколебавшись, Скорятин взял из папки письмо – четыре листка, густо набитых прыгающим блеклым шрифтом.
Уважаемый Геннадий Павлович!
Пишу тебе из молодости и, пользуясь тем, что когда-то пили мы с тобой на брудершафт, обращаюсь на «ты», и с нижайшей просьбой. Не знаю, помнишь ли ты свои приезды в Тихославль, но мы, конечно, помним, золотое ты наше перо! Да, наломали мы тогда с тобой дровишек… «Как молоды мы были, как искренне любили!» И не любили. В прошлом году умер Суровцев, пережил свою Елизавету Вторую почти на четверть века. Он у нас лет двадцать возглавлял горком КПРФ, чуть в губернаторы после Налимова не выбрался, но Москва вмешалась, как и тогда. Помнишь? Нашли нарушения при подсчете голосов. После инсульта Петр Петрович сдал и доживал с дочкой в домике за библиотекой. Людмила тоже в библиотеке работает. Квартиру-то в «Осетре» они после твоей громкой и не совсем справедливой (извини!) статьи сдали государству. В ней потом еще Вехов жил.
Газету твою читаем, не со всем, конечно, согласны, но чужую позицию уважаем. Часто вижу тебя по телевизору, поправился ты, друг мой, но в целом выглядишь славно и говоришь складно. Только скажи Соловьеву, чтобы он тебя так часто не перебивал. У нынешних ведущих просто какое-то недержание! Женщинам ты, наверное, до сих пор нравишься, особенно, думаю, в кепке с пумпоном. Дважды тебе в «Мир и мы» писали. Один раз, когда Налимов затеял на Ладином лугу гольф-клуб, а во второй раз, когда Женька Пуртов стал областным министром культуры и надумал в нашей библиотеке Дворянское собрание поселить. Он ведь оказался из столбовых, губошлеп. А ты нам даже не ответил. Честное слово, я тогда сильно на тебя обиделся, хотел приехать и снова на дуэль вызвать, как тогда. Не забыл? Но супруга меня отговорила. Она тебя помнит, всегда за тебя заступается и считает, что поженились мы только благодаря тебе, сукофрукту!
В конце концов мы и сами отбились. Господь пособил: Налимова взяли в Москву, на повышение, а Женьку посадили, правда, условно. Он хотел за границу одну картину из областного музея вывезти, мол, пустяковая копия. Но я-то знаю: это Мурильо! Написал в «Волжскую зарю» – его и прихватили. Сам я сначала работал в Духосошественском монастыре, экскурсии водил там и по городу. Ты же помнишь, у нас церквей, как у вас макдоналдсов. Но потом обитель отдали под мужской монастырь. Игуменский квасок у нас теперь не хуже морса. Помнишь? А я перешел хранителем в Детинец, в филиал областного археологического музея. Два года назад упал в раскоп и стал, вообрази, инвалидом. Зато почти закончил книгу, которую писал двадцать лет.
Не знаю, помнишь ли ты мою теорию? [1] Перескажу в двух словах. Ранняя история человечества, описанная в Библии, Ведах и других мифопоэтических текстах, разворачивалась, как ни удивительно, в наших местах. Однако география тогда была совершенно иная.
Грандиозное озеро Океан (отсюда – Ока) простиралось от Рязани до Арзамаса и от Моршанска до Шатуры. Через систему рек и озер Океан соединялся с Русским морем, оно включало в себя нынешнее Черное, Каспийское, Аральское моря и достигало Оренбурга на севере, Ашхабада на юге, Софии на западе и Кзыл-Орды на востоке. На этих просторах и сложилось первое русское государство – Гиперборея. Столицей огромной Империи был Нижний Новгород, называвшийся в ту пору Царьградом. Остатки допотопных фортификаций использовались еще в Средние века. В XII веке князь Мстислав Андреевич, сын Боголюбского, не решился штурмовать циклопические стены, которые защищал мордовский князь Абрам.
Расцвета Царьград достиг при царе Святогоре, его наши былины причисляют к «старшим богатырям». Русское наречие было, так сказать, языком межнационального общения. Возле нынешнего Владимира воздвигли грандиозный Столп Святогора, ту самую Вавилонскую башню, которая стала географическим центром Гипербореи, именно от нее отсчитывали расстояние, в том числе при строительстве новых городов. Посуди сам: Тула, Тамбов, Казань, Бежецк находятся в 450 км от Столпа Святогора. Осло, Берлин, Прага, Вена, Братислава, Белград, София, Стамбул – в 1800 км. А Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Женева, Берн, Рим, Афины, Никосия, Дамаск, Багдад, Тегеран – в 2400 км. Ничего себе совпадение! Назови мне еще одну такую географическую симметрию, и я подарю тебе русский оберег времен царя Соломона. Возьми прекрасное слово из Даля – «кругосветье» – все сразу поймешь: звук «к» отпадает по фонетическим законам, а слово «свет», согласно изысканиям Велимира Хлебникова, сжимается до «с». Что получается? Правильно: Русь!
На месте нашего Тихославля была сакральная столица империи – Святоград, где сосредоточились святилища русских богов, которым в ту пору молился весь мир: Род, Сварог, Велес, Лель, Вий, Дый, Перун, Индрик, Даждьбог, Коляда, Земун, Лада, Дана, Рада… Если ты почитаешь научную литературу о наших богах, то обнаружишь, что именно они стали прообразом всех пантеонов, и греческого тоже, не говоря о балто-германском. Помнишь, Циклоп кидал глыбы в мореплавателей? А ты знаешь, что на Волге до постройки плотин тоже были пороги, причем рукотворные, из огромных, привезенных издалека камней. Откуда пороги?! Улавливаешь?
Катастрофа разразилась, когда был размыт (или нарочно разрушен врагами Руси) Гороховецкий отрог и открылись Горбатовские ворота. Вода со стометровой высоты ринулась из Океана в Русское море, смывая все на своем пути: города, села, крепости, святилища… Поток прорвал перемычку между Черным и Средиземным морями, потом вода постепенно ушла в Атлантику, но ландшафт и очертание берегов кардинально изменились. Исчезла Тургайская протока к Ледовитому океану, по которой плыл Одиссей. Этот катаклизм описывается в Библии и других сакральных текстах как потоп. А разрушение Столпа Святогора (Вавилонской башни) стало символом гибели единого государства, покоренные племена отпали, обособились и стали говорить на своих диалектах, то есть, произошло «смешение языков». Платон же в диалоге «Критий» описывает Гороховецкую трагедию как гибель Атлантиды. Если ты сравнишь его карту Атлантиды с нашей местностью в «Описании путешествия по Московии» Олеария, то поймешь: речь идет об одной и той же территории. Более того, я согласен с Асовым, что прообразом библейского Ноя послужил наш Ван (Ванька, Удовкин сын), зять Святогора и отец знаменитого мореплавателя Садко. Им удалось спастись от стихии на запечатанной ладье – читай: на Ковчеге. После наводнения наш край пришел в запустение. Помнишь, показывали по ящику, что стало с цветущими курортами Таиланда после цунами? А ведь волна, прокатившаяся по Гиперборее, была в несколько раз выше. Представь, если такая же волна пройдет по Америке, из Тихого в Атлантический.
После Потопа уцелели немногие города на возвышенностях, в том числе и сакральный центр в Святограде – наш Тихославль. Но без имперской власти он пришел в упадок, пока не возникло новое русское государство под водительством славянина с острова Рюген (русских называли «ругами») князя Рюрика, иначе говоря, Ясного Сокола. Сначала у нас возродился центр язычества, куда паломники стекались со всей Киевской Руси. Потом, после принятия христианства, вместо святилищ поставили многочисленные храмы, чтобы, так сказать, перекодировать верующих. Но кое-где в фундаментах до сих пор видна прежняя, допотопная кладка.
Все это подробно изложено в моей книге, где широко представлены результаты архивных и археологических изысканий. Уверен: если этот «труд, завещанный от Бога» выйдет в свет, он перевернет историческую науку. Но сегодня миром правят не идеи, которых у меня много, а деньги, которых у меня, увы, нет. Догадываюсь, что ты человек небедный. Помоги, большой брат! Оказалось, издание монографии с картами и иллюстрациями – удовольствие не для бедных. Кроме того, я наконец получил разрешение на раскопки на Ладином Лугу. Не сомневаюсь, что под иловым слоем обнаружатся артефакты Святогоровой Руси. У меня есть даже версия, почему камни там всегда теплые. Гиперборейская цивилизация достигла такого уровня, что наши предки отапливали здания термальными водами, добытыми с огромных глубин. Так вот: теплотрассы, проложенные еще при Святогоре, работают до сих пор. Кстати, на площади перед Гостиным двором и на Ладином Лугу снег тает раньше на неделю!
Но ты не представляешь себе, как дорого стоят земляные работы. Когда-то меня обещал профинансировать Вехов. Но он умер, завещав, чтобы на его могиле написали одно слово – «Дурак». И это еще не все: наказал младшему брату снять с него кожу, выделать и переплести в нее книгу – поэму о Снарке. С ума сошел. Об этом даже по телевизору у нас говорили. Человек-то был заметный, в областной думе заседал. Но до вас вряд ли дошло. Оторвалась Москва от России.
Теперь денег мне взять негде. Обращаюсь к тебе, как Паниковский к Корейко: «Дай миллион!» Не жадничай – человечество тебя не забудет. И я тоже. На всякий случай сообщаю тебе мой точный адрес для перевода и телефон, если захочешь что-то обсудить или уточнить. А если найдешь время посетить наши палестины (Паленый стан, тоже у нас, под Богородском), выпьем морсу, вспомним минувшие дни и тех, кого уж нет или далече…
Что бы сказать тебе на прощанье? Чуть не забыл! Когда стрелялись через платок, заряжали только один пистолет, потому что отдавали себя на Божий суд. Тоже, кстати, допотопная традиция. Когда витязи спорили, кому достанется женщина, они брали у нее платок, залезали на Столп Святогора и растягивали концы платка. Кто первым разжимал пальцы, падал и разбивался. Иногда падали оба. Видишь, как все просто! В сущности, жизнь и есть дуэль с судьбою через платок. Жму руку и надеюсь на помощь.
Дочитав письмо, Скорятин с недоумением посмотрел на фотографию Ниночки.
– Геннадий Павлович!
Он вздрогнул: перед ним переминалась, спрятав руки за спину, Ольга.
– Что случилось? Нет свободных мест в гостинице?
– Есть. Заказала. «Постоялый двор» называется. Прямо на берегу Волги. Улица Маркса, шесть. Последний автобус в 23:00 отходит от метро «Кузьминки». В шесть утра на месте. Билеты в кассе – свободно.
– Спасибо. Что еще?
– Всем очень жалко, что с вами так поступили…
– Всем?
– Почти.
– Спасибо.
– Как же мы теперь без вас?
– Не знаю. Держитесь!
– Как вы думаете, Георгий Иванович своего секретаря приведет?
– Боюсь, Заходырка всех теперь посокращает.
– Ну и ладно. Я рассказала, мне говорят: «Не бери в голову! Посидишь дома, отдохнешь…»
– Кто говорит – муж или он?
– Оба… – смутилась Ольга.
Несколько секунд они стеснительно помолчали. Бывший босс подумал о том, как мгновенно, словно карточный домик, развалилась вся прежняя сложноподчиненная жизнь с ее иерархией, начальственной спесью, интригами, обидами, связями. Раз – нет. И у секретарши глаза уже не преданные и сочувствующие. Чтобы сгладить заминку, Гена нагнулся и достал из пакета коробочку «Рафаэлло», купленную для Алисы.
– Это тебе, мы с тобой хорошо работали.
– Ой, спасибо! – она взяла конфеты левой рукой, продолжая правую держать за спиной. – Прочитали письмо?
– Угу.
– Правда, интересно?
– Безумно…
– Я поэтому и отдала Телицыной, чтобы она с этим ненормальным связалась. А потом хотела вам тихонько вернуть. Извините…
– Пустяки. Что-нибудь еще?
– К письму была фотография приложена.
– Знаю.
– Откуда? Она же у меня на столе под бумагами осталась.
– Как это? Ничего не понимаю. Покажите! – удивился Скорятин.
Ольга виновато протянула спрятанный за спиной снимок. Гена взял карточку, нацепил на нос очки и всмотрелся: в каком-то богомольном месте сплотились, позируя, трое. В центре – бравый старик в джинсах и льняной косоворотке, опоясанной витым красным шнуром, он опирался на костыли. Слева, положив ему на плечо голову, пристроилась тучная женщина в красном платье, а с другой стороны, чуть отстранясь, стоял молодой послушник в подряснике и скуфье. «Господи ты боже мой!» – Скорятин зажмурился от подступивших слез. В бодром инвалиде он узнал Колобкова: те же усы подковой, но почти седые. Илья напоминал теперь не Ринго Старра, а древнего гусляра: длинные пегие волосы стягивал узкий кожаный ремешок. А вот в толстой распустехе угадать пышную райкомовскую диву Галю, жарко домогавшуюся пропагандиста в те давние годы, было очень трудно, разве – по груди, достигшей с возрастом ошеломляющих объемов, да еще по глазам, таким же шало-влюбленным. Послушник с реденькой бороденкой походил постным личиком и на Илью, и на бывшую учетчицу. Так и есть – сын… Вдруг Гена сообразил: сфотографировались они в знакомом месте. Ну да! У Духосошественского монастыря. Только вместо железной вохровской проходной с надписью «Посторонним вход воспрещен» там теперь новые тесовые ворота, окованные медным узорочьем, а мощная стена тщательно побелена. Лишь нижние древние валуны остались как были. В арочной нише над входом сияла в изразцовом обрамлении надвратная икона. Значит, тот, кто их снимал, стоял спиной к Зоиному дому, метрах в ста от ее подъезда, возле дерева, где двадцать пять лет назад он маялся с кульком яблок, не решаясь подняться к ней в квартиру. А решись он – глядишь – не отпустил бы платок…
– А это тогда что такое? – Скорятин взял в руки снимок Ниночки.
– Так вот она где, пропащая! – вскричала секретарша. – А я искала, искала, все перерыла. Где вы ее нашли?
– Она была приколота к конверту.
– Перепутала… Ну, я сегодня совсем коза!
– А кто эта девушка? – превозмогая оторопь, спросил он.
– Нинка. Моя двоюродная сестра. Тетя Валя из Талдома прислала. Нет, у меня точно сегодня что-то с головой! Пойду я, наверное, домой…
– Идите, Оля. День был тяжелый. И знаете, забудьте, что я вам говорил. Возможно, все как раз наоборот. И любовь больше жизни…
– Вы думаете?
– Да.
– Значит, надо разводиться?
– Не знаю.
– А вы надолго в Тихославль?
– Надеюсь, надолго.
– А…
– Не волнуйтесь, вещи я заберу. Потом. Сложите пока в коробку. Я вам еще кое-что оставлю и надпишу, кому отдать. Деньги. Хорошо?
– Хорошо, обязательно, не беспокойтесь, – закивала Ольга, неумело изображая подчиненную преданность. – В сейф спрячьте! Мало ли что…
– Спрячу, ключ положу под «мышку».
– Уж не забудьте! – она глянула на бывшего шефа с прощальным состраданием. – Ну я пошла…
– Там у нас что-нибудь осталось?
– В тумбочке. Коньяк. Ведите себя хорошо!
«Двухмужняя… – вспомнил он, глядя ей вслед. – А с виду и не скажешь».
Запершись, Гена пил коньяк, закусывая сладким консервированным ананасом, но во рту почему-то оставался вкус вяленых бычков. Он курил, бродил по кабинету, с наслаждением стряхивая пепел под ноги, прямо на ковер, потом нашел в ящике черный фломастер и пририсовал Черчиллю буденновские усы, а Рузвельту – рожки. Сталина не тронул. Несколько раз набирал телефон Ильи, чтобы спросить про Зою, сначала сбрасывал номер еще до соединения, потом все-таки дождался длинных гудков и дал отбой, едва женский голос откликнулся: «Алло!» В дверь сурово постучал Женя и предупредил: через пятнадцать минут поставит помещение на сигнализацию. Раньше охранник без звука ждал убытия босса, сидевшего обычно допоздна.
Скорятин прикончил бутылку, разделил выходное пособие на три равные части, всунул в конверты, тщательно заклеил и надписал, кому: один – Вике, второй – Касимову (Ренату он вложил еще флэшку с «Клептократией»), а третий – Колобкову. На последнем Гена вывел адрес и телефон Ильи, чтобы не перепутали. Запер деньги в сейф, а ключ положил, как договаривались, под «мышку». В пачке оставалась последняя сигарета. Бывший главный редактор закурил и наблюдал плавное движение слоистого дыма. Сделав прощальную затяжку, он подошел к окну, открыл створку, выбросил окурок и с завистью проследил, как рыжая звездочка, кувыркаясь, исчезла в белесом мраке вечного снегопада.
«Коллектив еженедельника «Мир и мы» с глубоким прискорбием извещает о безвременной кончине многолетнего главного редактора «МиМа», одного из зачинателей свободной российской прессы, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреата премии «Перья Свободы», секретаря Союза журналистов России, почетного профессора Тартуского университета Геннадия Павловича Скорятина. В памяти сотрудников и читателей, всех честных граждан он навсегда останется рыцарем правды, гуманистом, мастером разящего слова, человеком безупречной репутации и твердых принципов. Молодым журналистом в мрачные годы государственного терроризма вступил он на тернистый путь борьбы за свободу и остался верен этой высокой миссии до конца. Выражаем искреннее соболезнование вдове, детям, друзьям, близким покойного, а также всем, кто потерял в его лице мудрого собеседника, учившего жить не по лжи.
«Милый друг, где б души ни витали», мы никогда не забудем тебя, нашего руководителя, товарища, наставника…»