Книга: Машина времени. Рассказы
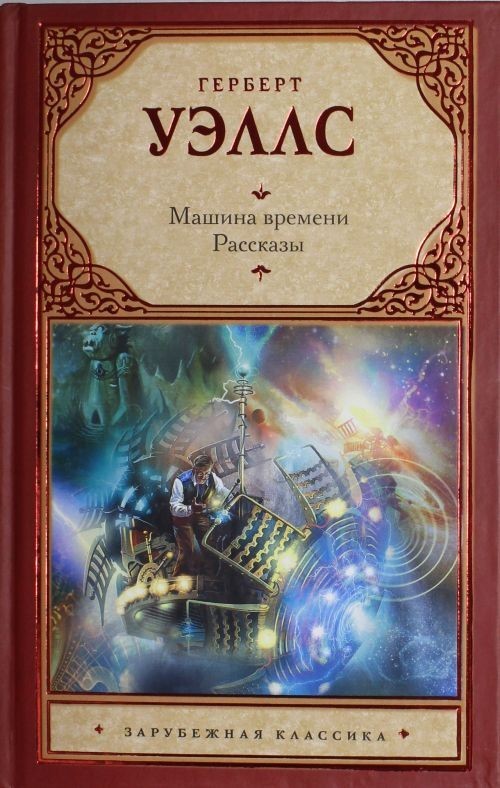
Машина времени. Рассказы
H. G. Wells
THE TIME MACHINE
Печатается с разрешения The Literary Executors of the Estate of H G Wells и литературных агентств AP Watt Limited и Synopsis
© The Literary Executors of the Estate of H G Wells, 1895
© Издание на русском языке AST Publishers, 2011
Путешественник по Времени (так приходится его называть) рассказывал нам самые странные вещи. Его серые глаза загорались и сияли, его лицо, обычно бледное, покрылось румянцем и оживилось. В камине ярко пылал огонь, и мягкий свет электрических лампочек, похожих на серебряные лилии, вспыхивал и пропадал на наших стаканах. Стулья, единственные в своем роде, скорее ласкались к нам, чем служили местами для сидения, в воздухе царила та изнеженная послеобеденная атмосфера, когда мысль, отрешенная от строгой определенности, легко и свободно скользит от предмета к предмету…
Вот как излагал он нам свою мысль, отмечая интересные места движениями своего тонкого указательного пальца, пока мы лениво сидели и удивлялись его изобретательности и тому, что он серьезно относится к своему новому парадоксу (как мы это называли).
– Прошу вас внимательно следить за мной. Мне предстоит опровергнуть одну или две из почти общепринятых идей. Например, геометрия, которой вас обучали в школах, построена на недоразумении…
– Не предполагаете ли вы, что это слишком сложный предмет, чтобы начинать с него свои доказательства? – сказал рыжеволосый Фильби, большой спорщик.
– Я и не ожидаю, что вы согласитесь со мной, не имея на это достаточно разумных оснований. Но вы скоро согласитесь со мной, поскольку это необходимо. Вы, без сомнения, знаете, что математическая линия, линия без толщины, не имеет реального существования. Вы знаете, что не существует также и математической плоскости. Учили вас этому? Все это чистые абстракции.
– Совершенно верно, – подтвердил Психолог.
– Но ведь точно так же не имеет реального существования и куб, обладающий только длиной, шириной и толщиной…
– С этим я не могу согласиться, – заявил Фильби. – Без сомнения, твердое тело может существовать. А все существующие предметы…
– Так думает большинство людей. Но подождите минуту. Может ли существовать мгновенный куб?
– Не понимаю вас, – сказал Фильби.
– Можно ли признать действительно существующим кубом то, что не имеет хотя бы временного существования?
Фильби задумался.
– А из этого ясно, – продолжал Путешественник по Времени, – что каждое реальное тело должно обладать протяжениями по четырем измерениям: оно должно иметь длину, ширину, толщину и продолжительность существования. Но вследствие прирожденной ограниченности нашего ума мы склонны не замечать этого факта. В действительности же существуют четыре измерения, из которых три мы называем измерениями Пространства, а четвертое – Временем Существования. Правда, хотят провести различие между тремя первыми измерениями и последним, но только потому, что наше сознание от начала нашей жизни и до ее конца непрерывно движется лишь по одному направлению этого последнего измерения.
– Это, – произнес Очень Молодой Человек, делая отчаянные усилия зажечь над лампой свою сигару, – это… право, очень ясно.
– А однако же, это совершенно упускается из виду, – продолжал Путешественник по Времени с легким оттенком веселости в голосе. – Время и есть то, что подразумевается под Четвертым Измерением, хотя некоторые, трактующие о Четвертом Измерении, не совсем разбираются в этом. Это просто другой способ смотреть на Время. Единственное различие между Временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется вдоль него. Некоторые глупцы неправильно понимают эту мысль. Все вы, конечно, знаете, в чем заключаются их возражения против Четвертого Измерения?
– Я не знаю, – заявил Провинциальный Мэр.
– Это очень просто. Пространство, как понимают его наши математики, считается имеющим три измерения, которые называют длиной, шириной и толщиной, и оно определяется по отношению к трем плоскостям, каждая под прямым углом к двум остальным. Однако некоторые философски настроенные умы задавали себе вопрос: почему же могут существовать только три измерения? Почему не может существовать еще нового измерения под прямым углом к трем остальным? Они пытались создать Геометрию Четырех Измерений. Около месяца назад профессор Саймон Ньюком излагал подобный взгляд перед Нью-Йоркским математическим обществом. Вы знаете, что на плоской поверхности, обладающей только двумя измерениями, можно представить фигуру трехмерного тела. Точно так же, по мнению Ньюкома, при помощи трехмерных моделей можно представить предмет четырех измерений, если овладеть перспективой этого предмета. Понимаете?
– Мне кажется, да, – пробормотал Провинциальный Мэр. Нахмурив брови, он впал в состояние самоуглубления и шевелил губами, как человек, повторяющий какие-то магические слова.
– Да, мне кажется, что я понял теперь, – произнес он спустя несколько минут, и его лицо просияло.
– Отлично, но я вовсе не хочу рассказывать вам, как я изучал некоторое время Геометрию Четырех Измерений. Однако некоторые из моих выводов довольно любопытны. Например, вот портрет человека, когда ему было восемь лет, другой – когда ему было пятнадцать, третий – семнадцать, четвертый – двадцать три года и так далее. Все это, очевидно, трехмерные представления его четырехмерного существования, которое является вполне определенной и неизменной величиной в Пространстве и Времени.
– Ученые, – продолжал Путешественник по Времени, сделав паузу для того, чтобы мы надлежащим образом усвоили себе сказанное, – отлично знают, что Время – только особый вид Пространства. Вот перед вами диаграмма записей погоды. Линия, которую я отмечаю пальцем, показывает движение барометра. Вчера утром он находился вот на такой высоте, вчера вечером он упал, сегодня утром снова поднялся и двигался понемногу вверх, пока не дошел до этого места. Без сомнения, ртуть не проводила этой линии ни в одном из общепринятых пространственных измерений. Но, во всяком случае, она абсолютно точно определяется нашей линией, и отсюда мы должны заключить, что такая линия была проведена погодой по Четвертому Измерению – Времени.
– Но, – сказал Доктор, пристально глядя на уголь в камине, – если действительно Время – только Четвертое Измерение Пространства, то почему же и теперь и постоянно, вплоть до наших дней, на него смотрели как на нечто отличное? И почему же мы не можем двигаться по Времени точно так же, как мы движемся по всем остальным измерениям Пространства?
Путешественник по Времени улыбнулся:
– А вы так уверены в том, что мы можем свободно двигаться в Пространстве? Правда, мы можем идти довольно свободно вправо и влево, взад и вперед, и люди всегда делали это. Я допускаю, что мы свободно движемся по двум измерениям. Но что вы скажете насчет движения вверх и вниз? Сила тяготения ограничивает нас в этом.
– Не совсем, – заметил Доктор. – Существуют же аэростаты.
– Но до аэростатов, помимо неуклюжих прыжков и неровностей земной поверхности, у человека не было другой возможности вертикального движения.
– Все же мы можем двигаться немного вверх и вниз, – сказал Доктор.
– Легче, значительно легче вниз, чем вверх!
– Но двигаться по Времени совершенно немыслимо, вы никуда не уйдете от настоящего момента.
– Мой дорогой друг, в этом-то именно вы и ошибаетесь. В этом именно и ошибались все до сих пор. Мы постоянно уходим от настоящего момента. Наша духовная жизнь, вне власти материи и не имеющая измерений, движется с одинаковой быстротой от колыбели к могиле по Четвертому Протяжению Пространства – Времени. Это совершенно так же, как если бы мы, начав наше существование на пятьдесят миль над земной поверхностью, равномерно бы падали вниз.
– Однако главное затруднение в том, – вмешался Психолог, – что вы можете двигаться по всем направлениям Пространства, но не можете двигаться по Времени!
– В этом-то и заключается зерно моего великого открытия. Вы совершаете ошибку, говоря, что мы не можем двигаться взад и вперед по Времени. Если я, например, очень ярко вспоминаю какое-либо событие и возвращаюсь ко времени его совершения, я мысленно отсутствую, как вы говорите. Я на минуту делаю прыжок в прошлое. Конечно, мы не имеем возможности остаться в прошлом на какую бы то ни было частицу Времени, подобно тому, как дикарь или животное не может остаться висящим в воздухе на расстоянии хотя бы шести футов от земли. В этом отношении цивилизованный человек имеет преимущество перед дикарем. Он вопреки силе тяготения может подняться вверх на воздушном шаре. Почему же ему не надеяться, что в конце концов он будет способен также остановить или ускорить свое движение по Времени или даже направить свой путь в противоположную сторону?
– Это совершенно невозможно, – начал было Фильби, – и, кроме того…
– Почему нет? – спросил Путешественник по Времени.
– Это противоречит разуму, – ответил Фильби.
– Какому разуму? – сказал Путешественник по Времени.
– Конечно, вы можете доказывать, что черное – белое, – сказал Фильби, – но вы никогда не убедите меня в этом.
– Возможно, что и нет, – сказал Путешественник по Времени. – Но все же вы рассмотрите вопрос с точки зрения Геометрии Четырех Измерений… С давних пор у меня было смутное желание создать машину…
– Чтобы путешествовать по Времени? – прервал Очень Молодой Человек.
– Ну да! Такую машину, которая могла бы двигаться по любому направлению Пространства и Времени по желанию того, кто управляет ею.
Фильби только рассмеялся вместо ответа.
– Но я проверил возможность этого на опыте, – сказал Путешественник по Времени.
– Это было бы удивительно удобно для историка, – заметил Психолог. – Можно было бы, например, поехать назад и проверить общепринятое описание битвы при Гастингсе!
– Разве вы не побоялись бы привлечь на себя нападение обеих сторон? – сказал Доктор. – Наши предки не очень были терпимы к анахронизмам.
– Можно было бы изучить греческий язык из уст самого Гомера или Платона, – сказал Очень Молодой Человек.
– И вы, конечно, провалились бы на экзамене. Немецкие ученые так удивительно усовершенствовали древний греческий язык!
– В таком случае уж лучше отправиться в будущее! – воскликнул Очень Молодой Человек. – Подумайте только! Можно было бы поместить теперь в банк на проценты все свои деньги, а самому поспешить в будущее!
– И обнаружить, – перебил я, – что общество там основано на строго коммунистических началах.
– Из всех экстравагантных теорий!.. – воскликнул Психолог.
– Да, так казалось и мне. И потому-то я не говорил об этом до тех пор…
– Вы можете подтвердить это опытом! – воскликнул я. – И вы можете доказать…
– Требую опыта! – закричал Фильби, уставший от рассуждений.
– Покажите нам ваш опыт, – сказал Психолог, – хотя, конечно, все это чепуха.
Путешественник по Времени, улыбаясь, обвел нас взглядом. Затем с той же усмешкой заложил руки в карманы и медленно вышел из комнаты. Мы услышали только шарканье его туфель вдоль длинного коридора, ведущего в лабораторию.
Психолог посмотрел на нас:
– Удивляюсь, за чем это он пошел?
– Наверное, какой-нибудь фокус, – сказал Доктор.
Фильби принялся рассказывать нам о фокуснике, которого он видел в Барслеме, но Путешественник по Времени вернулся, и анекдот Фильби остался неоконченным.
Предмет, который Путешественник по Времени держал в руке, представлял очень искусно сделанный блестящий металлический остов немного больше маленьких часов. Он был сделан из слоновой кости и частично из какого-то прозрачного хрустального вещества. Теперь я должен быть очень точным в своем рассказе, так как все последующее совершенно непостижимо. Он взял один из маленьких восьмиугольных столиков, стоявших в углу, и поставил его прямо перед огнем так, что две его ножки помещались на каминном коврике. На этот столик он поместил свой аппарат. Затем придвинул стул и сел на него. Кроме аппарата, на столе стояла еще небольшая лампа под абажуром, от которой падал яркий свет, и горело около дюжины свечей: две в бронзовых подсвечниках на камине, а остальные в канделябрах, так что комната была ярко освещена.
Я сел в низенькое кресло, поближе к огню, и пододвинул его вперед так, чтобы находиться почти между камином и Путешественником по Времени. Фильби уселся позади и смотрел через его плечо. Доктор и Провинциальный Мэр наблюдали его с правой стороны, а Психолог – с левой. Очень Молодой Человек стоял позади Психолога. Все мы насторожились. Мне кажется невероятным, чтобы при таких условиях мы могли быть обмануты каким-либо фокусом, даже самым тонким и искусно выполненным.
Путешественник по Времени посмотрел на нас, а затем на аппарат.
– Ну? – сказал Психолог.
– Эта маленькая штучка только модель, – сказал Путешественник по Времени, облокотившись на стол и сложив руки над аппаратом. – Это маленькое воспроизведение моей машины для путешествия по Времени. Вы замечаете, что у нее удивительно странный вид? Например, вот у этой пластинки очень смутная поверхность, как будто бы она в некотором роде не совсем реальна.
Он указал пальцем на одну из частей модели:
– Вот в этом месте находится маленький белый рычажок, а здесь другой.
Доктор встал со стула и принялся рассматривать модель.
– Чудесно сделано, – сказал он.
– На это ушло два года, – ответил Путешественник по Времени. Затем, после того как мы все, по примеру Доктора, осмотрели модель, он прибавил: – Я хочу, чтобы вы ясно поняли, в чем дело: при надавливании на этот рычаг машина начинает скользить в будущее, а этот второй рычаг вызывает обратное движение. На седло машины должен сесть Путешественник по Времени. Сейчас я нажму рычаг, и машина двинется. Она исчезнет, уйдет в будущее и скроется из наших глаз. Осмотрите ее хорошенько. Осмотрите также стол и убедитесь, что тут нет никакого фокуса. Я вовсе не желаю потерять свою модель и за это получить среди вас только репутацию шарлатана.
Наступила минутная пауза. Психолог хотел как будто что-то сказать мне, но передумал. Тогда Путешественник по Времени протянул палец по направлению к рычагу.
– Нет, – внезапно сказал он. – Пусть кто-нибудь даст мне руку. – И, обернувшись к Психологу, он взял его за локоть и попросил вытянуть указательный палец.
Таким образом, Психолог сам отправил модель Машины Времени в ее бесконечное путешествие. Мы все видели, как рычаг повернулся. Я глубоко убежден, что здесь не было обмана. Произошло движение воздуха, и пламя лампы заколебалось. Одна из свечей, стоявших на камине, погасла. Маленькая машина закачалась, сделалась неясной, на секунду мы видели ее, как тень, как призрак, как вихрь слабо блестевшей бронзы и слоновой кости, – и затем исчезла, пропала. На столе осталась только лампа.
С минуту мы все молчали. Затем Фильби выругался.
Психолог, оправившись от изумления, неожиданно заглянул под стол. Путешественник по Времени весело рассмеялся.
– Ну! – сказал он, намекая на предыдущее «ну» Психолога.
Затем, встав, он подошел к стоящей на камине коробке с табаком и преспокойно принялся набивать свою трубку.
Мы смотрели друг на друга.
– Слушайте, – сказал Доктор, – неужели вы проделали все это серьезно? Неужели вы действительно верите, что эта машина отправилась путешествовать по Времени?
– Без сомнения, – ответил мой друг, наклоняясь к камину, чтобы зажечь клочок бумаги. Затем, закурив трубку, он посмотрел на Психолога. Психолог, стараясь скрыть свое смущение, достал сигару и, позабыв обрезать кончик, тщетно пытался закурить.
– Скажу более, – сказал наш хозяин, – у меня там почти окончена большая машина… Там. – Он указал в сторону своей лаборатории. – Когда она будет готова, я предполагаю сам совершить путешествие.
– Вы говорите, что эта машина отправилась в будущее? – спросил Фильби.
– В будущее или в прошедшее – я не знаю наверное.
– Постойте, – сказал Психолог с воодушевлением. – Она должна была отправиться в прошлое, если вообще можно допустить, что она куда-нибудь отправилась.
– Почему? – спросил Путешественник по Времени.
– Потому, что если она не двигалась в Пространстве и направилась в будущее, то она все время оставалась бы с нами: ведь и мы путешествуем туда же!
– А если бы она направилась в прошлое, – добавил я, – то мы видели бы ее еще в прошлый четверг, когда были здесь, и в позапрошлый четверг, и так далее!
– Серьезные возражения! – заметил Провинциальный Мэр и с видом полного беспристрастия повернулся к Путешественнику по Времени.
– Нисколько, – ответил тот и, обращаясь к Психологу, сказал: – Вы сами легко можете им это объяснить. Эта встреча вне восприятия, неуловимая чувством.
– Конечно, – ответил Психолог, обращаясь к нам. – Это очень просто с психологической точки зрения. Я должен был бы раньше подумать об этом. Это может поддержать ваш парадокс. Мы действительно не можем видеть, не можем заметить движения этой машины, как не можем указать на спицу вертящегося колеса или пулю, летящую в воздухе. Точно так же, если машина движется в будущее с быстротой в пятьдесят или во сто раз больше, чем мы сами, если она проходит минуту времени, пока мы проходим секунду, то впечатление, которое она производит, равняется, конечно, только одной пятидесятой или одной сотой того впечатления, которое она произвела бы, если бы двигалась вместе с нами. Это совершенно ясно…
Он провел рукой по тому месту, где стоял аппарат.
– Вы видите? – сказал он смеясь.
Мы сидели и более минуты не отводили взгляда от пустого стола. Затем Путешественник по Времени спросил нас, что мы думаем обо всем этом.
– Все это кажется вполне правдоподобным сегодня вечером, – ответил Доктор, – но подождем завтрашнего здравого смысла.
– Не хотите ли взглянуть и на саму Машину Времени? – спросил Путешественник по Времени.
И, взяв в руки лампу, он повел нас к своей лаборатории по длинному холодному коридору. Ясно помню мерцающий свет лампы, широкий силуэт его крупной головы, наши пляшущие тени на стенах коридора. Мы следовали за ним удивленные и недоверчивые, а затем увидели в лаборатории большое, расширенное, так сказать, издание маленького механизма, исчезнувшего на наших глазах. Некоторые части машины были сделаны из никеля, другие из слоновой кости; были еще детали, несомненно, вырезанные или выпиленные из горного хрусталя. В общем машина была готова. На скамье, рядом с чертежами, лежало несколько стержней, странно извитых. Они, по-видимому, не были окончены. Я взял в руки один из них, чтобы получше рассмотреть. По-видимому, он был сделан из кварца.
– Скажите, – начал Доктор, – неужели это действительно серьезно? Или это шутка вроде того привидения, которое вы показывали нам на прошлое Рождество?
– На этой машине, – сказал Путешественник по Времени, держа лампу высоко над головой, – я собирался исследовать Время. Разве это не ясно? Я никогда не говорил более серьезно, чем сейчас.
Никто из нас хорошенько не знал, как отнестись к его заявлению. Из-за плеча Доктора я встретился взглядом с Фильби, и он многозначительно подмигнул мне.
Мне кажется, что в то время никто из нас серьезно не верил в Машину Времени. Дело в том, что Путешественник по Времени принадлежал к числу людей, которые cлишком умны для того, чтобы им можно было верить во всем. Вам всегда казалось, что он себе на уме. Вы никогда не были уверены в том, что его обычная откровенность не таит какой-нибудь задней мысли или остроумной уловки. Если бы ту же самую модель демонстрировал нам Фильби и объяснил бы сущность дела теми же словами, мы проявили бы к нему значительно меньше скептицизма. Мы понимали бы мотивы его действий: всякий колбасник был в состоянии понять Фильби. Но Путешественник по Времени по своему характеру был слишком причудлив, и мы инстинктивно не доверяли ему. Открытия и выводы, которые доставили бы славу человеку менее умному, чем он, казались пустяками, когда их делал он. Достигать своих целей слишком легко – это большая ошибка. Серьезные люди, с уважением относившиеся к нему, никогда не были уверены в том, что он не одурачит их просто ради шутки. Они всегда чувствовали, что их репутация умных людей была в его руках подобна хрупкому фарфору в руках ребенка.
Вот почему, как мне кажется, ни один из нас в течение последующей недели, от четверга до четверга, ни слова не сказал о путешествии по Времени, хотя, без сомнения, оно заинтересовало всех. Видимая правдоподобность и вместе с тем практическая несообразность подобного полета, возможность изменения во время него всех прошлых событий нашей жизни и полный хаос, который вызвало бы такое обстоятельство, – все это занимало нас.
Что же касается меня лично, то я особенно интересовался фокусом с моделью. Помню, что я поспорил об этом с Доктором, встретившись с ним в пятницу в Линнеевском обществе. Он говорил, что видел подобную же вещь в Тюбингене, и придавал большое значение тому, что одна из свечей во время опыта погасла. Но как был сделан фокус, он не мог объяснить.
В следующий четверг я снова поехал в Ричмонд – я был одним из постоянных гостей Путешественника по Времени – и, приехав поздно, нашел уже четверых или пятерых знакомых, собравшихся в гостиной.
Доктор стоял перед камином с листком бумаги в одной руке и часами в другой. Я огляделся, но Путешественника по Времени не было.
– Половина восьмого, – сказал Доктор. – Мне кажется, пора приступить к обеду.
– Где же хозяин? – спросил я.
– Ага, вы только что пришли? Знаете, это становится странным. Его, по-видимому, что-то задержало. В этой записке он просит нас сесть за обед в семь часов, если он не вернется. Говорит, что по приходе объяснит нам, в чем дело.
– Досадно, если обед испортится! – сказал Редактор одной известной газеты.
Доктор позвонил.
Из прежних гостей, кроме меня и Доктора, был только один Психолог. Зато были новые: Бленк, вышеупомянутый Редактор, один журналист и еще какой-то тихий, застенчивый бородатый человек, которого я не знал и который, насколько я мог заметить, в продолжение целого вечера не проронил ни слова.
За обедом начались всевозможные догадки о том, где находится Путешественник по Времени. Я полушутливо намекнул на путешествие по Времени. Редактор захотел узнать, что это значит, и Психолог принялся довольно длинно и малоинтересно рассказывать об «остроумном фокусе», очевидцами которого мы были неделю назад.
В самой середине его рассказа дверь, ведущая в коридор, медленно и бесшумно открылась. Я сидел напротив нее и первый заметил это.
– А! – воскликнул я. – Наконец-то! – Дверь распахнулась еще больше, и мы увидели Путешественника по Времени.
У меня вырвался крик изумления.
– Господи, что с вами случилось?! – воскликнул Доктор. Все сидевшие за столом повернулись к двери.
Вид у него был действительно странный. Его сюртук был в пыли и грязи, и на рукавах виднелись какие-то зеленые пятна; волосы всклокочены и показались мне поседевшими от пыли, или от грязи, или оттого, что они за это время выцвели. Лицо его было мертвенно бледно, и на подбородке виднелся темный полузаживший рубец. Выражение глаз было блуждающее и утомленное, как у человека, испытавшего тяжелые страдания.
Около минуты он постоял в дверях, как будто ослепленный светом. Затем пошел в комнату прихрамывая. Так хромают бродяги, когда они натирают ноги. Мы все молча смотрели на него, ожидая, что он заговорит.
Не произнося ни слова, он тяжело подошел к столу и протянул руку к бутылке. Редактор наполнил бокал шампанским и пододвинул к нему. Он осушил его залпом, и это, казалось, принесло ему пользу: он обвел взглядом весь стол, и на лице его мелькнула тень обычной улыбки.
– Что с вами случилось? – спросил Доктор. Путешественник по Времени, казалось, не расслышал его вопроса.
– Простите, что я встревожил вас, – сказал он запинаясь. – Подождите немного!..
Он замолчал и протянул бокал, чтобы в него налили снова вина, затем выпил, как прежде, залпом.
– Теперь хорошо, – сказал он.
Глаза его заблестели, и слабый румянец показался на щеках. Он взглянул на нас с неопределенным ободрением и два раза прошелся из угла в угол теплой и уютной комнаты… Затем снова заговорил, запинаясь и будто с трудом подыскивая нужные слова.
– Я пойду умоюсь и переоденусь, а затем вернусь и расскажу вам, в чем дело. Оставьте мне только кусочек баранины. Мне смертельно хочется мяса.
Он взглянул на Редактора, бывшего редким гостем, и справился, как он поживает. Редактор спросил его о чем-то.
– Дайте только одну минуту, и я отвечу вам, – сказал Путешественник по Времени. – Смотрите, в каком я виде. Через минуту все будет в порядке.
Он поставил стакан и направился к двери. Я снова обратил внимание на его хромоту и на мягкий звук его шагов. Привстав со своего места как раз в ту минуту, когда он выходил из комнаты, я увидел его ноги. На них не было ничего, кроме изорванных и окровавленных носков. Дверь закрылась. Я хотел его догнать, но вспомнил, как он ненавидит всякую лишнюю суету. Несколько минут я не мог собраться с мыслями.
– Странное Поведение Знаменитого Ученого, – услышал я голос Редактора, который по привычке мыслил всегда в форме газетных заголовков.
Эти слова вернули меня к ярко освещенному обеденному столу.
– В чем дело? – спросил Журналист. – Что он, разыгрывает Бродягу-Любителя, что ли? Я ничего не понимаю.
Я встретился взглядом с Психологом, и на его лице прочел отражение собственных мыслей. Я подумал о путешествии по Времени и о самом Путешественнике, хромавшем теперь по лестнице. Кажется, никто, кроме меня, не заметил его хромоты.
Прежде всех опомнился Доктор. Он позвонил – Путешественник по Времени не любил, чтобы слуги находились в комнате во время обеда, – и попросил подать следующее блюдо.
Проворчав себе что-то под нос, Редактор принялся орудовать ножом и вилкой, и Молчаливый Гость последовал его примеру. Все снова принялись за еду. Некоторое время разговор состоял из одних восклицаний удивления и пауз. Любопытство Редактора достигло крайней степени.
– Не пополняет ли наш общий друг свои скромные доходы нищенством? – начал он снова. – Или с ним случилось то же самое, что с Навуходоносором?
– Я убежден, что это имеет какое-то отношение к Машине Времени, – сказал я и стал продолжать рассказ Психолога о нашей предыдущей встрече. Новые гости слушали с явным недоверием. Редактор принялся возражать.
– Хорошенькое путешествие по Времени! – воскликнул он. – Подумайте только! Не может же человек покрыться пылью только потому, что запутался в своем парадоксе!
Найдя достаточно забавной эту мысль, он принялся представлять дело в смешном виде.
– Неужели в Будущем Времени нет платяных щеток?
Журналист тоже ни за что не хотел верить подобному абсурду и присоединился к Редактору в легком деле нанизывания насмешек и несообразностей. Оба представляли новый тип журналистов – веселых, разбитных молодых людей.
– Наш специальный корреспондент из послезавтрашнего дня сообщает, – начал, или, скорее, выкрикнул Журналист в ту минуту, как снова появился Путешественник по Времени.
Он был теперь в обычном костюме, и, кроме блуждающего взгляда, на лице его не оставалось следов недавнего истощения, которое меня так поразило.
– Вообразите, – весело сказал Редактор, – эти шутники утверждают, что вы побывали в середине будущей недели!.. Не расскажете ли вы нам что-нибудь о лорде Розбери? Какой желаете гонорар?
Не произнося ни слова, Путешественник по Времени подошел к оставленному ему месту. Он улыбался своей обычной спокойной улыбкой.
– Где моя баранина? – спросил он. – Какое наслаждение снова воткнуть вилку в кусок мяса!
– Рассказ! – закричал Редактор.
– К черту рассказ! – сказал Путешественник по Времени. – Мне ужасно хочется есть. Не скажу ни слова, пока в меня не попадет немного мясного сока… Благодарю вас. Пожалуйста, и соль.
– Одно только слово, – проговорил я. – Вы путешествовали по Времени?
– Да, – ответил Путешественник по Времени с полным ртом, кивнув головой.
– Плачу по шиллингу за строчку! – сказал Редактор.
Путешественник по Времени пододвинул к Молчаливому Человеку свой стакан и постучал об него пальцем; Молчаливый Человек, пристально смотревший на него, нервно вздрогнул и налил ему вина.
Конец обеда показался мне долгим. Я с трудом удерживался от вопросов, и думаю, что то же было и со всеми остальными. Журналист пытался поднять общее настроение, рассказывая анекдоты о Хетти Поттер. Но Путешественник по Времени был занят только своим обедом и проявлял аппетит подлинного бродяги. Доктор курил сигару и, прищурившись, незаметно наблюдал за ним. Молчаливый Человек, казалось, более обыкновенного чувствовал прилив застенчивости и нервно пил шампанское с особенной решительностью.
Наконец Путешественник по Времени отодвинул свою тарелку и обвел нас глазами.
– Я вижу, что нуждаюсь в оправдании, – сказал он. – Простите! Я умирал с голоду. Со мной случилось самое удивительное происшествие.
Он протянул руку за сигарой и обрезал ее конец.
– Перейдемте в курительную. Это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее над грязными тарелками.
И, позвонив по пути, он отвел нас в соседнюю комнату.
– Рассказали ли вы Бленку, Дэшу и Чоузу о Машине? – спросил он меня, откидываясь на спинку удобного кресла и указывая на трех новых гостей.
– Но ведь это был простой парадокс, – сказал Редактор.
– Сегодня я не в силах спорить. Рассказывать могу, но спорить не в состоянии. Если вы хотите, я расскажу вам о том, что со мной случилось, но прошу не прерывать меня. Я чувствую ужасную потребность рассказать вам все. Знаю, что большая часть моего рассказа покажется вам вымыслом. Пусть так! Это все-таки будет правдой – от первого до последнего слова… Сегодня в четыре часа дня я находился в своей лаборатории, и с тех пор за три часа я прожил восемь дней!.. Восемь дней, каких не переживало еще ни одно человеческое существо! Я переутомлен, но не лягу спать до тех пор, пока не расскажу вам все. Тогда только засну. Но не прерывайте меня. Согласны?
– Согласен, – сказал Редактор.
И все мы повторили хором:
– Согласны!
Путешественник по Времени начал свой рассказ – тот самый, который я излагаю ниже. Сначала он сидел, откинувшись на спинку кресла, и казался крайне утомленным, но потом понемногу оживился. Пересказывая его слова, я чувствую слишком глубоко полную несостоятельность пера и чернил и, главное, свою собственную неспособность передать характерные особенности его рассказа. По всей вероятности, вы прочтете его со вниманием, но вы не увидите бледного искреннего лица рассказчика, освещенного ярким светом лампы, и не услышите правдивой интонации его голоса. Вы не сможете представить себе, как, соответственно ходу рассказа, изменялось выражение его лица. Большинство из нас сидело в тени: в курительной комнате не были зажжены свечи, и свет лампы падал только на лицо Журналиста и на ноги Молчаливого Человека, да и то лишь до колен.
Сначала мы молча переглядывались, но вскоре забыли обо всем и смотрели только на лицо Путешественника по Времени.
– В прошлый четверг я излагал уже некоторым из вас устройство моей Машины Времени и показывал ее, еще незаконченную, в своей мастерской. Там находится она и сейчас, правда, немного испорченная путешествием. Один из ее костяных стержней надломлен, и бронзовая полоса погнута, но все остальные части в исправности.
Я рассчитывал закончить ее еще в пятницу, но, собрав все, я заметил, что одна из никелевых полос на целый дюйм короче, чем нужно. Я должен был снова переделывать ее. Вот почему моя Машина оказалась готовой только сегодня. В десять часов утра первая из всех Машин Времени была готова к путешествию. В последний раз я осмотрел все, испробовал винты и, капнув немного масла на кварцевый стержень, сел в седло.
Думаю, что самоубийца, который подносит револьвер к своему виску, ощущает такое же странное чувство, какое испытывал я, когда одной рукой взялся за рычаг-отправитель, а другой – за тот, который останавливает движение. Я быстро нажал первый и почти тотчас же второй. Мне показалось, что я покачнулся и почувствовал, как будто в кошмаре, ощущение падения. Но, оглянувшись, я увидел свою лабораторию такой же, как и за минуту до этого.
Произошло ли что-нибудь?.. На мгновение у меня мелькнула мысль, что все мои теоретические предположения ошибочны. Я посмотрел на часы. Мгновение назад, как мне казалось, часы показывали десять с небольшим, теперь – около половины четвертого!
Я вздохнул и, сжав зубы, обеими руками надавил на рычаг-отправитель. Я почувствовал толчок. Лаборатория стала туманной и неясной. Вошла миссис Уотчет и, по-видимому, не замечая меня, помчалась к двери в сад. Для того чтобы пройти комнату, ей понадобилось, вероятно, около минуты, но мне показалось, что она пронеслась с быстротой ракеты. Я надавил рычаг до отказа. Сразу наступила темнота, как будто потушили лампу, а в следующее мгновение уже рассвело. Я неясно различал лабораторию, которая становилась все более и более туманной. Вдруг наступила ночь, затем снова день, снова ночь и так далее все чаще и чаще. У меня шумело в ушах, и странное смутное ощущение падения стало сильнее.
Боюсь, что не сумею передать вам своеобразных ощущений путешествия по Времени. Чтобы понять меня, их надо испытать самому. Они удивительно неприятны. Вы испытываете чувство, как будто мчитесь куда-то, беспомощный, с головокружительной быстротой! Предчувствие ужасного неизбежного падения не покидает вас…
Пока я мчался таким образом, ночи сменялись днями, подобно взмахам черных крыльев. Скоро смутное ощущение окружающей меня лаборатории внезапно исчезло, и я увидел солнце, каждую минуту делающее прыжок по небу от востока до запада и каждую минуту отмечающее новый день. Я решил, что лаборатория кругом меня уничтожена, а я очутился под открытым небом. У меня было впечатление, что здесь что-то строится, но я мчался по Времени слишком быстро, чтобы замечать подробности. Самая медленная из улиток мчалась для меня слишком быстро.
Мерцающая смена темноты и света была очень мучительна для глаз. В секунды потемнения я видел луну, которая быстро пробегала по небу, меняя свои фазы от новолуния и до полнолуния, видел слабое мерцание бежавших за нею звезд. И вот, когда я продолжал мчаться таким образом со все увеличивающейся скоростью, день и ночь слились наконец для меня в одну непрерывную серую пелену; небо окрасилось в ту удивительную синеву, приобрело тот чудесный оттенок, которым отличаются ранние сумерки; метавшееся солнце превратилось в одну огненную полосу, блестевшую дугой с востока до запада, а луна – в такую же полосу слабо струившегося света. Я уже не мог видеть звезд и только изредка замечал то тут, то там более яркие круги, опоясавшие небесную синеву.
Расстилавшийся вокруг меня пейзаж был смутен и туманен. Я все еще находился на склоне холма, на котором и сейчас стоит этот дом, и вершина холма подымалась передо мною серая и неясная. Я видел, как деревья вырастали подобно клубам дыма: то желтеющие, то зеленеющие, они, мелькая, росли, расширялись и исчезали. Я видел, как появлялись огромные великолепные здания и снова исчезали, как сновидения. Вся поверхность земли изменялась на моих глазах. Маленькие стрелки на циферблатах, отмечавшие скорость машины, вертелись все быстрей и быстрей. Скоро я заметил, что полоса, заменившая солнце, отклонялась то к северу, то к югу – от летнего солнцестояния к зимнему, – показывая этим, что я пролетал более года в минуту, и каждую минуту белый снег покрывал землю и сменялся яркой зеленью весны.
Первые неприятные ощущения полета стали уже не такими острыми. Они перешли в какое-то истерическое упоение. Я замечал странное качание Машины, но не мог понять причины этого. В голове моей был какой-то хаос, и я в припадке безумия бросил себя в будущее. Я не думал об остановке, не думал почти ни о чем другом, кроме своих новых ощущений. Но вскоре эти новые ощущения сменились любопытством, смешанным со страхом.
«Какое удивительное развитие человечества, какие чудесные достижения прогресса сравнительно с нашей зачаточной цивилизацией, – думал я, – могут открыться передо мною, если я взгляну поближе на смутный и мелькающий мир, мчащийся и изменяющийся перед моими глазами!»
Я видел, как вокруг меня подымались огромные здания чудесной архитектуры, гораздо более величественные, чем здания нашего времени, но они казались сотканными как будто из мерцающего тумана. Я видел, как склон этого холма покрылся пышной зеленью, неизмеримо богаче нашей, и она оставалась на нем все время без зимних перерывов. Даже сквозь дымку моего смутного состояния окружающая местность показалась мне удивительно прекрасной. И я почувствовал желание остановиться.
Риск остановки заключался в том, что я мог найти пространство, необходимое для моего тела или моей Машины, уже занятым. Пока я с огромной скоростью мчался по Времени, это почти не имело значения: я находился, так сказать, в разжиженном состоянии, подобно пару, скользил в промежутках встречающихся веществ. Но остановка влекла за собой втискивание меня молекула за молекулой в то, что находилось на месте моей остановки. Атомы моего тела должны были войти в такое близкое соприкосновение с атомами окружающей среды, что между теми и другими могла произойти сильная химическая реакция – возможно, огромный взрыв, который отправил бы меня вместе с моим аппаратом по ту сторону всех возможных измерений, в Неизвестность. Эта перспектива не раз приходила мне на ум, пока я изготовлял Машину, но тогда я считал, что это неизбежный риск – один из тех, от которых не может избавиться человек! Теперь же, когда опасность стала неминуема, она уже более не представлялась мне в таком розовом свете. Дело в том, что полная новизна окружающего, утомительное колебание и дрожание машины, а главное, ощущение непрерывного падения – все это незаметно действовало на мои нервы. Я говорил себе, что уже больше не смогу никогда остановиться, и вдруг, в порыве самопротиворечия, тотчас же решил это сделать. Как нетерпеливый глупец, я надавил рычаг, в то же мгновение Машина перевернулась, и я стремглав полетел в пространство.
В ушах у меня гудело, как от удара грома. С минуту я был почти оглушен. Потом с трудом сел и осмотрелся. Кругом меня со свистом падал белый град, а я сидел на мягком дерне перед опрокинутой Машиной. Все вокруг меня еще продолжало казаться серым. Скоро я почувствовал, что шум в ушах у меня прошел, и еще раз осмотрелся: я находился, по-видимому, в саду, на лужайке, окруженной рододендронами, и лиловые и пурпурные цветы падали вокруг меня на землю под ударами града. Отскакивающие от земли танцующие градины летели над моей Машиной, таяли и мокрым покровом стлались по земле. В одно мгновение я промок до костей.
«Нечего сказать, милое гостеприимство, – промолвил я, – так встретить человека, который промчался сквозь множество лет».
Подумав, что мокнуть дольше было бы глупо, я встал и осмотрелся. Сквозь дымку тумана за рододендронами я смутно различил колоссальную фигуру, высеченную, по-видимому, из какого-то белого камня. Ничего другого нельзя было рассмотреть.
Трудно передать мои ощущения. Когда град поредел, я яснее разглядел белую фигуру. Она была очень велика – огромный серебристый тополь доходил только до ее плеча. Ее сделали из белого мрамора, и походила она на крылатого Сфинкса. Но его крылья не прилегали к телу, а были распростерты. Казалось, будто он собирается взлететь. Пьедестал показался мне сделанным из бронзы и был густо покрыт медной зеленью. Лицо Сфинкса было как раз обращено ко мне, его неподвижные глаза, казалось, смотрели на меня, и по губам скользила тень улыбки. Он был сильно попорчен непогодами, словно изъеден болезнью. Я стоял и глядел на него, может быть, с полминуты, а может, и с полчаса. Казалось, что он то приближался, то отступал, смотря по тому, гуще или реже падал перед ним град. Наконец я на минуту отвел от него глаза и увидел, что завеса града прорвалась, небо почти прояснилось и скоро должно появиться солнце.
Я снова взглянул на белую фигуру Сфинкса и внезапно ощутил всю отчаянность своего путешествия. Что предстанет предо мною, когда совершенно исчезнет этот туман дождевой пыли? Разве с людьми не могла произойти за это время полная перемена? Что, если люди стали еще более жестокими? Что, если за это время они совершенно утратили свой человеческий облик и превратились во что-то нечеловеческое, неприятное и подавляюще сильное? А может быть, я увижу какое-нибудь дикое животное, еще более ужасное и отвратительное, чем первобытные ящеры, благодаря своему человекоподобию, – мерзкую тварь, которую следовало бы тотчас же уничтожить?
Я взглянул кругом и увидел другие, более отдаленные очертания – огромные здания с затейливыми перилами и высокими колоннами. Они отчетливо выделялись на фоне лесистого холма, который сквозь утихающую грозу смутно вырисовывался передо мною. Панический страх вдруг овладел мною. Как безумный, я бросился к Машине Времени и старался привести ее в порядок.
Столбы солнечного света пробились тем временем сквозь грозовые облака. Серая завеса расплылась и исчезла. Надо мной в густой синеве летнего неба растаяло несколько последних клочков грозовых облаков. Ясно и отчетливо показались огромные здания, блестевшие после обмывшей их грозы и украшенные белыми грудами нерастаявших градин.
Я почувствовал себя совершенно беззащитным в этом странном мире. Вероятно, то же самое ощущает птичка, летящая в воздухе, видя, как парит ястреб, собирающийся на нее броситься. Мой страх граничил с безумием. Я собрался с силами, сжал зубы и руками и ногами уперся в Машину, чтобы перевернуть ее. Она подалась под моим отчаянным натиском и, наконец, перевернулась, сильно ударив меня по подбородку. Одной рукой держась за сиденье, другой – за рычаг, я стоял, тяжело дыша, готовый снова взобраться на нее.
Но вместе с открывшейся для меня возможностью быстрого отступления мужество снова вернулось ко мне. С чувством большого любопытства и уменьшающимся страхом я взглянул на этот мир отдаленного будущего. Под аркой входа в стене ближайшего дома я увидел несколько фигур, одетых в красивые одежды. Они меня тоже видели: их лица были обращены ко мне.
Затем я услышал звуки приближающихся голосов. Из-за кустов позади Белого Сфинкса показались головы и плечи бегущих ко мне людей. Один из них выскочил на тропинку, ведущую прямо к маленькой лужайке, где я находился вместе со своей Машиной. Это было маленькое создание – около четырех футов ростом, одетое в пурпурную тунику, перехваченную у талии кожаным ремнем. На ногах у него были сандалии или туфли. Колени были обнажены, и голова не покрыта. Заметив эту легкость одежды, я впервые почувствовал, какой теплый был воздух.
Подбежавший ко мне человек произвел на меня впечатление удивительно прекрасного, грациозного, но чрезвычайно хрупкого существа. Его залитое нежным румянцем лицо напомнило мне лица больных чахоткой девушек, – ту чахоточную красоту, о которой так часто приходится слышать. При взгляде на него ко мне внезапно вернулось чувство доверия. Я отдернул руку от Машины.
В следующее мгновение мы уже стояли лицом к лицу – я и это хрупкое создание далекого будущего. Он прямо и смело подошел ко мне и приветливо засмеялся. Это полное отсутствие страха предо мной чрезвычайно поразило меня. Он повернулся к двум другим, которые следовали за ним, и заговорил с ними на странном, очень нежном и певучем языке.
Тем временем подошли другие. Скоро вокруг меня образовалась группа из восьми или десяти очень изящных созданий. Один из них обратился ко мне с каким-то вопросом. Не знаю почему, но мне пришло вдруг в голову, что мой голос должен показаться им слишком грубым и резким. Поэтому я только покачал головой и указал на мои уши. Тот, кто обратился ко мне, сделал шаг вперед, остановился в нерешительности и дотронулся до моей руки. Я почувствовал еще несколько таких же нежных прикосновений на плечах и на спине.
Они хотели убедиться, что я действительно живое существо. В их движениях не было решительно ничего внушающего тревогу. Наоборот, в этих хорошеньких маленьких созданиях было что-то вызывающее доверие, какая-то грациозная мягкость, какая-то детская непринужденность обращения. К тому же они выглядели такими хрупкими, что, казалось, можно было совсем легко в случае нужды разбросать их, как кегли, – целую дюжину одним толчком.
Однако, заметив, что маленькие руки принялись ощупывать Машину Времени, я сделал предостерегающее движение. Я вспомнил об опасности ее неожиданного исчезновения, о которой совершенно забыл, и, нагнувшись над стержнями, вывинтил маленькие рычаги, приводящие Машину в движение, и положил их в карман. Затем снова повернулся к этим людям, раздумывая, как бы войти с ними в более близкие сношения.
Вглядевшись пристальнее в их лица, я заметил новые особенности в их изящной красоте, напоминающей дрезденский фарфор. Их волосы, одинаково кудрявые у всех, кончались у шеи, на лице не было видно ни малейшего признака растительности, уши у них были поразительно миниатюрны. У всех был маленький рот с ярко-пунцовыми, довольно тонкими губами и небольшой остроконечный подбородок. Глаза были большие и кроткие, но – не сочтите это за тщеславие! – в них недоставало выражения того огромного интереса ко мне, какого я был вправе ожидать.
Они не делали дальнейших попыток заговаривать со мной и стояли вокруг меня, улыбаясь и переговариваясь друг с другом нежными, воркующими голосами. Я первым начал разговор. Указал им рукой на Машину Времени и потом на самого себя. Затем, после минутной нерешительности, не зная, как лучше выразить понятие о Времени, указал им на солнце. Тотчас же одно изящное, хорошенькое существо, одетое в клетчатую пурпурно-белую одежду, повторило мой жест и, несказанно поразив меня, произвело своим ртом легкую имитацию грома.
На мгновение я пришел в замешательство, хотя смысл жеста был вполне ясен. Меня внезапно осенила мысль: не имею ли я дело с существами, лишенными самых элементарных знаний? Вы не поймете, как это поразило меня. Я всегда держался того мнения, что люди восемьсот второго тысячелетия, куда я залетел, судя по счетчику моей Машины, уйдут невообразимо дальше нас в науке, искусстве и во всем остальном. И вдруг один из них задает мне вопрос, показывающий, что его умственный уровень не выше уровня нашего пятилетнего ребенка: он серьезно спрашивает меня, не упал ли я с солнца во время грозы?
Я увидел, что это согласуется с их цветной одеждой, хрупким, изящным сложением и нежными чертами лица. Я почувствовал разочарование и на мгновение подумал, что напрасно трудился над своей Машиной Времени.
Кивнув головой, я указал на солнце и так искусно изобразил гром, что все они отскочили от меня на шаг или два и присели от страха… Но тотчас снова ободрились, и один из них, смеясь, подошел ко мне, держа в руке гирлянду чудных и совершенно незнакомых мне цветов. Он обвил ими мою шею под одобрение остальных. Все они принялись рвать цветы и, смеясь, обвивать их вокруг меня, пока наконец я не стал задыхаться от благоухания.
Вы, никогда не видевшие ничего подобного, вряд ли можете представить себе, какие чудесные и нежные цветы создала культура невообразимо громадного числа лет. Кто-то из них подал мысль выставить меня в таком виде в ближайшем общественном здании, и они повели меня к высокому серому с растрескавшимися камнями дворцу, мимо Сфинкса из белого мрамора, который, казалось, все время с легкой усмешкой смотрел на мое изумление. Идя с ними, я вспомнил с неудержимым припадком веселости, как самоуверенно предсказывал вам несколько дней назад глубокую серьезность и разумность будущих поколений.
Здание, куда меня вели, имело огромный вход, да и все оно было колоссальных размеров. Я с интересом рассматривал огромную, все растущую толпу маленьких нежных людей и зияющий передо мной вход – темный и таинственный. Общее впечатление от окружающей природы было таково, как будто весь мир покрылся густой зарослью красивых кустов и цветов и имел вид давно запущенного, но все еще прекрасного сада. Я видел высокие стебли и нежные чаши странных белых цветов. Они были около фута в ширину, имели прозрачный восковой оттенок и росли в диком виде, разбросанные посреди разнообразных кустарников; в то время я не мог хорошенько исследовать их. Моя Машина Времени осталась без присмотра среди рододендронов.
Арка входной двери была чудесной резной работы, но, конечно, я не успел ее внимательно рассмотреть. Когда я проходил под ней, мне показалось, что она была в старофиникийском стиле, и меня поразило, что резьба была сильно попорчена и стерта от времени.
Под мелодичные взрывы смеха и веселые разговоры меня встретило на пороге несколько фигур, одетых в еще более светлые одежды, и я вошел к ним в своем неподходящем темном одеянии девятнадцатого века. Я не мог не чувствовать, что вид у меня был довольно забавный. Я стоял весь увешанный гирляндами цветов и окруженный волнующейся толпой, одетой в светлые, мягко окрашенные одежды и сверкающей белизной своих обнаженных рук, смеющейся и мелодично воркующей.
Большая дверь вела в огромный коричневый зал. Потолок его оставался в тени, а в окна, сделанные из ярких цветных, частично выбитых стекол, вливался мягкий, приятный свет. Пол зала состоял из огромных плит какого-то очень твердого белого металла: шаги бесчисленных поколений даже в этом металле выбили местами глубокие колеи. Среди зала стояло множество низких столов, сделанных из глыб полированного камня, высотою не больше фута, – на них лежали груды плодов. В некоторых я узнал что-то вроде гипертрофированной малины, другие были похожи на апельсины, но большая часть была мне совершенно неизвестна.
Между столами было разбросано множество мягких подушек. Мои проводники расселись на них и знаками указали мне мое место. С милой непринужденностью они принялись есть плоды прямо руками и бросать шелуху и остатки в круглые отверстия по бокам столов. Я не заставил себя долго просить, так как чувствовал сильный голод и жажду. Утолив их немного, я принялся осматривать зал.
Меня особенно поразил его обветшалый вид. Цветные оконные стекла, представлявшие простые геометрические фигуры, во многих местах были разбиты, а тяжелые занавеси обветшали и были покрыты густым слоем пыли. Мне также бросилось в глаза, что угол мраморного стола, за которым я сидел, был отбит. Несмотря на это, зал был удивительно богат и живописен. В нем находилось, может быть, около двухсот человек, и большинство из них теснилось вокруг меня. Их глаза весело блестели и белые зубки изящно трудились над уничтожением плодов. Все они были одеты в очень мягкие, но прочные шелковистые ткани.
Фрукты были их единственной пищей. Эти люди отдаленного будущего были строгими вегетарианцами, и на время жизни у них я принужден был сделаться таким же травоядным, несмотря на свою потребность в мясе. Впоследствии я узнал, что лошади, рогатый скот, овцы, собаки уже вымерли в это время, как вымерли когда-то ихтиозавры. Однако плоды были восхитительны, в особенности один сорт (сезон которого, по-видимому, длился все время моего пребывания) с мучнистой мякотью в трехгранной скорлупе. Он сделался моей главной пищей. Я был сильно поражен удивительными плодами и чудесными цветами, но не знал, кто их приносит: только позднее я начал это понимать.
Таков был мой первый фруктовый обед в отдаленном будущем. Как только я немного насытился, я решил сделать попытку научиться языку новых для меня людей. Ясно, что это было необходимо. Плоды показались мне достаточно подходящим предметом для начала изучения, и, взяв один из них, я постарался объясниться при помощи ряда вопросительных звуков и жестов. Мне стоило значительного труда заставить меня понять. Сначала все мои слова и жесты вызывали изумленные взгляды и бесконечные взрывы смеха, но вдруг одно белокурое существо, казалось, поняло мое намерение и несколько раз повторило какое-то слово. Они принялись болтать и объясняться друг с другом, и все наперебой начали весело обучать меня своему языку. Но мои первые попытки повторить изящные короткие слоги их слов вызывали новые взрывы их неподдельного веселья. Несмотря на то что я брал у них уроки, я все-таки чувствовал себя как школьный учитель в кругу детей. Упорствуя в начатом, я скоро заучил десятка два имен существительных, а затем дошел до указательных местоимений и даже до глагола «есть». Но это была трудная работа, быстро наскучившая маленьким созданиям, и я почувствовал, что они избегают моих вопросов. По необходимости пришлось получать уроки маленькими дозами и только тогда, когда мои новые знакомые сами этого желали. Скоро я заметил, как малы были посильные для них дозы: я никогда не встречал более беспечных и так быстро утомляющихся людей.
Всего более поразило меня в этом новом мире почти полное отсутствие любознательности у людей. Они, как дети, подбегали ко мне с криками изумления и, быстро оглядев меня, снова уходили в поисках какой-нибудь новой игрушки. Когда обед и мои расспросы кончились, я впервые обратил внимание на то, что в зале уже не было почти никого из тех, которые окружали меня вначале. И, как это ни странно, я сам быстро почувствовал равнодушие к этому маленькому народу. Утолив голод, я миновал портал и вышел на яркий солнечный свет. Мне всюду попадалось на пути множество таких же маленьких людей будущего. Они недолго следовали за мной, смеясь и переговариваясь, а потом, перестав смеяться, предоставляли меня самому себе.
Когда я вышел из зала, в воздухе уже разлилась вечерняя тишина и весь окружающий ландшафт был окрашен теплыми лучами заходящего солнца. Здесь все казалось удивительно странным. Все окружающее так не походило на тот мир, который я знал, – все, вплоть до цветов. Огромное здание, из которого я вышел, находилось на склоне большой речной долины, но Темза, по меньшей мере, на милю изменила свое теперешнее русло. Я решил добраться до вершины холма, лежащего от меня на расстоянии примерно полутора миль, чтобы с его высоты поглядеть на нашу планету в 802701 году, – именно эту дату показывал циферблат моей Машины.
По дороге я искал хоть что-нибудь, что помогло бы мне объяснить то состояние разрушающегося великолепия, в каком я нашел мир, так как это великолепие было, несомненно, разрушающимся. Немного вверх по холму находились огромные груды гранита, скрепленные полосами алюминия, огромный лабиринт отвесных стен и расколовшихся на мелкие куски камней, между которыми густо росло удивительно красивое растение. Возможно, что это была крапива, но ее листья были окрашены в чудный коричневый цвет и не были жгучими, как у современной крапивы. Вблизи были заброшенные руины какого-то огромного здания, неизвестно для чего предназначенного. Здесь мне пришлось впоследствии сделать одно странное открытие, но об этом я вам расскажу потом.
Сев на склон холма, где я решил немного отдохнуть, и оглядевшись вокруг, я увидел, что нигде не видно маленьких домов. По-видимому, частный дом и частное хозяйство окончательно исчезли. То тут, то там среди зелени виднелись огромные здания, похожие на дворцы, но нигде не было тех домиков и коттеджей, которые так характерны для современного английского пейзажа.
«Коммунизм», – сказал я сам себе.
А следом за этой мыслью возникла и другая.
Я взглянул на маленьких людей, которые следовали за мной. Внезапно я заметил, что на всех была почти одинаковая одежда разных светлых цветов, но одинакового покроя, у всех те же самые безбородые лица, та же девичья округленность членов. Может показаться странным, что я не заметил этого раньше, – но все вокруг меня было так необычно. Теперь это бросилось мне в глаза. Мужчины и женщины будущего не отличались друг от друга ни костюмом, ни телосложением, ни манерами, одним словом – ничем, что теперь отличает один пол от другого. И дети, казалось, были просто миниатюрными копиями своих родителей. Поэтому я решил, что дети этого времени отличались удивительно ранним развитием, по крайней мере в физическом отношении, и это мое мнение подтвердилось впоследствии множеством доказательств.
При виде довольства и безопасности, в которой жили люди, полное сходство полов мне стало вполне понятно. Сила мужчины и нежность женщины, семья и дифференциация отраслей труда являются только жестокой необходимостью века, управляемого физической силой. Но там, где народонаселение достигло равновесия, где насилие – редкое явление и о потомстве заботится государство, является меньшая необходимость, даже нет никакой необходимости в существовании семьи. А вместе с тем и разделение полов, вызванное жизнью и потребностью воспитания детей, неизбежно исчезает.
Начало этого явления замечается и в наше время, а в том отдаленном будущем оно уже было вполне закончено. Таковы были мои тогдашние выводы. Позднее я имел возможность убедиться, насколько они были далеки от действительности.
Размышляя об этом, я невольно обратил внимание на хорошенькую маленькую постройку, похожую на колодец, прикрытый куполом. У меня на мгновение мелькнула мысль: как это странно, что до сих пор существуют колодцы, но затем я снова погрузился в свои размышления. На всем пути к вершине холма не было никаких других больших зданий, и, продолжая идти, я скоро очутился один, так как моя походка была для окружающих невероятно быстрой. С чувством свободы и своего необыкновенного положения я направился к вершине холма.
Дойдя до вершины, я увидел скамью из какого-то желтого незнакомого металла; в некоторых местах она была разъедена чем-то вроде красноватой ржавчины и наполовину скрыта в мягком мхе; ручки ее, сделанные в виде голов грифонов, были поломаны. Я сел и принялся смотреть на широкий простор окружающего мира, освещенного лучами догоравшего дня.
Картина была небывалой красоты. Солнце только что скрылось за горизонтом; запад горел золотом вечерней зари, по которой горизонтально тянулись легкие пурпурные и малиновые полосы. Внизу расстилалась долина, по которой, подобно струе блестящей стали, дугою текла Темза. Большие старые дворцы, о которых я уже говорил, были разбросаны всюду посреди разнообразной зелени; некоторые представляли уже руины, другие были еще обитаемы. Тут и там, в обширном саду земли, виднелись белые или серебристые изваяния; тут и там подымались кверху острые вертикальные линии куполов и обелисков. Нигде не было никаких изгородей, не было даже и следов собственности и никаких признаков земледелия; вся земля превратилась в один цветущий сад.
Наблюдая таким образом, я старался объяснить себе все, что видел, и вот в каких формах вылились в тот вечер мои размышления. (Позже я убедился, что они были односторонними и содержали лишь половину правды.)
Мне казалось, что я застал человечество в эпоху увядания. Красноватая полоса заката навела меня на мысль о закате человечества. Я впервые увидел те неожиданные результаты, к которым привели общественные отношения нашего времени. Теперь я прихожу к убеждению, что это были вполне логические последствия. Сила есть только результат необходимости; безопасность ведет к слабости. Стремление к улучшению условий жизни – истинный прогресс цивилизации, приводящей все к большей и большей безопасности наше существование, – неизбежно должно привести к своему конечному результату. Объединенное человечество поколение за поколением торжествовало свои победы над природой. Вещи, которые в наши дни являются одними мечтами, превратились в искусно задуманные и приведенные в исполнение проекты.
И вот какова оказалась жатва!
Современное оздоровление человечества и современное земледелие находятся еще в зачаточном состоянии. Наука нашего времени объявила войну лишь малой части человеческих бедствий, но она неизменно и упорно продолжает свою работу. Земледельцы и садоводы уничтожают то тут, то там ненужные растения и возделывают лишь немногие полезные растения, предоставляя остальным бороться как хотят за свое существование. Мы улучшаем излюбленные нами немногие виды растений и животных путем постепенного отбора лучших из них; мы разводим то новый, лучший, сорт персика, то виноград без зерен; более душистый и более крупный цветок; более пригодную породу рогатого скота. Мы улучшаем их постепенно, наудачу, потому что наши представления об их идеальном совершенстве смутны и вырабатываются путем опыта, а наши знания крайне ограниченны, да и сама природа робка и неповоротлива в наших неуклюжих руках.
Когда-нибудь все это будет организовано лучше. Несмотря на свои приливы и отливы, поток времени все стремится вперед. Весь мир когда-нибудь станет разумным, образованным, коллективно трудящимся; все поведет к быстрейшему и полнейшему подчинению природы. В конце концов мы мудро и заботливо установим равновесие животной и растительной жизни для удовлетворения наших собственных человеческих потребностей.
Это окончательное приспособление условий действительно и совершилось в тот промежуток времени, через который промчалась моя Машина. Воздух освободился от комаров и мошек, земля – от сорных трав и плесени. Повсюду появились сочные плоды и душистые очаровательные цветы; ярко окрашенные бабочки стали летать повсюду. Идеал профилактической медицины был достигнут. Болезнетворные микробы были уничтожены. За время своего пребывания я не видел даже и следов заразных болезней. Благодаря этим изменениям даже процессы гниения и разрушения приняли совершенно новый вид.
В общественных отношениях тоже была одержана большая победа. Я видел, что люди стали жить в великолепных дворцах, одеваться в роскошные одежды и освободились от всякого труда. Не было и следов борьбы как политической, так и социальной. Торговля, промышленность и все, что составляет основу нашей государственной жизни, исчезло из этого мира Будущего.
Было вполне естественно, что в тот вечер золотистого заката я невольно сравнивал окружающий меня мир с социальным раем. Неудобства перенаселения исчезли, так как население перестало увеличиваться.
Но с изменением условий неизбежно связывается и приспособление к этим изменениям. Что является побудительной причиной человеческого ума и силы, если только биология не представляет собой бесконечного ряда заблуждений? Только труд и свобода; такие условия, при которых деятельный, сильный и ловкий переживает слабого, а слабый встречает непроходимую стену на своем пути в будущее; условия, дающие перевес честному союзу талантливых людей, перевес умению себя сдерживать, терпению и решительности.
Семья и возникающий отсюда ряд чувств: дикая ревность, нежность к потомству, родительское самоотвержение – все это находит в себе оправдание и поддержку в неизбежных опасностях, которым подвергается молодое поколение. А теперь где эти опасности?
Уже начинает проявляться протест против чувства супружеской ревности, против слепого материнского чувства, против всевозможного рода страстей; и этот протест будет все более и более усиливаться. Все эти чувства даже и теперь уже не являются необходимыми, они делают нас несчастными и, как остатки первобытной дикости, кажутся несовместимыми с приятной и утонченной жизнью.
Я стал думать о физической слабости маленьких людей, об отсутствии у них умственной деятельности и об огромных окружающих меня развалинах: все это подтвердило мое предположение об окончательной победе, одержанной их предками над природой. После Борьбы наступил Покой.
Человечество было сильным, энергичным и знающим; люди употребили все свои силы на изменение возникших условий. А теперь измененные ими условия уже произвели свое действие на их потомков.
При новых условиях абсолютного довольства и обеспеченности беспокойная энергия, являющаяся в наше время силой, должна была превратиться в слабость. Даже и в наши дни некоторые склонности и желания, когда-то необходимые для сохранения человека, являются источником его гибели. Физическая храбрость и воинственность не помогают, а скорее даже мешают жизни цивилизованного человека. В государстве, основанном на физическом равновесии и обеспеченности, превосходство – физическое или умственное – было бы совершенно неуместно. Я пришел к заключению, что в продолжение бесчисленных лет на земле не существовало опасности ни от войны, ни от насилия, ни от диких зверей, ни от болезнетворных микробов, не существовало и необходимости в труде.
В этой жизни те, кого мы называем слабыми, были точно так же приспособлены, как и сильные, и уже не были слабыми. Они были даже лучше приспособлены, потому что сильного подтачивала его не имеющая выхода энергия. Не было сомнения, что удивительная красота виденных мною зданий являлась доказательством последних усилий энергии человечества перед тем, как оно достигло полной гармонии всех условий жизни, – это был последний росчерк той победы, после которой был заключен окончательный мир.
Такова неизбежная судьба всякой энергии. Достигнув своей последней цели, она еще ищет выхода в искусстве, в любви, а затем наступает бессилие и упадок.
Даже и эти артистические и моральные стремления в конце концов должны заглохнуть, – и они почти что заглохли в то Время, в котором я находился. Украшать себя цветами, танцевать и петь при солнечном свете – вот что осталось от артистического стремления, и это было все. Но и это в конце концов должно было выродиться в бездействие. Все наши чувства и способности изощряются только на точиле труда и необходимости, а это неприятное точило было наконец разбито.
Пока я стоял в сгущавшейся вокруг меня темноте, мне казалось, что этим простым объяснением я разрешил окончательную загадку мира и понял весь секрет этого очаровательного народа. Возможно, что средства для прекращения прироста населения оказались удачными, и число людей скорее уменьшалось, чем оставалось на постоянном уровне. Это объясняло пустоту стольких заброшенных дворцов…
Моя теория была достаточно ясна и достаточно правдоподобна, – как и большая часть всех ложных теорий!
Пока я стоял, размышляя над этим слишком полным торжеством человека, из-за серебристой полосы на северо-востоке выплыла желтая, выпуклая, полная луна. Маленькие светлые фигурки праздных людей перестали двигаться внизу, и меня тоже охватил холодный воздух ночи. Я решил спуститься с холма и поискать ночлега.
Я оглянулся назад, ища знакомое мне здание. Мои глаза упали на фигуру Белого Сфинкса на бронзовом пьедестале, и по мере того как свет восходящей луны становился ярче, его фигура выступала все яснее. Я мог отчетливо рассмотреть стоящий около него серебристый тополь. Вот и густые кусты рододендронов, черные при свете луны, вот и небольшая лужайка. Я еще раз взглянул на нее. Ужасное предчувствие закралось в мою душу.
«Нет, – решительно сказал я себе, – это не та лужайка».
Но это была та лужайка. Бледное, как бы изрытое проказой лицо Сфинкса было обращено к ней. Можете ли вы представить себе, что я почувствовал, когда убедился в этом окончательно! Машина Времени исчезла!
Как удар кнутом по лицу, меня обожгла мысль о возможности навсегда утратить свой собственный век, остаться беспомощным в этом новом и неведомом для меня мире! Эта мысль давала ощущение физического страдания. Я чувствовал, как сжалось мое горло и остановилось дыхание. В следующее мгновение ужасный страх овладел мною, и дикими прыжками я кинулся бежать вниз по откосу. Раз я упал и расшиб лицо; не теряя времени на то, чтобы остановить кровь, вскочил на ноги и продолжал бежать, чувствуя, как теплая струйка стекает вдоль щеки. Я бежал и не переставал твердить себе: «Они немного отодвинули ее, поставили под кустами, чтобы она не мешала на дороге». Но, несмотря на это, бежал изо всех сил.
С уверенностью, которая иногда рождается из самого мучительного страха, я все это время знал, что мое предположение безумно: инстинкт подсказывал, что Машина унесена куда-то, откуда ее нельзя достать. Я с трудом переводил дыхание. Расстояние от вершины холма до лужайки, составляющее около двух миль, было мною преодолено за десять минут. А ведь я не молодой человек. Я бежал и проклинал свое доверчивое безрассудство, побудившее меня оставить Машину, – это еще больше затрудняло мое дыхание. Попробовал громко кричать, но никто не отвечал мне. Казалось, ни одно живое существо не шевелится на залитой лунным светом земле!
Когда я добежал до лужайки, мои худшие опасения подтвердились: нигде не было видно и следа Машины. С холодом в сердце я смотрел на пустое место посреди черной чащи кустарников, потом быстро обежал его, как будто бы Машина могла быть спрятана где-нибудь в углу, и затем сразу остановился, схватив себя за голову.
Надо мной на бронзовом пьедестале возвышался Сфинкс, по-прежнему бледный, как будто изрытый проказой, но ярко озаренный светом восходящей луны. Казалось, он насмешливо улыбался, глядя на меня.
Я мог бы утешить себя мыслью, что маленький народец спрятал Машину под каким-нибудь навесом, если бы не был так уверен в их физической и умственной несостоятельности. Нет, меня ужасало теперь другое: здесь было проявление какой-то новой, до сих пор неведомой мне силы, захватившей мое изобретение. Я был уверен только в одном: если какой-либо другой век не изобрел точно такого же прибора, моя Машина не могла без меня отправиться путешествовать по Времени. Способ прикрепления рычагов, – я после покажу вам, в чем он заключается, – не позволял никому воспользоваться ею для путешествия. К тому же рычаги были у меня. Моя Машина была перенесена, спрятана где-то в Пространстве. Но где же она могла быть спрятана?
Я совершенно обезумел. Помню свои неистовые метания взад и вперед посреди освещенных лунным светом кустов, вокруг Сфинкса, помню, как вспугнул какое-то белое животное, которое при смутном свете мне показалось небольшой ланью. Помню также, как поздно ночью я колотил кулаками по кустам до тех пор, пока от сломанных сучьев руки не покрылись кровью и ранами. Затем, рыдая, в полном изнеможении от охватившего меня отчаяния я направился вниз к большому каменному зданию, поскользнулся на неровном полу и упал на один из малахитовых столов, чуть не сломав себе ногу, потом зажег спичку и пошел дальше, мимо пыльных занавесей, о которых я уже рассказывал вам.
Там, дальше, находился второй большой зал, устланный подушками, на которых спали около двадцати маленьких людей. Без сомнения, мое второе появление показалось им очень странным. Я так внезапно вынырнул перед ними в ночной тишине с моими нечленораздельными криками отчаяния и зажженной спичкой в руке. Спички были уже позабыты в это Время.
«Где моя Машина Времени?» – кричал я во все горло, как рассерженный ребенок. Я хватал их с подушек и встряхивал полусонных. Вероятно, это их очень поразило. Некоторые из них смеялись, но большинство казались сильно испуганными. Когда я увидел их, испуганно собравшихся вокруг меня, я понял, что поступаю самым безрассудным образом, стараясь пробудить в них страх. Вспоминая их поведение днем, я мог заключить, что это чувство совершенно ими позабыто.
Внезапно бросив спичку и свалив с ног кого-то попавшегося на пути, я снова ощупью прошел по большому обеденному залу и вышел на лунный свет. Позади меня вдруг раздались крики ужаса и топот маленьких ножек, бегущих и спотыкающихся, но тогда я не понял причины этого. Не помню всего, что я делал тогда при лунном свете. Неожиданная потеря довела меня до безумия. Я чувствовал себя теперь безнадежно отрезанным от своих современников, каким-то странным животным в неведомом мире. В исступлении я бросался в разные стороны, плача и проклиная Бога и судьбу. Помню, как я истомился в эту длинную ночь отчаяния, как беспорядочно осматривал разные неподходящие места, как ощупью пробирался посреди освещенных лунным светом развалин, натыкаясь в темных углах на странные белые существа; помню, как в конце концов упал на землю около Сфинкса и рыдал в отчаянии. Вместе с силами исчезла и злость на себя за то, что я так безрассудно оставил Машину… Я ничего не чувствовал, кроме своего несчастья… Потом незаметно уснул, а когда проснулся, уже совсем рассвело и вокруг меня по траве, на расстоянии протянутой руки, весело и без страха прыгала пара воробьев.
Я сел, обвеваемый свежестью утра, стараясь вспомнить, как сюда попал и почему все мое существо полно чувством одиночества и отчаяния. Вдруг я вспомнил обо всем, что случилось. Но при дневном свете у меня хватило сил спокойно взглянуть в лицо новым обстоятельствам. Я увидел всю нелепость своего вчерашнего безумия и принялся рассуждать сам с собою.
«Предположим самое худшее, – говорил я. – Предположим, что Машина навсегда утеряна, может быть, даже уничтожена. Из этого следует только то, что я должен быть терпеливым и спокойным, изучить образ жизни этих людей, разузнать о причине своей потери, разузнать, нельзя ли найти нужные мне материалы и инструменты; в конце концов я, может быть, смогу сделать и новую Машину. Это остается теперь моей единственной надеждой, правда, очень слабой, – но все же надежда лучше отчаяния. Во всяком случае, я нахожусь в прекрасном и любопытном мире.
Очень вероятно, что моя Машина куда-нибудь запрятана. Значит, я должен оставаться спокойным и терпеливым, отыскать то место, где она спрятана, и постараться добыть ее силой или хитростью».
С такими мыслями я вскочил на ноги и осмотрелся кругом, ища, где бы можно было выкупаться. Я чувствовал себя усталым, мое тело одеревенело и было грязно. Утренняя свежесть вызывала во мне желание стать чистым и свежим. Волнение истощило меня. Когда я принялся размышлять о своем положении, то изумился своему вчерашнему чрезмерному возбуждению.
Я тщательно исследовал поверхность земли на маленькой лужайке. Некоторое время ушло на напрасные расспросы проходивших мимо меня маленьких людей, насколько это было для меня возможно. Никто не понимал моих жестов: одни казались тупыми, другие принимали мои слова за шутку и смеялись. Мне стоило невероятных усилий удержаться и не отхлестать их по прелестным смеющимся лицам. Безумное побуждение! Но сидевший во мне дьявол страха и слепого раздражения еще не был обуздан и пытался взять верх надо мною.
Большую помощь оказала мне трава, густо покрывающая землю. На полпути между пьедесталом Сфинкса и следами моих ног, там, где по прибытии я возился с опрокинутой Машиной, на земле оказалась свежая колея. Здесь были видны и другие признаки передвижения: странные узкие следы ног, похожие, как мне казалось, на следы ленивцев. Это побудило меня произвести более тщательный осмотр пьедестала. Я уже, кажется, сказал, что он был из бронзы. Сделанный не из цельной глыбы, он был с обеих сторон причудливо разукрашен искусно выполненными панелями. Я подошел и постучал. Пьедестал оказался полым. Тщательно исследовав панели, я понял, что они не составляют одного целого с корпусом пьедестала. На них не было ни дверных ручек, ни замочных скважин, но возможно, что они открывались изнутри, если, как я предполагал, служили дверями во внутренность пьедестала. Во всяком случае, одно было для меня достаточно ясно: Машина Времени находилась внутри пьедестала. Но как она попала туда – это оставалось загадкой.
Я увидел головы двух людей, одетых в оранжевые платья и шедших между кустарниками и цветущими яблонями ко мне. Улыбаясь, я повернулся к ним и поманил их рукою. Когда они подошли ко мне, я указал им на бронзовый пьедестал и постарался объяснить свое желание открыть его. Но при первом же моем жесте по направлению к пьедесталу они стали вести себя очень странно. Не знаю, сумею ли я передать вам выражение, появившееся на их лицах. Представьте себе, что вы сделали бы неприличный жест перед деликатно воспитанной дамой, – так посмотрела бы она на вас. Они ушли с таким видом, как если б получили грубое оскорбление. Я попытался затем подозвать к себе миловидное существо в белой одежде, но результат оказался тот же самый. Мне стало стыдно. Но Машина Времени была мне совершенно необходима, и я сделал новую попытку. И третий прохожий с отвращением отвернулся от меня, как и другие. Я окончательно вышел из себя. В три прыжка я очутился около него и, обвив его шею полою платья, принялся тащить его по направлению к Сфинксу. Но на его лице вдруг выразились такой ужас и отвращение, что я тотчас же выпустил его.
Однако я еще не сдавался. Я принялся бить кулаками по бронзовым панелям. Мне показалось, что внутри что-то зашевелилось, – скорее, это был звук, подобный хихиканью, но, должно быть, мне показалось. Достав на берегу реки огромный булыжник, я вернулся и принялся колотить им до тех пор, пока не расплющил одно из украшений и медная зелень не стала сыпаться на землю мелкими клочьями.
Нежный маленький народец должен был слышать ужасный грохот моих ударов на расстоянии мили во все стороны, но ничего из этого не вышло. Я видел целую толпу на склоне холма, украдкой смотревшую на меня. Разгоряченный и усталый, я опустился на землю, но был слишком нетерпелив, чтобы долго сидеть на одном месте, и был слишком деятельным человеком для неопределенного ожидания. Я был в состоянии годами трудиться над разрешением какой-нибудь задачи, но сидеть в бездействии двадцать четыре часа было свыше моих сил.
Скоро я встал и принялся бесцельно бродить по кустарникам. Потом направился к холму.
«Терпение, – сказал я себе. – Если ты хочешь вновь получить свою Машину, то оставь Сфинкса в покое. Если кто-то хочет отнять ее у тебя, ты не принесешь себе пользы тем, что станешь портить бронзовые панели Сфинкса; если же у него нет злого намерения, ты получишь ее обратно, как только сумеешь попросить об этом. Бессмысленно метаться среди незнакомых тебе предметов, становясь в тупик перед каждым новым затруднением. Это прямой путь к безумию. Осмотрись лучше вокруг себя. Изучи нравы этого мира, наблюдай его, остерегайся слишком поспешных заключений! В конце концов ты найдешь ключ ко всему!»
Мне ясно представлялась также и комическая сторона моего приключения: я подумал о годах, проведенных в изучении и работе только для того, чтобы попасть в будущее и изучить его, и сопоставил с этим свое теперешнее нетерпение поскорее выбраться назад. Я своими руками изготовил себе самую сложную и самую безнадежную ловушку, какая когда-либо могла быть создана человеком. И хотя приходилось смеяться только над самим собой, но я не мог удержаться и громко расхохотался.
Войдя в залу большого дворца, я заметил, что маленькие люди стали избегать меня. Быть может, это мне только казалось, но их отчуждение могло иметь связь с моей попыткой разбить бронзовые двери. Я ясно чувствовал, что они избегали меня, но постарался не придавать этому значения и не пытался более заговаривать с ними. Через день или два все вошло в обычную колею. Насколько было возможно, я продолжал изучать их язык и вдобавок урывками производил свои исследования. Не знаю, был ли их язык слишком прост, или же я упускал в нем из виду какие-нибудь тонкие оттенки, но он почти исключительно состоял из имен существительных и глаголов. Отвлеченных терминов было мало, или, скорее, совсем не было, так же как и образных выражений. Фразы их были обыкновенно несложны и состояли только из двух слов. Мне не удавалось схватить или понять ничего, кроме простейших вопросов и ответов. Мысли о моей Машине Времени и о тайне бронзовых дверей под Сфинксом я решил запрятать в самый дальний уголок своей памяти, пока накопившиеся познания не приведут меня к ним естественным путем. Но какое-то, без сомнения, понятное вам чувство все время удерживало меня вблизи от места моего прибытия.
Насколько я мог судить, на всем окружающем меня мире лежала та же печать изобилия и роскоши, которая поразила меня в долине Темзы. С вершины каждого нового холма я видел множество великолепных зданий, бесконечно разнообразных по материалу и стилю; я видел всюду те же разбросанные чащи вечнозеленых растений, те же цветущие деревья и высокие папоротники. То тут, то там отливала серебром зеркальная гладь воды, а вдали голубоватой полосой тянулись волнистые гряды холмов и исчезали в прозрачной синеве воздуха.
Странной особенностью ландшафта, которая еще с первого раза привлекла к себе мое внимание, были круглые колодцы, достигавшие, казалось, во многих местах очень большой глубины. Один из них находился на тропинке к вершине холма, по которой я поднимался во время своей первой прогулки. Как и прочие колодцы, он был причудливо отделан по краям бронзой и защищен от дождя небольшим куполом. Сидя около этих колодцев и смотря вниз, в непроглядную темноту, я не мог заметить в них никакого отблеска воды или отражения зажигаемых мною спичек. Но во всех них слышался какой-то шум: «тук, тук, тук», напоминавший работу огромных машин. По колебанию пламени спички я убедился, что в глубь колодца поступал постоянный приток свежего воздуха. Потом я бросил в отверстие одного из них кусочек бумаги, и, вместо того чтобы медленно опуститься, он быстро понесся вниз и исчез.
Скоро я заметил, что между этими колодцами и высокими башнями по склонам холмов существует связь. Над ними можно было часто заметить колебания воздуха, вроде того, какое бывает в жаркий день над знойным берегом моря. Связав все это вместе, я пришел к заключению, что башни вместе с колодцами служили системой какой-то загадочной подземной вентиляции. Сначала я подумал, что они имеют какое-нибудь санитарное назначение. Это заключение невольно приходило в голову, но оказалось потом неверным.
Вообще следует сознаться, что во время своего пребывания в этом реальном будущем я узнал очень мало относительно водоснабжения, связи, путей сообщения и тому подобных жизненных удобств. Во всех прочитанных мною до сих пор утопиях и рассказах о Грядущих Временах я всегда находил огромное количество деталей, касающихся зданий, общественного устройства и тому подобного. Очень легко создать сколько угодно всяких деталей, когда весь будущий мир находится только в голове автора, но для путешественника, находившегося, подобно мне, в незнакомой действительности, почти совершенно невозможно узнать обо всем этом в короткое время.
Вообразите себе негра, который прямо из Центральной Африки попал в Лондон. Что расскажет он по возвращении своему племени? Что будет он знать о железнодорожных компаниях, общественных движениях, телефонах и телеграфах, транспортных конторах и почтовых учреждениях? Ровно ничего, если мы сами не пожелаем объяснить ему! И даже то, что он узнает из наших рассказов, как передаст он это своим не путешествовавшим друзьям? Насколько они поймут его и поверят этому? Однако негр сравнительно недалеко отстоит от белого человека нашего времени, между тем как промежуток между мною и этими людьми Золотого Века был невообразимо громаден! Я допускал существование многого, что было невидимо, но служило для общего комфорта. Помимо общего впечатления какой-то автоматически действующей организации, я, к сожалению, могу рассказать вам лишь очень немногое.
Я нигде не видел никаких следов крематория или чего-либо подобного, говорящего о смерти. Однако было весьма возможно, что существовали кладбища (или крематории) где-нибудь за пределами моих странствий. Это был один из тех вопросов, которые сразу возникли передо мною и разрешить которые я совершенно не был в состоянии в первые дни моего пребывания. Это отсутствие кладбищ меня поразило и повело к дальнейшим наблюдениям, которые поразили меня еще сильнее: среди людей будущего совершенно не было старых и дряхлых.
Я должен сознаться, что мои первоначальные теории об автоматически действующей цивилизации и о приходящем в упадок человечестве недолго удовлетворяли меня. Но я не мог придумать ничего другого. Вот каковы были мои затруднения: все большие дворцы, которые я исследовал, служили исключительно жилыми помещениями – огромными столовыми и спальнями. Я не видел нигде никаких машин или других подобных приспособлений. А между тем эти люди были одеты в прекрасно выделанные платья, требовавшие по временам перемены, и их сандалии, хотя и без всяких украшений, представляли собой образец прекрасных и сложных металлических изделий. Как бы то ни было, но вещи эти нужно было сделать. А маленький народец не проявлял никаких творческих наклонностей. У них не было ни лавок, ни мастерских, ни малейших следов ввоза товаров. Все свое время они проводили в играх, купании в реке, в полушутливом флирте, еде и сне. Я не мог постичь, на что опирался подобный общественный строй.
Точно так же с Машиной Времени: что-то мне неведомое спрятало ее в пустом пьедестале Белого Сфинкса. Для чего? Я не мог бы ответить на этот вопрос! Так же, как и относительно безводных колодцев и башен с колеблющимся над ними воздухом. Я чувствовал, что не находил ключа к этим загадочным предметам. Я чувствовал… как бы мне это объяснить вам? Представьте себе, что вы нашли бы надпись с отдельными фразами на хорошем английском языке, и вдруг эти фразы оказались бы перемешаны с другими, составленными из слов и букв, вам совершенно незнакомых? Вот как на третий день моего пребывания представлялся мне мир в 802701 году!
В этот день я приобрел себе в некотором роде друга. Когда я смотрел на группу маленьких людей, купавшихся в неглубоком месте реки, с кем-то из них случилась судорога и его стало уносить вниз по течению реки. Течение было здесь довольно быстрое, но даже средний пловец мог бы легко с ним справиться. Чтобы дать вам маленькое понятие о странной психике этих созданий, я укажу вам лишь на то, что никто из них не сделал ни малейшей попытки спасти кричавшую бедняжку, которая тонула на их глазах. Увидя это, я быстро разделся, побежал вниз по течению и, войдя в воду, схватил ее на руки и легко вытащил на берег. Маленькое растирание привело ее в чувство, и я имел удовольствие видеть, как она совершенно оправилась, прежде чем я ее оставил. Я был такого невысокого мнения о ней и ей подобных, что не ожидал за мою помощь никакой благодарности. Но в этот раз я ошибся.
Все это случилось утром. После полудня я снова встретил эту маленькую женщину, возвращаясь после своих исследований. Она подбежала ко мне с криками радости и поднесла мне огромную гирлянду цветов, очевидно, приготовленную специально для меня.
Это маленькое создание очень заинтересовало меня. Очень возможно, что я чувствовал себя слишком одиноким. Но как бы то ни было, я, насколько сумел, высказал ей свое удовольствие по поводу подарка. Мы оба сидели в небольшой каменной беседке, занятые разговором, состоящим преимущественно из улыбок. Расположение ко мне маленького создания радовало меня, как радовало бы расположение ребенка. Мы обменялись цветами, и она целовала мои руки. Я отвечал ей тем же. Когда я попробовал заговорить, то узнал, что ее зовут Уиной, и хотя не понимал, что это значило, но все же чувствовал, что между ней и ее именем было какое-то соответствие. Таково было начало нашей странной дружбы, которая продолжалась неделю, а как окончилась – расскажу вам потом!
Уина была совершенно как ребенок. Ей хотелось всегда быть со мной. Она бегала за мной повсюду, так что на следующий день мне пришло в голову нелепое желание утомить ее и наконец оставить одну, не обращая внимания на ее жалобный зов. Мировая проблема, думал я, должна быть решена. Я не для того попал в будущее, повторял я сам себе, чтобы заниматься миниатюрным флиртом. Однако ее отчаяние было слишком велико, а ее жалобы, когда она начала отставать, дошли до исступления. Ее привязанность тронула меня, я возвратился, и с этих пор она стала доставлять мне столько же заботы, сколько и удовольствия. Все же она была для меня большим утешением. Мне казалось сначала, что у нее ко мне была лишь простая детская привязанность, и только потом, когда уже было слишком поздно, я ясно понял, чем я сделался для нее и чем стала она для меня. Уже одним тем, что она выказывала любовь и заботливость, это маленькое кукольное существо вызывало во мне при возвращениях в окрестности Белого Сфинкса как бы ощущение возвращения домой, и каждый раз, достигнув вершины холма, я принимался отыскивать глазами знакомую фигурку в белой, окаймленной золотом одежде.
От нее я узнал, что чувство страха все еще не исчезло в этом мире. Днем она ничего не боялась и чувствовала ко мне самое трогательное доверие. Однажды на меня напало глупое желание испугать ее страшными гримасами, но она весело смеялась. Она боялась только темноты, густых теней, черных предметов. Удивительно страшной казалась ей темнота. Она действовала на нее настолько сильно, что это навело меня на новые наблюдения и размышления. Я открыл, между прочим, что с наступлением темноты эти маленькие люди собирались в большие здания и спали все вместе. Войти к ним ночью – значило произвести среди них смятение и ужас. После наступления темноты я не видел никого, кто бы вышел на воздух или спал отдельно под открытым небом. Но я все еще был таким глупцом, что не обращал на это внимания и, несмотря на отчаяние Уины, продолжал спать один, не в общих спальнях.
Это сначала ужасно беспокоило ее, но наконец сильная привязанность ко мне взяла верх, и пять ночей во время нашего знакомства, считая и самую последнюю ночь, она спала со мной, положив голову на мое плечо. Но, говоря о ней, я отклоняюсь от главной темы своего рассказа.
Должно быть, это было в ночь, предшествующую ее спасению, – я проснулся на рассвете. Ночь прошла беспокойно, мне снился очень неприятный сон: будто бы я утонул в море, и морские анемоны касались моего лица мягкими щупальцами. Вздрогнув, я проснулся, и мне смутно почудилось, что какое-то сероватое животное выскользнуло из комнаты. Я пытался снова заснуть, но тревога и беспокойство уже овладели мною. Это был тот ранний час, когда предметы начинают только что выступать из окружающей темноты, когда все вокруг становится бесцветным и каким-то нереальным, несмотря на отчетливость очертаний. Я встал, прошел в большой зал и, продолжая идти по плитам, вышел на воздух перед дворцом. Желая извлечь хоть какую-нибудь пользу из этого случая, я решил посмотреть восход солнца.
Луна заходила. Ее последнее умирающее сияние и первые бледные проблески наступающего дня смешивались в один таинственный полусвет. Кусты казались чернильно-черными, земля – темно-серой, а небо – бесцветным и туманным. На верху холма мне почудились привидения. Подымаясь по его склону, я три раза видел какие-то белые фигуры. Два раза мне показалось, что я вижу какое-то одинокое, белое, обезьяноподобное существо, быстро бегущее на вершину холма, а один раз около руин я увидел их целую толпу: они уносили какой-то темный предмет. Они быстро двигались, и я не заметил, куда они исчезли. Казалось, что как будто они скрылись в кустах. Все вокруг было еще неясным. Меня всего охватило то неопределенное, предрассветное ощущение озноба, которое вам всем, вероятно, знакомо. Я не доверял своим глазам.
Когда на востоке показалась заря и лучи дневного света возвратили всему миру обычные краски и цвета, я тщательно обследовал местность. Но нигде не оказалось и следов моих белых фигур. По-видимому, это были просто тени.
«Вероятно, это привидения, – сказал я себе. – Желал бы я знать, какому времени они принадлежат…»
Я сказал это потому, что вспомнил забавный парадокс Гранта Аллена, говорившего, что если б каждое умирающее поколение оставляло после себя привидения, то в конце концов весь мир переполнился бы ими. По этой теории их должно было накопиться бесчисленное множество за восемьсот тысяч прошедших лет, и потому вовсе не было чудом, что я увидел сразу четырех. Эта шутливая мысль, однако, не успокоила меня, и в продолжение всего утра я думал о белых фигурах, пока наконец появление Уины не вытеснило их из моей головы. Каким-то смутным образом я связал их с белым животным, которое вспугнул при первых бешеных поисках своей машины. Приятное общество Уины на время отвлекло меня, но, несмотря на это, скоро белые фигуры всецело овладели моими мыслями.
Я уже говорил, что климат Золотого Века значительно теплее нашего. Причину я не берусь объяснить. Может быть, солнце стало теплее, а может быть, к нему приблизилась земля. Принято утверждать, что солнце постепенно охлаждается. Однако люди, незнакомые с некоторыми научными теориями, вроде теории младшего Дарвина, забывают о том, что в конце концов планеты должны одна за другой приближаться к своему центральному светилу и падать на него. После каждой из таких катастроф солнце должно будет светить с обновленной энергией; и весьма возможно, что эта участь постигла в то время одну из внутренних планет. Но какова бы ни была причина, факт остается фактом: солнце тогда грело значительно сильнее, чем теперь.
И вот в одно очень жаркое утро, – насколько помню, четвертое по моем прибытии, – в то время как я собирался укрыться от жары и ослепительного блеска солнца в колоссальных руинах (недалеко от большого здания, где я ночевал и питался), со мной случилось странное происшествие. Карабкаясь между каменными грудами, я открыл узкую галерею, конечные и боковые окна которой были завалены упавшими глыбами камня. После ослепительного дневного света галерея показалась мне непроглядно темной. Я вошел в нее ощупью, потому что при переходе от света к темноте цветные пятна поплыли у меня перед глазами и ничего нельзя было разобрать.
Внезапно я остановился как вкопанный. На меня из темноты смотрела пара глаз, блестевших от падавшего в галерею и отражавшегося в них дневного света.
Старый инстинктивный страх перед дикими зверями охватил меня. Я сжал кулаки и уставился в светившиеся глаза. Мне было страшно повернуться назад. На мгновение мне пришла в голову мысль о той абсолютной безопасности, в которой, как казалось, жило человечество. И вдруг я вспомнил его странный ужас перед темнотой…
Пересилив немного свой страх, я шагнул вперед и заговорил. Мой голос, вероятно, звучал хрипло и нервно. Я протянул руку и коснулся чего-то мягкого. В то же мгновение блестящие глаза как будто отпрыгнули в сторону и что-то белое пробежало мимо меня. Перепугавшись, я повернулся и увидел необычайное маленькое обезьяноподобное существо со странной, опущенной вниз головой, перебегавшее по освещенному пространству, находящемуся позади меня. Оно налетело на гранитную глыбу, отшатнулось в сторону и в одно мгновение скрылось в черной тени под другой грудой каменных обломков.
Мое впечатление о нем было, конечно, неполное. Я заметил только, что оно было тускло-серого цвета и что у него были странные, большие, серовато-красные глаза; его голова и спина были покрыты светлыми волосами. Но, как я уже сказал, оно бежало слишком быстро, и поэтому мне не удалось его отчетливо рассмотреть. Не могу даже сказать, бежало ли оно на четвереньках или же руки его были так длинны, что почти касались земли. После минутного замешательства я последовал за ним ко второй груде обломков. Сначала я не мог его найти, но скоро, в полнейшей темноте, наткнулся на одно из этих круглых колодцеобразных отверстий, о которых я уже говорил и которое было наполовину прикрыто упавшим столбом. В голове моей блеснула внезапная мысль. Не могло ли это существо спуститься в колодец?
Я зажег спичку и, взглянув вниз, увидел маленькое белое движущееся создание с большими блестящими глазами, упорно смотревшее на меня во время своего отступления. Оно заставило меня содрогнуться. Это было что-то вроде человекообразного паука! Пока оно спускалось вниз по стене колодца, я впервые заметил множество металлических подпорок для рук и ног, образовавших нечто вроде лестницы, спускающейся в глубину. В ту же минуту догоревшая спичка обожгла мне пальцы и, выпав, потухла; когда я зажег другую, маленькое страшилище уже исчезло.
Не знаю, долго ли я просидел, смотря в глубину колодца. Во всяком случае, прошло немало времени, прежде чем я пришел к заключению, что виденное мною существо было тоже человеком. Понемногу истина открылась передо мной. Я понял, что человек разделился к этому времени на два различных вида. Изящные дети Верхнего Мира не были единственными потомками нашего поколения. Это побелевшее отвратительное ночное существо, которое промелькнуло передо мной, также было наследником предыдущих веков.
Вспомнив о дрожании воздуха около колодцев и о своей теории подземной вентиляции, я начал подозревать их истинное значение.
Но какую роль, хотелось мне знать, играл этот лемур в моей схеме окончательно установленной организации человечества? Каково было его отношение к беспечной ясности и беззаботности прекрасных жителей Верхнего Мира? Что скрывалось там, в глубине этого отверстия?..
Я присел на край колодца, убеждая себя, что мне, во всяком случае, нечего опасаться подземных жителей и что мне необходимо спуститься туда для разрешения своих недоумений. И вместе с тем я чувствовал какой-то страх перед колодцем!
Пока я колебался, двое прекрасных надземных жителей, занимаясь любовной игрой, пробежали мимо меня из освещенного пространства в тень. Мужчина бежал за женщиной, бросая в нее цветами.
Они, казалось, ужасно огорчились, увидя, что я заглядываю в колодец, опираясь на упавший столб. Я уже говорил, что было не принято замечать эти отверстия. Как только я указал на него и пытался задать вопросы на их собственном языке, смущение их стало еще очевиднее, и они отвернулись от меня. Но спички мои их заинтересовали, и мне пришлось сжечь несколько штук, чтобы позабавить их.
Я еще раз попытался что-нибудь узнать относительно колодцев, но снова напрасно. Тогда, оставив их в покое, я решил вернуться к Уине и попытаться узнать что-нибудь от нее.
Все мои представления о новом мире перевернулись и стали иными. У меня был теперь ключ для понимания важности этих колодцев, а также вентиляционных башен и моих таинственных привидений, не говоря уже о бронзовых дверях и о судьбе, постигшей Машину Времени! Вместе с этим ко мне закралось смутное предчувствие о возможности разрешить ту экономическую проблему, которая до сих пор приводила меня в недоумение.
Вот каков был мой новый взгляд. Ясно, что этот второй род людей был подземный. Три разных обстоятельства приводили меня к такому заключению. Редкое появление их на поверхности земли являлось, по-видимому, результатом их долгой, постоянной привычки к подземному существованию. На нее указывала их блеклая окраска, присущая большинству животных, проводящих свою жизнь в темноте, – как, например, белые рыбы в Кентуккийских пещерах. Большие глаза, отражающие свет, являются также характерной чертой ночных животных вроде кошки и совы. И, наконец, это явное замешательство при дневном свете, это поспешное, спотыкающееся, неуклюжее бегство в тень, эта особенная манера держать при свете голову лицом вниз – все это подкрепляло мою теорию относительно чрезвычайной чувствительности сетчатки их глаз.
Итак, под ногами у меня земля должна быть изрыта тоннелями, и эти тоннели являются жилищами новой расы. Существование вентиляционных башен и колодцев по склонам холмов – повсюду, кроме долины реки, – служило доказательством повсеместного разветвления этих тоннелей. Разве не естественно было предположить, что в искусственном подземном мире производилась работа, необходимая для благосостояния дневной расы?
Эта мысль была так правдоподобна, что я тотчас же принял ее и пошел далее, отыскивая причину раздвоения человеческого рода. Боюсь, что вы с недоверием отнесетесь к моей теории, но что касается меня самого, то я убедился в скором времени, как близка она к истине.
Мне казалось ясным как день, что постепенное расширение современного социального различия между Капиталистом и Рабочим было ключом ко всему новому положению вещей. Без сомнения, это покажется вам смешным и дико невероятным, но даже и теперь существуют обстоятельства, которые указывают на возможность таких последствий. И теперь существует тенденция использовать подземные пространства для нужд цивилизации, не требующих красоты отделки; существует подземная железная дорога в Лондоне, устраиваются новые электрические подземные дороги и тоннели, существуют подземные мастерские и рестораны, и все они растут и размножаются. Очевидно, думал я, это стремление уйти для работ под землю прогрессировало до тех пор, пока постепенно вся промышленность не была изгнана с лица земли. Она переходила все глубже и глубже в подземные мастерские, где рабочим приходилось проводить все большее и большее количество времени, пока, наконец…
Разве и теперь какой-нибудь лондонский рабочий не живет в таких искусственных условиях, что на деле является отрезанным от почвы родной земли?
А вслед за тем эта кастовая тенденция более богатого слоя людей, естественно вызванная растущей изысканностью их жизни, расширить пропасть между ними и оскорбляющей их грубостью бедняков – она ведь тоже ведет к постепенному захвату привилегированными сословиями все большей и большей части поверхности земли исключительно для себя. В окрестностях Лондона и других больших городов уже около половины самых красивых местностей недоступно для посторонних!
А эта все расширяющаяся пропасть между богатыми и бедными, происходящая от продолжительности и дороговизны высшего образования и от возрастающей легкости для богатых приобрести утонченные привычки, – разве не поведет она к тому, что соприкосновения между классами сделаются все менее возможными? Благодаря этому отсутствию общения и тесных отношений заключение браков между обоими классами, задерживающее теперь разделение человеческого рода на два отдельных вида, сделается в будущем все более и более редким. В конце концов на земной поверхности должны будут остаться только Имущие, преследующие в своей жизни исключительно удовольствия и красоту, а под землей окажутся все Неимущие – рабочие, приспособившиеся к подземным условиям своего труда. А раз они очутятся там, они, без сомнения, должны будут платить Имущим дань за вентиляцию своих жилищ. Если они откажутся от этого, они умрут с голоду или принуждены будут задохнуться. Те из них, которые окажутся неприспособленными или непокорными, вымрут. Мало-помалу, при постоянном равновесии такого порядка вещей, пережившие из Неимущих сделаются настолько же счастливыми на свой собственный лад, как и жители Верхнего Мира. Таким образом, естественно, возникнут и утонченная красота одних и выцветшая бледность других.
Окончательный триумф Человечества, о котором я мечтал, принял теперь совершенно иной вид в моих глазах.
Это не был тот триумф духовного развития и общего коллективного труда, который я представлял себе. Вместо него постепенно вырабатывалась настоящая аристократия, вооруженная усовершенствованными знаниями и деятельно трудившаяся для приведения к логическому концу современной индустриальной системы. Ее победа была не только победой над природой, но также и победой над своими собратьями-людьми.
Такова была моя теория. У меня не было проводника-толкователя в духе утопических книг. Может быть, мое объяснение абсолютно неверно. Но все же я думаю и до сих пор, что оно самое правдоподобное.
Однако даже и эта, по-своему законченная, цивилизация давно перешла свой зенит и находилась на пути к упадку. Чрезмерная обеспеченность жителей Верхнего Мира привела их к постепенной дегенерации, к общему вырождению в росте, силе и умственных способностях. Это я мог видеть достаточно ясно. Что случилось с Подземными Жителями, я еще не подозревал, но то, что я до сих пор увидел, показывало, что «Морлоки», – как их называли обитатели Верхнего Мира, – ушли в своем изменении еще дальше от современного человеческого типа, чем «Элои», прекрасная надземная раса, среди которой я находился.
Во мне возникли тревожные опасения. Для чего понадобилась Морлокам моя Машина Времени? Я был теперь уверен, что это они похитили ее. Почему также Элои, если они были господствующей расой, не могли возвратить ее мне? Почему они так ужасно боялись темноты? Я попытался было расспросить о Подземном Мире Уину, но меня снова ожидало разочарование. Сначала она не понимала моих вопросов, а затем с ужасом отказалась отвечать на них. Она так дрожала, как будто совершенно не могла выносить этого разговора. Когда я начал настаивать, быть может, слишком резко, она разразилась горькими слезами. Это были единственные слезы, которые я видел в Золотом Веке, кроме тех, что пролил я. Я тотчас же перестал ее мучить расспросами о Морлоках и постарался только согнать с ее глаз эти следы человеческого происхождения. Через минуту она уже улыбалась и хлопала в ладоши, когда я торжественно сжигал перед ней спичку.
Вам может показаться странным, что прошло два дня, прежде чем я решился продолжать свои изыскания по только что открытому мною и, очевидно, надлежащему направлению. Я ощущал какой-то особенный ужас перед этими бледными фигурами. По цвету своей кожи они походили на полуобесцвеченных червей и другие препараты, хранящиеся в спирту в зоологических музеях. А прикасаясь к ним, я чувствовал, какими они были отвратительно холодными! Моя боязнь отчасти объяснялась моей симпатией к Элоям, отвращение которых к Морлокам стало мало-помалу передаваться и мне.
Всю следующую ночь я спал очень плохо. Вероятно, мое здоровье немного расстроилось. Опасение и беспокойство угнетали меня. Раз или два на меня нападало чувство сильнейшего страха, причину которого я не мог определить. Помню, как я тихонько пробрался в большую залу, где, освещенный луною, спал маленький народец. В эту ночь с ними спала и Уина. Помню, как их присутствие успокоило меня. Mне еще тогда пришло в голову, что через несколько дней луна будет в своей последней четверти и наступят совершенно темные ночи, во время которых участятся появления этих белых лемуров, этих нового рода червей, пришедших на смену старым.
В продолжение двух последних дней меня не оставляло тревожное чувство, испытываемое обыкновенно человеком, уклоняющимся от исполнения неизбежной обязанности. Я был уверен, что могу получить Машину Времени, только смело проникнув в тайны Подземного Мира. Но я все еще не решался встретиться лицом к лицу с этой тайной. Если бы я имел товарища, быть может, было бы иначе. Но я был так ужасно одинок, что даже самая мысль спуститься в мрачную глубину колодца была невыносима для меня. Не знаю, поймете ли вы мое ощущение, но мне непрестанно казалось, что за спиной мне угрожает страшная опасность.
Вероятно, это беспокойство и ощущение неведомой опасности толкали меня уходить все дальше и дальше в своих разведках.
Идя в юго-западном направлении к более возвышенной местности, которая в наше время называется Комб-Вудом, я заметил далеко впереди, там, где находится городок Банстид XIX века, огромное зеленое здание, совершенно не похожее по стилю на все здания, виденные мною до сих пор. Своими размерами оно превосходило самые большие дворцы. Его фасад носил восточный характер. Окрашенный блестящей бледно-зеленой краской с голубовато-зеленым оттенком, он походил на дворец из китайского фарфора. Такая разница во внешнем виде невольно наводила на мысль о его особом назначении, и я намеревался получше осмотреть его. Но я впервые увидел это место после долгого и утомительного скитания, когда день уже клонился к вечеру, и потому, решив отложить осмотр до следующего дня, вернулся домой к ласкам приветливой маленькой Уины.
На следующее утро я ясно понял, что мое любопытство относительно Зеленого Фарфорового Дворца было только особым родом самообмана, изобретенным мною для того, чтобы еще на день отложить страшившее меня исследование Подземного Мира. Без дальнейшей проволочки я решил пересилить себя и в то же утро спуститься в один из колодцев; я быстро направился к тому, который находился ближе других, возле руин из гранита и алюминия.
Маленькая Уина, не зная ничего, бежала рядом со мной. Она, танцуя, проводила меня до колодца, но когда увидела, что я перегнулся через край и принялся смотреть вниз, ее охватило необычайно страшное волнение.
«Прощай, маленькая Уина», – сказал я, целуя ее.
Опустив ее снова на землю и перегнувшись через барьер, я принялся ощупывать ведущие вниз скобы. Не могу не признаться, что делал это очень торопливо из страха, что моя решимость меня покинет! Уина сначала смотрела на меня в изумлении. Потом, испустив жалобный крик и бросившись ко мне, принялась оттаскивать меня своими маленькими ручками. Мне кажется, ее сопротивление именно и побудило меня действовать решительно. Я оттолкнул ее руки, может быть немного резко, и в следующее же мгновение спустился в шахту колодца. Взглянув вверх, я увидел над его краем полное отчаяния лицо Уины и улыбнулся, чтобы ее успокоить. Но тотчас же вслед за тем я должен был обратить все свое внимание на шатающиеся скобы, едва выдерживающие мою тяжесть.
Мне нужно было спуститься на глубину, может быть, двухсот ярдов. Спуск производился по металлическим прутьям, выступавшим из боков колодца, но так как они были приспособлены для более маленьких существ, то очень скоро я почувствовал себя утомленным. Нет, не только утомленным, но и приведенным в ужас! Один из прутьев неожиданно погнулся под моей тяжестью, и я едва не полетел вниз, в непроглядную темноту. С минуту я висел на одной руке.
После этого случая я не решался более останавливаться. Хотя я скоро почувствовал жгучую боль в руках и спине, все же продолжал спускаться так быстро, как только мог. Посмотрев наверх, я увидел в отверстии колодца маленький голубой кружок неба, на котором виднелась одна звезда, между тем как голова маленькой Уины казалась на фоне неба черным круглым пятнышком. Внизу все громче и громче раздавался грохот машин. Все, кроме этого небольшого диска вверху, было темным. Когда я снова поднял голову, Уина уже исчезла.
Ужасное беспокойство овладело мной. Мне пришла мысль снова подняться наверх и оставить Подземный Мир в покое. Но все-таки я продолжал спускаться вниз. Наконец, не знаю через сколько времени, я с невероятным облегчением смутно увидел, или, скорее, почувствовал, направо от меня небольшое отверстие в стене колодца. Попав в него, я убедился, что оно представляло собой вход в узкий горизонтальный тоннель, где я мог прилечь и отдохнуть. Руки мои ныли, спину ломило, и я весь дрожал от ужаса ожидаемого падения. Помимо всего другого, непроницаемая темнота сильно действовала на мои глаза. Воздух был наполнен гулом и жужжанием машины, накачивавшей в глубину воздух.
Не знаю, сколько времени я лежал. Меня привело в себя мягкое прикосновение чьей-то руки, ощупывавшей мое лицо. Вскочив в темноте, я схватился за спички и, торопливо чиркнув одной, увидел три сутуловатые белые фигуры, подобные той, какую я встретил в развалинах наверху. Они быстро отступили при виде огня. Морлоки, как я уже говорил, проводили свою жизнь в темноте, и потому глаза их были ненормально велики. Они не выносили света моей спички и так же отражали его, как зрачки глубинных океанских рыб. Я нимало не сомневался, что они давно видели меня в этой густой темноте, и их пугал только мой свет. Едва я зажег новую спичку, чтобы разглядеть их, как они тотчас обратились в бегство и исчезли в темных выемках и тоннелях, откуда только сверкали их блестящие глаза.
Я попытался заговорить с ними, но их язык, видимо, отличался от языка Надземных жителей, так что волей-неволей я должен был положиться только на свои собственные силы. Снова возникла в моем уме мысль бежать, оставив всякие исследования. Но я сказал самому себе: «Ты должен теперь же все кончить».
Двигаясь ощупью вдоль тоннеля, я слышал с каждым шагом, как гул машины делался все громче. Внезапно стены расступились передо мною, и я вышел на открытое место, где при свете новой спички увидел, что нахожусь в просторной сводчатой пещере. Я успел рассмотреть ее лишь на небольшом протяжении, насколько позволял короткий и слабый свет моей спички.
Понятно, что мои воспоминания об окружавшем очень смутны. Из темноты подымались контуры огромных машин, отбрасывавших причудливые черные тени, в которых укрывались от света моей спички похожие на привидения Морлоки. Было очень душно, и в воздухе носился слабый запах свежепролитой крови. Немного далее, около середины пещеры, стоял небольшой стол из белого металла, на котором лежали куски свежего мяса. Оказалось, что Морлоки не были вегетарианцами! Я помню, как даже и тогда с изумлением подумал о том, какое животное могло снабжать их кусками красного мяса, лежащего передо мной.
Все кругом было очень неясно; тяжелый запах, большие смутные контуры, отвратительные фигуры, притаившиеся в тени и ожидающие только темноты, чтобы снова напасть на меня! Догоревшая спичка обожгла мне пальцы и упала на землю, светясь красным пятном в окружающей непроглядной темноте.
С тех пор много раз я думал, как плохо был я приспособлен для такого исследования. Отправляясь в путешествие на Машине Времени, я обладал абсурдной уверенностью, что люди Будущего стоят впереди нас во всех отношениях. Я пришел к ним без оружия, без лекарств, без табака, – а временами мне так ужасно хотелось покурить! Я явился к ним даже без достаточного количества спичек. Ах, если бы я только подумал о фотографическом аппарате! Можно было запечатлеть этот Подземный Мир и на досуге рассмотреть его здесь. Теперь же я стоял там лишь с тем оружием и той силой, которыми наградила меня Природа, – только с моими руками, ногами и зубами; эти природные средства да еще четыре спасительные спички были всем, что оставалось у меня.
Я побоялся идти дальше в темноте среди машин и только при последней вспышке зажженной спички увидел, что моя коробка кончается. До этой минуты мне совершенно не приходила в голову мысль о необходимости беречь спички, и я истратил почти половину коробки, чтобы удивлять Надземных жителей, для которых огонь снова сделался диковинкой. Теперь, когда у меня оставалось только четыре спички, а сам я стоял в темноте, я снова почувствовал, как чьи-то тонкие пальцы принялись ощупывать мое лицо, и меня поразил какой-то особенно неприятный запах. Мне казалось, что вокруг себя я слышал дыхание целой толпы этих ужасных маленьких существ! Я почувствовал, как чьи-то руки осторожно пытаются отнять у меня коробку спичек, а другие руки тянут меня сзади за одежду. Мне было невыразимо неприятно ощущать присутствие невидимых созданий. В этой темноте я впервые ясно понял, что не могу постичь их побуждений и поступков. Я крикнул на них изо всех сил. Они отскочили, но тотчас же вслед за тем я снова почувствовал их приближение. На этот раз они уже смелее хватали меня и какими-то странными звуками перешептывались между собою. Я весь задрожал, крикнул снова, еще резче прежнего. Но в этот раз они уже не были встревожены и тотчас же приблизились снова, издавая странные звуки, похожие на тихий смех.
Признаюсь, я страшно перепугался. Я решил зажечь еще спичку и бежать под защитой ее огня. Сделав это, я зажег кусочек вынутой из кармана бумаги и смог отступить в прежний узкий тоннель. Но едва я вошел в него, как мою спичку задул ветер и в темноте стало слышно, как Морлоки торопливо бежали за мной, жужжали и шелестели в тоннеле, словно листья от ветра. Их шаги звучали слабо и часто, как капли падающего дождя…
В одно мгновение меня схватило несколько рук. Морлоки пытались оттащить меня назад. Я зажег новую спичку и помахал ею прямо перед их ослепленными лицами. Вы едва ли можете себе представить, как омерзительно, нечеловечески они выглядели, эти бледные, как бы обрубленные лица, с большими, лишенными век, красновато-серыми глазами! Как они дико смотрели на меня в своем слепом замешательстве! Впрочем, могу вас уверить, что я не долго разглядывал их. Я снова отступил и, когда догорела вторая спичка, зажег третью. Она тоже почти догорела, когда мне наконец удалось достигнуть отверстия колодца. Я прилег на его край, потому что у меня кружилась голова от дребезжания огромного насоса внизу. Затем сбоку я нащупал выступающие скобы, но в то же время меня сзади схватили за ноги и с силой потащили обратно. Я зажег свою последнюю спичку… она тотчас же погасла. Но теперь уже, ухватившись за скобы и раздавая ногами щедрые пинки, я высвободился из цепких объятий Морлоков и принялся быстро взбираться по стене колодца. Они стояли внизу и, моргая, смотрели на меня все, кроме одной маленькой твари, которая некоторое время следовала за мной и чуть не унесла мой башмак в качестве трофея.
Подъем показался мне бесконечным. На последних двадцати или тридцати футах я почувствовал ужасную тошноту. С невероятными усилиями мне удалось справиться с головокружением. Последние несколько ярдов были ужасны. Сил больше не было. Несколько раз у меня кружилась голова, и тогда охватывало ощущение неминуемого падения. Сам не знаю, как я добрался до отверстия колодца и, шатаясь, вышел около руин на ослепительный солнечный свет.
Я упал лицом на землю. Даже почва показалась мне здесь чистой и благоуханной. Помню, как Уина осыпала поцелуями мои руки и лицо и как вокруг меня раздавались голоса других Элоев. Вслед за этим я лишился сознания.
После этого происшествия я оказался в еще худшем положении, чем раньше. Если не считать минут отчаяния в ночь потери Машины Времени, я чувствовал до сих пор подкреплявшую меня надежду на возможность бегства. Но эти новые открытия пошатнули мою надежду. До сих пор я видел для себя препятствия только в детской простоте маленького народа и в каких-то неведомых мне силах, узнать которые, казалось мне, было равносильно тому, чтобы их преодолеть. Теперь появился на смену совершенно новый элемент – отвратительные Морлоки, что-то нечеловеческое и враждебное. Я инстинктивно ненавидел их. Прежде я чувствовал себя в положении человека, попавшего в яму: думал только о яме и о том, как бы выбраться из нее. Теперь же я чувствовал себя в положении зверя, попавшего в западню и чувствующего, что враг уже подходит к ней.
Враг, о котором я говорю, может показаться вам неожиданным: это темнота новолуния. Уина внушила мне этот страх несколькими сначала непонятными замечаниями относительно Темных Ночей. Теперь уже легко можно было угадать, что означало это приближение Темных Ночей. Луна убывала, каждую ночь темнота увеличивалась, становилась более длительной. Теперь, хотя и в слабой степени, я понял наконец причину ужаса перед темнотой у маленьких жителей Верхнего Мира. Я спрашивал себя, что за гнусную мерзость проделывали Морлоки во время безлунных ночей. Теперь я был вполне убежден, что моя гипотеза – господство Элоев над Морлоками – была абсолютно неверной. Конечно, раньше жители Верхнего Мира были привилегированной аристократией, а Морлоки – их рабочими-слугами, но это миновало давным-давно. Обе разновидности людей, происшедшие вследствие эволюции общества, переходили, или уже перешли, к совершенно новым отношениям между собой. Подобно Каролингским королям Элои переродились в прекрасные ничтожества. Они все еще по старой памяти владели поверхностью земли, тогда как Морлоки, жившие в продолжение бесчисленных поколений под землей, стали в конце концов совершенно неспособными выносить дневной свет.
Все еще Морлоки делали им одежду и заботились об их обычных нуждах, может быть, вследствие старой привычки работать на них. Они делали это так же бессознательно, как стоящий конь бьет о землю копытом или охотник радуется убитой им дичи: старые и уже исчезнувшие отношения все еще оставляли свою печать на человеческом организме. Но ясно, что первоначальные отношения этих двух рас сделались уже обратными. Неумолимая Немезида неслышно приближалась к изнеженным счастливцам. Века назад, тысячи поколений назад, человек лишил своего ближнего довольства и солнечного света. А теперь этот ближний возвращался назад совершенно переменившимся! Элои снова получили первый урок жизни. Они познакомились с чувством страха. Я вспомнил неожиданно о мясе, которое видел в Подземном Мире. Не знаю, почему мне это пришло в голову: это не вытекало из хода моих мыслей, но явилось как будто вопросом извне. Я попытался припомнить вид этого мяса. У меня и тогда было смутное ощущение чего-то знакомого, но что это было, я не мог сказать.
Маленький народ был беспомощен в присутствии тех, кто наводил на него такой таинственный страх, но я был иначе создан. Я был сыном своего века, полного расцвета человеческой расы, когда страх перестал парализовать человека и таинственность потеряла свои чары. Во всяком случае, я мог защищаться. Без дальнейших промедлений я решил приготовить себе оружие и найти безопасное место, где мог бы спать. Имея такое постоянное убежище, я смог бы относиться к этому неведомому миру с некоторой долей той старой уверенности, которой я лишился, узнав, какие существа угрожали мне по ночам. Я знал, что не засну до тех пор, пока сон мой не будет защищен от них. Я содрогнулся от ужаса при мысли о том, что они уже не раз рассматривали и изучали меня.
Весь день я проблуждал по долине Темзы, но не нашел никакого убежища, которое было бы для них недосягаемым. Все здания и деревья были, казалось, легко доступными для таких искусных ползунов, какими были Морлоки, судя по их колодцам. И тут я снова вспомнил о высоких башенках и отполированных, блестящих стенах Зеленого Фарфорового Дворца. В тот же вечер, посадив Уину, как маленького ребенка, на плечо, я отправился, взбираясь по холмам, в юго-западном направлении. Расстояние до Зеленого Фарфорового Дворца было определено мною в семь или восемь миль, но, вероятно, их было около восемнадцати. В первый раз я рассматривал это место в довольно сырой день, когда расстояния обманчиво уменьшаются. А теперь, когда я двинулся в путь, у меня, кроме всего остального, еще оторвался каблук и в ногу через подошву впивался гвоздь, – это были мои старые башмаки, которые я носил только дома. Я захромал. Прошло уже много времени после заката солнца, когда показался Дворец, вырисовывавшийся черным силуэтом на бледно-желтом фоне неба.
Уина была в необычайном восторге, когда я понес ее на плече, но потом ей захотелось сойти, и она бежала рядом со мной, перебегая то на одну, то на другую сторону за цветами и наполняя ими мои карманы. Эти карманы всегда изумляли Уину, в конце концов она решила, что они представляют собой оригинальные цветочные вазы. Во всяком случае, они служили ей для этой цели… Да! Это напоминает мне!.. Сменяя свой костюм, я нашел…
(Путешественник по Времени умолк, опустил руку в карман и безмолвно положил перед нами на маленький стол два увядших цветка, напоминающих очень крупные белые мальвы. Потом возобновил свой рассказ.)
Землю окутала уже вечерняя тишина, а мы все еще продолжали идти по вершине холма по направлению к Уимблдону. Уина почувствовала себя усталой и пожелала вернуться в здание из серого камня. Но я указал ей на видневшиеся вдалеке башенки Зеленого Фарфорового Дворца и постарался дать ей понять, что там мы найдем убежище от страха.
Знакома ли вам эта полная тишина, которая наступает перед сумерками? Даже ветерок не шелестит листьями деревьев. На меня эта вечерняя тишина всегда навевает неясное чувство ожидания чего-то. Небо было чистое, далекое и ясное; только там, где зашло солнце, виднелось несколько горизонтальных легких облачных полос. Но к этому чувству вечернего ожидания, о котором я только что говорил, примешивался теперь оттенок страха. В этой вечерней тишине мои чувства, казалось, сверхъестественно обострились. Мне чудилось, что я даже мог ощущать пустоты в земле под моими ногами: мог почти смотреть сквозь почву и видеть Морлоков, кишащих в своем подземном муравейнике и ожидающих наступления темноты. Мне казалось, что они приняли мое вторжение в их норы за объявление войны. И зачем взяли они мою Машину Времени?
Мы продолжали идти в вечерней тишине, и сумерки постепенно перешли в ночь. Голубая ясность дали исчезла, и звезды стали загораться одна за другой. Земля под ногами становилась неясной и деревья – черными. Страх и усталость окончательно овладели Уиной. Я взял ее на руки, успокаивая и лаская. По мере того как темнота усиливалась, она крепче и крепче прижималась лицом к моему плечу… По длинному склону холма мы спустились в долину, и тут, в полутьме, я чуть было не свалился в маленькую речку. Перейдя ее вброд, я взобрался на противоположную сторону долины, прошел мимо множества спальных домов и мимо статуи, изображавшей, как мне показалось, что-то вроде Фавна, но только без головы. Здесь тоже росли акации. До сих пор я еще не видел Морлоков, но это было только начало ночи и самые темные часы, перед восходом луны, еще не наступили.
С вершины следующего холма я увидел густую чащу леса, которая расстилалась передо мной широкой и черной полосой. Я остановился в нерешительности. Не было видно конца этого леса ни с правой, ни с левой стороны. Чувствуя себя усталым, – у меня больше всего болели ноги, – я осторожно снял с плеча Уину и опустился на землю. Я более не видел Зеленого Фарфорового Дворца и не знал, куда нужно идти. Посмотрев на чащу леса, я невольно подумал о том, что могла скрывать она в своей глубине. Под этими густо переплетенными ветвями деревьев нельзя было видеть даже звезд. Если б там даже и не было той подстерегавшей меня опасности – опасности, самую мысль о которой я гнал из своей головы, – там все же было достаточно корней, чтобы споткнуться, и древесных пней, чтобы разбить себе лоб. К тому же я был очень утомлен после дневных волнений и решил не идти туда, а провести ночь на открытом месте.
Я был рад, что Уина уже крепко спала. Заботливо завернув ее в свою куртку, я сел рядом с ней и стал ожидать восхода луны. На склоне холма все было спокойно и пустынно, но из темноты леса доносился по временам шорох живых существ. Надо мной сияли звезды, так как ночь была очень ясная. Их дружеское мерцание успокаивало меня. На небе уже не было старых созвездий: все они приняли новые очертания благодаря тем медленным перемещениям звезд, которые становятся заметными только по истечении сотен человеческих жизней. Один Млечный Путь, казалось мне, остался тем же клочковатым потоком звездной пыли, как и в наше время. На юге сияла какая-то очень яркая, неизвестная мне красная звезда, она была ярче даже нашего голубоватого Сириуса. И среди всех этих точек мерцающего света мягко и ровно сияла одна большая планета, как будто спокойно улыбающееся лицо старого друга.
При свете звезд все заботы и горести земной жизни показались мне совершенно ничтожными. Я думал и о великом предварении равноденствий, которое заставляет земную ось описывать большой круг между звездами. Только сорок раз совершился этот молчаливый оборот за все восемьсот тысяч лет моего путешествия. И за эти несколько оборотов вся деятельность, все традиции, вся сложность организаций, национальности, языки, литература, стремления, даже воспоминания о Человеке, каким я его знал, были вычеркнуты из жизни. Взамен этого в мире были эти хрупкие создания, забывшие о своем высоком происхождении, и белесые существа, приводившие меня в ужас.
Я думал и о том Великом Страхе, который разделил оба отпрыска человеческого рода, и впервые с внезапным содроганием ясно понял, что это за мясо видел в Подземном Мире. Нет, это было бы чересчур ужасно! Я взглянул на маленькую Уину, спавшую под звездами рядом со мной, на ее личико, беленькое и ясное, как звездочка, и тотчас же отогнал страшную мысль.
Всю эту долгую ночь я старался, насколько мог, не думать о Морлоках и убивал время, стараясь в новом беспорядке звезд найти следы старых созвездий. Небо было совершенно ясное, за исключением нескольких легких облачков. По временам я засыпал ненадолго. Когда мое бдение уже истомило меня, в восточной части неба показался слабый свет, подобный зареву какого-то бесцветного пожара, и вслед за тем взошел белый тонкий и остроконечный серп убывающей луны. А за нею, как бы настигая и затопляя ее своим сиянием, блеснули первые цвета утренней зари, сначала бледные, но потом с каждой минутой все более и более разгоравшиеся алыми красками и теплотой. Ни один Морлок не подходил к нам; в эту ночь я не видел никого из них на холме. С доверчивым светом наступающего дня все мои ночные страхи стали казаться почти смешными. Я встал и увидел, что моя нога в башмаке без каблука распухла около лодыжки, пятка болела. Я сел на землю, снял башмаки и отшвырнул их прочь.
Разбудив Уину, я спустился с ней вниз. Мы вошли в лес, теперь зеленый и приветливый, а не черный и зловещий, как ночью. Позавтракав найденными в нем плодами, мы встретили затем несколько прекрасных детей земли, которые смеялись и танцевали в солнечном свете, как будто в мире никогда не существовало ночей. Но тут я вспомнил еще раз о том мясе, которое видел у Морлоков. Теперь мне уже было ясно, что за мясо это было, и я от всей души пожалел тот слабый ручеек, оставшийся на земле от когда-то могучего потока Человечества. Ясно, что много раньше, века назад, пища у Морлоков иссякла. Возможно, что некоторое время они питались крысами и тому подобной мерзостью. Даже и теперь человек гораздо менее разборчив в выборе своей пищи, чем был в прежние времена, значительно менее, чем любая обезьяна. Его предубеждение против человечьего мяса не есть глубоко укоренившийся инстинкт.
И теперь эти бесчеловечные потомки людей!..
Я постарался взглянуть на все с научной точки зрения. Во всяком случае, Морлоки были менее человекоподобны и более далеки от нас, чем наши предки-каннибалы три или четыре тысячи лет назад. А те высокие умственные способности, которые сделали бы для нас такое положение вещей истинной пыткой, уже окончательно исчезли. «О чем мне беспокоиться? – подумал я. – Эти Элои служили только откормленным скотом, который сохраняли и который отбирали потом себе для еды муравьеподобные Морлоки, – вероятно, они даже наблюдали за тем, чтобы Элои хорошо откармливались…» А тут маленькая Уина танцевала около меня!
Я попытался подавить охватившее меня отвращение, заставляя себя думать, что такое положение вещей – суровое наказание человеческого эгоизма. Люди хотели жить в роскоши и наслаждении за счет тяжелого труда своих собратьев-людей, оправдываясь необходимостью, и вот, когда настало время, та же необходимость повернулась к ним обратной стороной. Я даже, подобно Карлейлю, пытался возбудить в себе презрение к этой жалкой аристократии в период ее упадка. Но как ни велико было их духовное падение, все же Элои сохранили в своей внешности слишком много человеческого, чтобы не возбуждать моей симпатии и не делать меня невольным участником унижения и страха.
Что нужно было делать при таких обстоятельствах, я еще не знал. Прежде всего я хотел найти какое-нибудь безопасное убежище и достать металлическое или каменное оружие. Это было неотложной необходимостью. Затем я надеялся раздобыть средства для получения огня, чтобы иметь факел, так как я знал, что это оружие было самым действенным против Морлоков. Я хотел еще устроить какое-нибудь приспособление для того, чтобы выломать бронзовые двери Белого Сфинкса. У меня было намерение сделать таран. Я был уверен, что если войду в эти двери, неся перед собой факел, то открою там Машину Времени и буду в состоянии вырваться из этого Будущего Времени. Я не думал, чтобы Морлоки были достаточно сильны и смогли передвинуть мою Машину куда-нибудь очень далеко. Уину я решил взять с собой обратно в наше Время.
Обдумывая все эти планы, я продолжал идти к тому зданию, которое в своем воображении выбрал для нашего жилища.
Когда около полудня мы дошли до Зеленого Фарфорового Дворца, я нашел его полуразрушенным и пустынным. В окнах торчали только осколки разбитых стекол, а большие листы зеленой облицовки отвалились от проржавевшего металлического остова. Он стоял на лугу, на очень высоком месте, и, взглянув в северо-восточном направлении, я изумился, увидя большой морской рукав, или, скорее, залив, где, по моим соображениям, были когда-то наши Вондсворт и Баттерси. Мне тогда же пришел в голову вопрос о том, что произошло или происходит теперь с живыми существами, населявшими морскую глубину, но я не развивал дальше этой мысли.
Оказалось, что Дворец был действительно сделан из фарфора, и вдоль его фасада тянулась надпись на каком-то незнакомом языке. Мне пришла в голову нелепая мысль, что Уина может помочь разобрать ее, но оказалось, что даже самая мысль о писании никогда не приходила ей в голову. Она всегда казалась мне более человеком, чем была на самом деле, может быть, потому, что ее привязанность ко мне была такой человеческой.
За огромными створчатыми дверями, которые были открыты и поломаны, мы увидели вместо обычного зала длинную галерею с целым рядом боковых окон. При первом же взгляде я понял, что это музей. Паркетный пол был покрыт густым слоем пыли, и под таким же серым покровом находились все удивительные и разнообразные предметы, наваленные здесь повсюду.
Между прочим я увидел что-то странное и высохшее, стоящее в центре зала и, несомненно, представляющее нижнюю часть огромного скелета. По его косым ногам я определил, что это было одно из вымерших животных из породы мегатериев. Рядом с ним в густой пыли лежали его череп и верхние кости, а в одном месте, где сквозь крышу просачивалась дождевая вода, часть костей совершенно истлела. Далее в галерее находился огромный скелет бронтозавра. Мое предположение, что это был музей, подтвердилось. По бокам галереи я нашел то, что принял сначала за скосившиеся полки, но, стерев с них густой слой пыли, убедился, что это были старые знакомые витрины нашего времени. Должно быть, они были герметически закупорены, судя по некоторым прекрасно сохранившимся в них предметам.
Ясно, что мы находились посреди развалин огромного музея, подобного Южно-Кенсингтонскому, давно прошедшего времени. Здесь, по-видимому, находился палеонтологический отдел, и, должно быть, это была чудеснейшая коллекция ископаемых, однако неизбежный процесс разрушения, искусственно остановленный на некоторое время и потерявший благодаря уничтожению бактерий и грибков девять десятых своей силы, все же верно и медленно продолжал свою разрушительную работу. То тут, то там я находил следы посещения музея маленьким народом: там и тут попадались редкие ископаемые, разломанные ими на куски и навешанные гирляндой на тростник. В некоторых местах витрины были сняты. И я решил, что это сделали Морлоки.
Место было очень уединенное. Густой слой пыли умерял звук наших шагов. Пока я с изумлением рассматривал окружающее, ко мне подошла Уина, забавлявшаяся в это время катанием морского ежа по наклонному стеклу витрины. Она тихонько взяла меня за руку и стала рядом со мной. Я был так сильно изумлен при виде этого разрушающегося памятника высокоинтеллектуального периода человеческой жизни, что не подумал даже о той пользе, какую отсюда мог бы для себя извлечь. Даже мысль о моей Машине исчезла у меня на время из головы.
Судя по размерам, Дворец Зеленого Фарфора должен был заключать в себе не только палеонтологическую галерею: вероятно, тут были и исторические отделы, может быть, даже библиотека! В данных обстоятельствах для меня это было бы неизмеримо интереснее, чем вид разрушающейся геологии отдаленных веков. Принявшись за дальнейшие исследования, я открыл другую, короткую галерею, пересекающую первую. По-видимому, это был отдел минералогии, и вид куска серы навел меня на мысль о порохе. Но я нигде не мог отыскать селитры или каких-нибудь азотнокислых солей. Не было сомнения, что они распылились много столетий тому назад. Но сера не выходила у меня из головы и навела на целый ряд размышлений. Все остальное содержимое галереи мало меня интересовало, несмотря на то что в общем этот отдел сохранился лучше всего. Я не специалист по минералогии, и потому я отправился дальше по полуразрушенному крылу здания, параллельному первой галерее, через которую я вошел. По-видимому, этот новый отдел был посвящен естественной истории, но все в нем давным-давно пришло в неузнаваемый вид. Несколько съежившихся и почерневших остатков того, что прежде было чучелами зверей, высохшие мумии в банках, когда-то наполненных спиртом, темная пыль от высушенных растений – вот и все, что я здесь нашел! Я пожалел об этом; мне было бы интересно проследить те медленные, терпеливые усилия, благодаря которым была достигнута полная победа над животным и растительным миром.
Отсюда мы вошли в огромную, плохо освещенную галерею. Пол постепенно понижался, хотя и под незначительным углом, начиная от того конца, где мы стояли. С потолка через определенные промежутки свешивались белые шары; некоторые из них были разбиты на куски, и у меня невольно явилась мысль, что это место первоначально освещалось искусственным светом. Тут я был больше в своей среде, так как по обе стороны от меня подымались остовы огромных машин; все они были сильно попорчены, и многие даже поломаны, некоторые, однако, были еще в сравнительной целости. Вы знаете, у меня слабость к машинам; мне захотелось подольше остаться среди них, тем более что большая часть их представляла интерес новизной и непонятностью, и я мог делать только самые неопределенные догадки относительно тех целей, которым они служили. Мне казалось, что если я только разрешу эти загадки, то найду могущественное оружие для борьбы с Морлоками.
Уина внезапно прижалась ко мне. Это было так неожиданно, что я вздрогнул. Если бы не она, я, по всей вероятности, не обратил бы внимания на покатость пола. Тот конец галереи, в который я вошел, еще поднимался высоко над землей и освещался через немногие узкие окна. Но по мере того как мы шли дальше вдоль галереи, склон холма подходил снаружи к самым окнам и постепенно заслонял их, так что наконец от каждого окна оставалось внизу только углубление вроде колодца, а сверху прорывалась лишь узкая полоска света.
Я медленно подвигался вперед, с любопытством рассматривая машины. Я слишком углубился в это занятие и поэтому не заметил постепенного ослабления света, пока наконец все усиливающийся страх Уины не привлек моего внимания. Я заметил тогда, что галерея уходит прямо в непроглядную темноту.
Остановившись в нерешительности и осмотревшись вокруг себя, я увидел, что в этом месте слой пыли был тоньше и местами лежал неровно. Еще далее, в темноте, на пыльном полу как будто бы виднелись небольшие узкие следы ног. При виде их во мне возникло ощущение близости Морлоков. Я почувствовал, что даром теряю время на академическое исследование машин, и вспомнил о том, что полдень уже давно миновал, а я все еще остаюсь без оружия, убежища и средств для добывания огня.
Там, в дальнем темном конце галереи, я услышал тот же своеобразный шорох и те же странные звуки, как и тогда в глубине колодца.
Я взял Уину за руку. Но, осененный внезапной мыслью, я тотчас оставил ее и направился к машине, из которой торчал рычаг, похожий на те, какие употребляются на станциях при повороте сигнальных фонарей. Взобравшись на подставку и обеими руками ухватившись за рычаг, я всей своей тяжестью навалился на него. Уина, оставшись одна в центральном крыле здания, начала плакать. Я правильно рассчитал сопротивление рычага: он сломался после минутного усилия, и я вернулся к Уине с палицей в руке, более чем надежной для того, чтобы проломить череп любому Морлоку, который мог бы повстречаться на пути. А мне ужасно хотелось убить хотя бы одного из них! Быть может, вам эта жажда убийства одного из собственных потомков покажется бесчеловечной. Но к этим отвратительным существам как-то невозможно было относиться по-человечески. Только мое нежелание оставить Уину и полная уверенность, что может пострадать моя Машина Времени, если я примусь за избиение Морлоков, удержали меня от готовности тотчас же спуститься по галерее вниз и начать истребление копошившихся там тварей.
И вот, держа палицу в правой руке, а левой поддерживая Уину, я вышел из этой галереи и направился в другую – на вид еще большую, – которую на первый взгляд я принял за военную часовню, обвешанную лохмотьями знамен. Но скоро в этих коричневых и обуглившихся лоскутьях, которые висели по обеим ее сторонам, я узнал остатки истлевших книг. Уже давным-давно они развалились на куски, и на них не осталось даже и следов печати. Только кое-где валялись скорчившиеся корешки и треснувшие металлические застежки, достаточно понятно говорившие о своем прошлом назначении. Если бы я был писателем, может быть, при виде этого начал бы философствовать о тщете всякого честолюбия. Но так как я им не был, то меня всего сильнее поразила здесь потеря колоссального труда, о которой свидетельствовали эти мрачные груды истлевшей бумаги. Должен сознаться, впрочем, что в ту минуту я вспомнил о «Трудах Философского общества» и о своих собственных семнадцати статьях по оптике.
Поднявшись по широкой лестнице, мы вошли в новое помещение, которое, вероятно, было когда-то галереей прикладной химии. У меня была надежда сделать здесь полезные для себя открытия. За исключением одного угла, где обвалилась крыша, эта галерея прекрасно сохранилась. Я торопливо подходил к каждой неразбитой витрине и наконец в одной из них, закупоренной поистине герметически, нашел коробку спичек. Горя от нетерпения, я попробовал одну из них. Спички оказались совершенно годными: они нисколько не отсырели. Я повернулся к Уине.
«Танцуй!» – воскликнул я на ее родном языке.
Теперь действительно у нас было оружие против ужасных существ, которых мы боялись. И вот в этом заброшенном музее, на густом и мягком ковре пыли, к величайшему восторгу Уины, я принялся торжественно исполнять сложный танец, весело насвистывая песенку «Страна честных людей». Это был отчасти скромный канкан, отчасти полонез, отчасти серпантин (насколько позволяли это фалды моего сюртука) и отчасти мое собственное оригинальное сочинение. Вы знаете, что я по природе изобретателен.
Эта коробка спичек, которая сохранилась в продолжение бесчисленных лет, несмотря на разрушительное влияние времени, представляла собой самую необычайную, а для меня самую счастливую случайность. Было не менее странно, что я нашел другое неожиданное вещество – камфору. Я нашел ее в запечатанной банке, которая, я думаю, случайно была закупорена герметически. Сначала я принял ее за парафин и разбил склянку. Но запах камфоры был несомненен. Это летучее вещество при общем разрушении пережило, быть может, многие тысячи столетий. Это напомнило мне о виденном мною однажды рисунке, сделанном сепией, приготовленной из ископаемого белемнита, погибшего и ставшего окаменелостью, вероятно, миллионы лет тому назад. Я уже собирался выбросить камфору, как вдруг вспомнил, что она воспламеняется и горит прекрасным ярким пламенем, так что может быть чудесной свечкой! Я положил ее в свой карман. Но зато я нигде не нашел взрывчатых веществ или каких-либо других средств для взлома бронзовых дверей. Мой железный лом все же являлся самой полезной вещью, на которую я до сих пор наткнулся. Поэтому я с гордым видом вышел из галереи…
Не могу рассказать всего, что я видел в продолжение этого длинного дня. Нужно большое напряжение памяти, чтобы по порядку рассказать о всех моих изысканиях. Помню длинную галерею заржавевшего оружия и свои размышления: не выбрать ли мне топор или саблю вместо моего лома? Я не мог унести с собой и то и другое, а мой железный лом был более пригоден для взлома бронзовых дверей. Здесь было множество ружей, пистолетов и винтовок. Большинство из них было совершенно съедено ржавчиной, но многие, сделанные из какого-то нового металла, еще прекрасно сохранились. Патроны и порох давно уже превратились в пыль. Обгорелый угол галереи был совершенно разрушен: вероятно, это произошло вследствие взрыва находившихся здесь патронов.
В другом месте находилась большая коллекция идолов: полинезийских, мексиканских, греческих, финикийских и всех других стран земного шара. И тут, уступая какому-то неопределенному желанию, я написал свое имя на носу каменного урода из Южной Америки, особенно поразившего мое воображение.
С приближением вечера мой интерес ослабел. Одну за другой я проходил галереи, пыльные, безмолвные, часто разрушенные, все содержимое которых представляло по временам груды ржавчины и бурого угля. В одном месте я неожиданно наткнулся на модель рудника, а затем, также совершенно случайно, нашел в плотно закупоренной витрине два динамитных патрона.
«Эврика!» – воскликнул я и с радостью разбил витрину.
Но вдруг на меня напало сомнение. Я остановился в раздумье. Выбрав маленькую боковую галерею, я сделал опыт. Никогда в жизни не чувствовал я такого разочарования, как в те пять-десять минут, когда ждал взрыва и ничего не дождался. Без сомнения, это были модели, как я мог бы догадаться уже по их виду. Уверен, что, не будь этого, я тотчас бы кинулся к Белому Сфинксу и отправил бы его одним взрывом в небытие вместе с его бронзовыми дверями и (как оказалось впоследствии) со всеми моими шансами получить обратно Машину Времени.
После этого, насколько я могу припомнить, мы вышли в маленький открытый дворик, находившийся внутри главного здания. Среди зеленой травы росли три фруктовых дерева. Здесь мы отдохнули и подкрепились. Приближалось время заката, и я принялся обдумывать наше положение. Ночь уже надвигалась, а безопасное убежище все еще не было найдено. Однако теперь это меня мало тревожило. В моих руках находилась вещь, которая была, быть может, лучшей защитой от Морлоков: у меня были спички! На случай, если бы понадобился яркий свет, у меня в кармане была камфора. Самое лучшее, что мы могли сделать, это, казалось мне, провести ночь на открытом месте под защитой костра. А наутро я хотел приняться за розыски Машины Времени. Пока для этой цели у меня был только железный лом. Но теперь, лучше зная обстоятельства дела, я совершенно иначе относился к бронзовым дверям. До сих пор я не хотел их ломать, не зная, что находилось по другую их сторону. Они никогда не казались мне очень прочными, и я надеялся, что мой железный лом окажется вполне пригодным для этого.
Мы вышли из Зеленого Фарфорового Дворца, когда солнце уже наполовину спряталось за горизонт. На следующий день, рано утром, я решил вернуться к Белому Сфинксу, теперь же до наступления темноты предполагал пробраться через лес, задержавший меня в прошлый раз. В этот вечер я рассчитывал пройти возможно большее расстояние, а затем, устроив себе костер, улечься спать под защитой огня. Дорогой я принялся собирать сучья и сухую траву и скоро набрал целую охапку. С таким грузом мы подвигались вперед медленнее, чем я предполагал, и к тому же Уина очень утомилась. Мне тоже ужасно хотелось спать. Когда мы дошли до леса, наступила полная темнота. Из страха перед мраком Уина хотела остаться на склоне холма перед опушкой леса, но ощущение опасности толкало меня вперед, вместо того чтобы образумить и остановить. Я не спал всю ночь и два дня находился в лихорадочном, раздраженном состоянии. Я чувствовал, что сон подкрадывается ко мне, а вместе с ним и Морлоки.
Пока мы стояли в нерешительности, я увидел сзади на темном фоне кустов три черные притаившиеся фигуры. Нас окружали высокая трава и мелкий кустарник, и потому мы не были защищены от их коварного приближения. Чтобы пересечь лес, надо было, по моим расчетам, пройти менее мили. Мне казалось, что если бы нам удалось дойти до открытого склона, то мы нашли бы там совершенно безопасное место для отдыха. Своими спичками и камфорой я рассчитывал освещать дорогу. Но, чтобы зажигать спички, я, очевидно, должен был бросить все сучья, набранные мною для костра. Волей-неволей мне пришлось это сделать. И тут у меня невольно возникла мысль, что я могу позабавить наших друзей, устроив для них иллюминацию. Впоследствии я понял, какое ужасное безумие заключалось в этом поступке, но тогда он показался мне остроумным маневром для прикрытия нашего отступления.
Не знаю, думали ли вы когда-нибудь о том, какой редкостью является пламя в умеренном климате, если только оно не вызвано руками человека. Солнечный жар редко достигает такой силы, чтобы зажечь какое-нибудь дерево даже в том случае, если его лучи сосредоточены в каплях росы, как в зажигательных стеклах, что иногда случается в тропических странах. Молния поражает и убивает, но редко служит причиной большого пожара. Гниющая растительность может иногда тлеть от теплоты внутренних химических реакций, но редко производит пламя. А в этот период упадка на земле было позабыто даже искусство добывания огня. Красные языки, которые принялись лизать груду хвороста, были для Уины чем-то совершенно новым и поразительным.
Она хотела подбежать и поиграть с ними. Я думаю даже, что она бросилась бы в огонь, если бы я не удержал ее. Я схватил ее и, несмотря на сопротивление, смело бросился в лес. Некоторое время огонь костра освещал нам дорогу. Потом, оглянувшись назад, я мог видеть сквозь частые стволы деревьев, как огонь перешел на ближайшие кустарники, и змеистая линия пламени поползла вверх по траве холма. Я засмеялся при виде такого сюрприза для Морлоков и снова повернулся к темным деревьям. Там была совершенная тьма; Уина конвульсивно прижалась ко мне, но мои глаза успели освоиться с темнотой, и я достаточно видел, чтобы не натыкаться на стволы деревьев. Над головой было совсем черно, и только кое-где над нами сиял клочок неба. Я не зажигал спичек, потому что руки мои были заняты. На левой руке сидела моя малютка, а в правой я держал свой железный лом.
Некоторое время я не слышал ничего, кроме треска веток под ногами, легкого шелеста ветра вверху, своего дыхания и биения сердца. Затем я услышал за собой топот ног, но упрямо продолжал идти вперед. Топот становился все отчетливее и вместе с ним долетали те же странные звуки и голоса, которые я уже слышал в Подземном Мире. Очевидно, за нами гнались Морлоки. Действительно, в следующее же мгновение я почувствовал, как кто-то дернул меня за платье, а потом за руку. Уина задрожала и притихла.
Необходимо было зажечь спичку. Но, чтобы достать ее, я должен был спустить Уину на землю. Я так и сделал, но пока я рылся в кармане, около моих ног в темноте завязалась борьба. Уина молчала, и только Морлоки что-то бормотали. Чьи-то маленькие мягкие руки скользнули по моей спине и даже прикоснулись к моей шее. Спичка чиркнула и зашипела. Я подождал, пока она не разгорелась, и тогда увидел белые спины убегавших между деревьями Морлоков. Поспешно вынув из кармана кусок камфоры, я приготовился его зажечь, как только начнет потухать спичка. Я взглянул на Уину. Она лежала, обняв мои ноги, совершенно неподвижная, лицом к земле. Со страхом я наклонился над ней. Казалось, она едва дышала. Я зажег кусок камфоры и бросил его на землю; расколовшись, он ярко запылал и отогнал от нас Морлоков и ночные тени. Я стал на колени и поднял Уину. В лесу, позади нас, слышался шум и бормотание огромной толпы!
По-видимому, Уина лишилась чувств. Я осторожно положил ее на плечо, встал и собрался идти дальше, но вдруг ясно понял безвыходность положения. В хлопотах со спичками и Уиной я сделал несколько поворотов и теперь не имел ни малейшего представления о том, куда надо идти. Может быть, я снова шел назад к Зеленому Фарфоровому Дворцу. Холодный пот выступил у меня на лбу. Нельзя было терять времени; надо было что-нибудь предпринять. Я решил развести костер и остаться на месте. Положив все еще неподвижную Уину на мшистый пень, я принялся торопливо собирать палки и листья, пока догорал мой первый костер из камфоры. Вокруг меня то тут, то там, подобно карбункулам, светились из темноты глаза Морлоков.
Камфора в последний раз вспыхнула и погасла. Я зажег спичку и увидел, как две белые фигуры, приближавшиеся к Уине, поспешно бросились прочь. Одна из них была так ослеплена светом, что прямо натолкнулась на меня, и я почувствовал, как под ударом моего кулака хрустнули кости одного из Морлоков. Он закричал от ужаса, сделал, шатаясь, несколько шагов и упал. Я зажег другой кусок камфоры и принялся собирать хворост для костра. Скоро я заметил, что листва совершенно сухая, так как со времени моего прибытия, то есть в продолжение недели, ни разу не было дождя. Я перестал разыскивать между деревьями упавшие сучья и начал вместо этого прыгать и обламывать ближайшие ветви деревьев. Скоро загорелся удушливо дымящий костер из свежего дерева и сухих сучьев, и я сберег остаток камфоры. Я повернулся к тому месту, где рядом с моей железной палицей лежала Уина. Я всеми силами старался привести ее в чувство, но она лежала как мертвая. Я не мог даже убедиться, дышала она или нет.
Пламя костра дуло мне прямо в лицо, и голова моя отяжелела от дыма и тяжелого запаха камфоры. Костра должно было хватить более чем на час. Чувствуя себя очень усталым после работы, я присел. Мне показалось, что по лесу носился какой-то сонливый шепот, причины которого я не мог понять. Мне казалось, что я вздремнул на мгновение, и тотчас же открыл глаза. Вокруг меня была темнота, и руки Морлоков касались моего тела. Стряхнув с себя их цепкие пальцы, я торопливо принялся искать в кармане коробку спичек, но ее не оказалось! Они снова схватили меня, окружив со всех сторон. В одну секунду я сообразил, что случилось. Я заснул, костер погас… Меня охватил смертельный ужас. Весь лес, казалось, был наполнен запахом гари. Меня схватили за шею, за волосы, за руки и старались повалить на землю. Ужасны были в темноте прикосновения этих мягкотелых созданий, облепивших меня. Мне казалось, что я попал в какую-то чудовищную паутину. Они пересилили меня, и я упал. Чьи-то маленькие зубы впились в мою шею. Я перевернулся, и в то же мгновение рука моя наткнулась на железный рычаг. Это придало мне силы. Стряхнув с себя эту кучу человекообразных крыс, я вскочил и, размахнувшись ломом, принялся бить им всюду, где, по моим расчетам, должны были находиться их лица. Я слышал, как под моими ударами обмякали их тела, как хрустели их кости. На минуту я освободился.
Мною овладело то странное возбуждение, которое, говорят, так часто приходит во время боя. Я знал, что мы оба с Уиной погибли, но решил дорогой ценой продать Морлокам их пищу. Я стоял, опираясь спиной о дерево и размахивая перед собой своей железной палицей. Весь лес был наполнен криками Морлоков. Прошла минута. Голоса их, казалось, достигали своего высшего напряжения, движения их становились все быстрее и быстрее. Но никто из них не подходил ко мне близко. Я все время стоял на месте, стараясь что-нибудь увидеть в темноте. В мою душу закралась надежда: что, если Морлоки испугались?
Но тут произошло нечто необычайное. Казалось, что окружающий меня мрак стал проясняться. Я смутно начал различать фигуры Морлоков, – трое из них лежали у моих ног, – вместе с тем я увидел, что остальные непрерывным потоком бежали мимо меня все дальше, в глубь леса. Спины их казались не белыми, а красноватыми. Пока я стоял в недоумении, я увидел красную точку, бегущую между ветвями деревьев, освещенных светом звезд. Я сразу понял причину запаха гари, однообразного шороха, переходившего теперь в страшный рев, красного зарева и бегства Морлоков.
Отойдя и оглянувшись назад, я увидел между черными стволами ближайших деревьев пламя лесного пожара. Это меня догонял мой первый костер. Я искал Уину, но ее не было. Свист и шипение позади, треск загоревшихся ветвей – все это не оставляло времени для размышлений. Схватив свой железный лом, я побежал за Морлоками. Пламя следовало за мною по пятам. Пока я бежал, оно так быстро перегнало меня справа, что я оказался отрезанным и бросился влево. Наконец я выбежал на небольшое открытое место. Один из Морлоков, ослепленный светом, наткнулся на меня и промчался мимо прямо в огонь!
Вслед за этим мне пришлось наблюдать самое потрясающее зрелище из всех, какие я только видел в будущем веке. От зарева стало светло как днем. В середине огненного моря находился холмик или курган, на вершине которого рос полузасохший боярышник. Сзади, в лесу, уже вырывались желтые языки пламени, и все пространство казалось окруженным огненной оградой. На склоне холма толпилось около тридцати или сорока Морлоков, ослепленных пламенем, метавшихся и натыкавшихся в замешательстве друг на друга. Сначала я забыл об их слепоте и при каждом их приближении в безумном страхе принимался яростно наносить им удары своим ломом. Я убил одного и искалечил многих. Но, обратив внимание на жест одного Морлока, ощупью пробиравшегося в багровом свете между ветвями боярышника, и услыхав их стоны, я убедился в их полной беспомощности и отчаянии и не трогал уже больше никого.
Иногда некоторые из них натыкались на меня и выражали такой безграничный ужас, что я быстро давал дорогу. Однажды, когда пламя стало немного погасать, на меня напал страх, что эти гнусные существа скоро меня увидят. Я даже подумывал о том, не убить ли мне нескольких из них, прежде чем это случится; но пламя снова ярко вспыхнуло, и я удержался. Я бродил между ними по холму, уклоняясь от столкновений, и отыскивал какие-нибудь следы Уины. Но Уина исчезла.
Я присел наконец на вершине холма и стал смотреть на это необычайное собрание слепых существ, ощупью бродящих и перекликающихся друг с другом нечеловеческими голосами при вспышках пламени. Огромные клубы дыма плыли по небу, и сквозь редкие прорывы красноватого покрова сияли звезды, такие далекие, как будто бы они принадлежали иной вселенной. Два или три Морлока сослепу наткнулись на меня, и я, задрожав, оттолкнул их ударами кулаков.
В продолжение большей части ночи мне казалось, что все происходящее – кошмар. Я кусал себе руки и кричал в страстном желании проснуться; бил кулаками по земле, вставал и снова садился, бродил взад и вперед и опять садился на землю. Я тер глаза, умолял Бога дать мне проснуться. Раза три я видел, как Морлоки, опустив голову, в агонии кидались в пламя. Наконец над утихшим заревом пожара, над клубами черного дыма, над почерневшими стволами деревьев и над ничтожным остатком этих ночных существ блеснули первые лучи рассвета.
Я снова принялся искать Уину, но нигде ее не нашел. По-видимому, ее бедное маленькое тельце осталось в лесу. Все же она избегла той ужасной участи, для которой, казалось, была предназначена. При этой мысли я чуть снова не принялся за избиение окружавших меня беспомощных отвратительных созданий, но потом сдержался. Холмик, как я сказал, представлял собой что-то вроде острова в лесу. С его вершины сквозь пелену дыма я теперь мог разглядеть Зеленый Фарфоровый Дворец и определить путь к Белому Сфинксу…
Когда окончательно рассвело, я покинул останки этих проклятых существ, все еще стонавших и бродивших ощупью, обвязал травой ноги и по дымящемуся пеплу, среди черных стволов, около которых еще трепетал огонь, поплелся к тому месту, где была скрыта Машина Времени. Я шел медленно, так как почти выбился из сил, и, кроме того, хромал, и чувствовал себя глубоко несчастным от воспоминаний об ужасной смерти бедной Уины. Горе подавляло меня. Теперь, сидя в этой старой, знакомой мне комнате, потеря Уины кажется мне скорее тяжелым сном, чем настоящей утратой. Но в то утро я был снова совершенно одинок, ужасно одинок. Я вспомнил о моем домашнем очаге, о друзьях, о некоторых из вас, и меня охватила страстная, мучительная тоска.
Но пока я шел по дымящемуся пеплу под ясным утренним небом, я сделал одно открытие. В карманах своих брюк я нашел несколько спичек. По-видимому, коробка разломалась, прежде чем ее у меня похитили.
К восьми или девяти часам утра я добрался до той самой скамьи из желтого металла, откуда в первый вечер своего прибытия оглядывал окружающий меня мир. Я не мог удержаться и горько посмеялся над своей самоуверенностью, вспомнив, к каким необдуманным выводам я пришел в тот вечер. И теперь передо мною расстилалась та же дивная картина, та же роскошная растительность, те же чудесные дворцы и великолепные руины, та же серебристая гладь реки, катившейся вдаль между плодородными берегами. Кое-где среди деревьев мелькали яркие одежды очаровательно-прекрасных маленьких людей. Некоторые из них купались в том же самом месте, где я спас Уину, и у меня больно сжалось сердце. И вот над всем этим чудесным ландшафтом, подобно черным пятнам, подымались купола, прикрывающие спуски в подземный мир. Я понял теперь, что прикрывала собою красота жителей Верхнего Мира. Как весел был их день! Так весел, как день скота, пасущегося в поле. Подобно скоту, они не знали врагов и не заботились ни о каких нуждах. И таков же был их конец.
Мне стало горько при мысли о том, как кратковременно было торжество человеческого разума, который совершил самоубийство. Люди упорно стремились к благосостоянию и довольству, к тому общественному строю, лозунгом которого была обеспеченность и неизменность жизни; они достигали цели, к которой стремились, и только для того, чтобы прийти к такому концу… Когда-то Человечество достигло такого положения, когда жизнь и собственность оказались в полной безопасности. Богатый знал, что его благосостояние и комфорт обеспечены, а бедный довольствовался тем, что ему обеспечены жизнь и труд. Без сомнения, в таком мире не было ни проблемы безработицы, ни нерешенных социальных вопросов. А за всем этим последовал великий покой.
Мы забываем о законе природы, гласящем, что гибкость ума является возмещением за опасности, заботы и изменчивость жизни. Животное, живущее в совершенной гармонии с окружающими условиями, превращается в простую машину. Природа никогда не прибегает к разуму до тех пор, пока ей служат привычка и инстинкт. Там, где нет перемен и нет необходимости в переменах, разум бездействует. Только те животные обладают им, которые сталкиваются со всевозможными нуждами и опасностями.
Таким путем человек Верхнего Мира пришел к своей беспомощной красоте, а человек Подземного Мира – к своему чисто механическому труду. Но даже и для этого уравновешенного положения вещей, при всем его механическом совершенстве, недоставало одного – полной неизменности. Продукты питания Подземного Мира истощились. И вот Мать-Нужда, сдерживаемая в продолжение нескольких тысячелетий, появилась снова и начала снизу свою работу. Жители Подземного Мира, постоянно приходя в соприкосновение со сложными машинами, что все-таки, помимо привычки, требовало некоторой работы мысли, невольно удержали в своей озверелой душе больше человеческой инициативы, чем жители земной поверхности. И когда их обычная пища пришла к концу, они обратились к тому, чего до сих пор не допускали их старые привычки. Вот как представилось мне положение вещей при моем последнем обзоре мира в 802701 году. Это объяснение, быть может, ошибочно, поскольку вообще нам свойственно ошибаться. Но таково мое мнение, и я передаю его вам.
После трудов и ужасов последних дней, несмотря на всю мою печаль о бедной Уине, эта скамья, и мирный ландшафт, и теплый солнечный свет все-таки показались мне очень приятными. Я ужасно устал, меня клонило ко сну, и мои философствования перешли скоро в дремоту. Поймав себя на этом, я последовал указаниям природы и, растянувшись на дерне, подкрепился долгим и освежающим сном.
Я проснулся незадолго до заката солнца. Теперь я уже не боялся, что Морлоки могут захватить меня спящим. Расправив члены, спустился с холма и направился к Белому Сфинксу. В одной руке я держал свой лом, другой перебирал спички, находившиеся в кармане.
И вот там меня ждала самая большая неожиданность. Приблизившись к Белому Сфинксу, я увидел, что обе половинки бронзовых дверей открыты и спущены в особые пазы.
Я остановился перед ними, не решаясь войти.
Внутри находилось небольшое помещение, и в углу на возвышении стояла Машина Времени. Маленькие рычаги находились у меня в кармане. Итак, здесь, после всех моих тщательных приготовлений к осаде Белого Сфинкса, меня ожидала покорная сдача. Я отбросил железный лом, почти недовольный тем, что не пришлось им воспользоваться.
Вдруг в ту самую минуту, когда я уже наклонился, чтобы войти в двери, меня осенила внезапная мысль. Я сразу понял несложные соображения Морлоков. С трудом удерживаясь от смеха, я перешагнул через бронзовую раму дверей и направился к Машине Времени. К своему удивлению, я увидел, что она была тщательно смазана и вычищена. Впоследствии мне приходило в голову, что Морлоки даже разбирали машину по частям, стараясь своим слабым разумом понять ее назначение.
И вот, пока я стоял и разглядывал ее, чувствуя удовольствие при одном прикосновении к механизму, случилось то, чего я ожидал. Бронзовые панели скользнули вверх и с треском ударились о раму. Я был пойман в темную клетку. Так, по крайней мере, думали Морлоки. При этой мысли я только весело рассмеялся. Со своим своеобразным журчащим смехом они уже бежали ко мне. Сохраняя полное хладнокровие, я начал зажигать спичку. Мне оставалось только укрепить рычаги и умчаться от них подобно призраку. Но я упустил из виду одно маленькое обстоятельство. Спички были того отвратительного сорта, который зажигается только о коробки.
Можете себе представить, как мгновенно исчезло мое спокойствие. Маленькие твари уже окружили меня. Кто-то прикоснулся ко мне. Я стремительно отпихнулся от них в темноте свободным стержнем и принялся влезать на сиденье. Меня схватила рука, а вслед за ней и другие. Мне пришлось буквально отбивать свои рычаги от их упорно цеплявшихся пальцев и в то же время ощупывать концы осей, на которые они надевались. Один раз Морлоки почти вырвали рычаг у меня. Когда он выскользнул у меня из рук, мне пришлось, чтобы найти его на полу в темноте, отбиваться от них своей головой. От моих ударов трещали черепа Морлоков. Мне кажется, эта последняя схватка была еще тяжелее, чем битва в лесу.
В конце концов рычаги были укреплены и повернуты. Цепкие руки соскользнули с моего тела. Темнота исчезла из моих глаз. Ничего, кроме того сероватого света и шума, о которых уже говорил вам раньше.
Я рассказывал вам о болезненных и смутных ощущениях, которые вызывает путешествие по Времени. На этот раз я, кроме того, плохо сидел, свесившись набок и находясь в неустойчивом равновесии. Не знаю, долго ли я провисел таким образом, совершенно не замечая, как моя Машина дрожала и раскачивалась. Когда я пришел в себя и снова посмотрел на циферблаты, меня поразило время, в котором я очутился. На одном из циферблатов отмечались дни, на другом тысячи, на третьем миллионы и на четвертом миллиарды дней. Оказалось, что вместо того, чтобы дать рычагам обратное движение, я нажал их таким образом, что Машина помчалась вперед. Когда я взглянул на указатели, я увидел, что стрелка, отмечающая тысячи дней, вертелась с быстротой секундной стрелки – по пути в Будущее.
По мере моего движения все окружающее стало принимать какой-то необыкновенный вид. Дрожащий серый хаос стал темнее; затем, – хотя я все еще продолжал двигаться с изумительной быстротой, – снова настала мерцающая смена ночи и дня, означавшая обычно не очень быстрое движение Машины. Это чередование становилось все более и более медленным и отчетливым. Сначала я очень удивился. День и ночь все медленнее сменяли друг друга, солнце также постепенно замедляло свое движение по небу, пока наконец день и ночь не стали продолжаться целыми столетиями. В конце концов над землей навис полусвет, сумерки, которые только по временам прорывались ярким светом мчащейся по темному небу кометы. Полоса света, отмечавшая солнце, исчезла; солнце больше не закатывалось – оно просто поднималось и опускалось на западе и становилось все более огромным и кровавым. Звезды, которые медленно описывали свое круговое движение, превратились из сплошной полосы света в отдельные, ползущие по небу точки.
Наконец, незадолго до того как я остановился, солнце, кровавое и огромное, застыло над горизонтом. Оно имело вид огромного купола, горящего тусклым огнем и по временам на мгновения совершенно потухающего. Раз оно снова запылало ярким огнем, но затем быстро приобрело свой угрюмо-красный цвет. По этим прекратившимся восходам и закатам солнца я заключил, что замедляющая вращение земли работа приливов и отливов завершила наконец свое действие. Земля была обращена к солнцу одной стороной, точно так же, как в наше время к земле обращена луна. Помня свое предыдущее стремительное падение, я с большой осторожностью принялся замедлять движение Машины. Стрелки стали описывать свои круги все медленнее и медленнее, пока наконец тысячедневная стрелка не стала неподвижно, а дневная уже перестала казаться сплошным туманом. Я еще более замедлил движение, и передо мною стали вырисовываться смутные очертания пустынного берега.
Наконец я остановился и, сидя в Машине Времени, огляделся вокруг. На небе уже не было прежней лазури. На северо-востоке оно было черно, как чернила, и из глубины этого мрака ярким и неизменным светом сияли бледные звезды. Над головой небо было темно-красное и без звезд, а к юго-западу светлело и переходило в яркий пурпур, и там, пересеченное линией горизонта, кровавое и неподвижное, огромной горой лежало солнце. Окружающие меня скалы были темно-коричневого цвета, и единственным признаком жизни, который я увидел сначала, была темно-зеленая растительность, покрывавшая все юго-западные выступы скалы. Эта густая обильная зелень походила на древесный мох или лишайники, растущие в пещерах, на растения, которые живут и развиваются в постоянной полутьме.
Моя Машина стояла на отлогом берегу. К юго-западу расстилалось море вплоть до черты горизонта, резко выступавшей под бледным небом. На море не было ни прибоя, ни волн, так как не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Только слабая ровная зыбь слегка подымалась и опускалась, море как будто тихо дышало, и это показывало, что океан сохранил еще часть своей жизни. Вдоль берега, там, где вода отступала, виднелась кора соли, красноватая от блеска солнца.
Голова моя была как будто налита свинцом, и я заметил, что очень быстро дышу. Это ощущение напомнило мне мою единственную попытку восхождения на горы, и отсюда я заключил, что атмосфера была более разрежена, чем прежде.
Вдали, на туманном берегу, я услышал пронзительный писк и увидел нечто похожее на огромную белую бабочку. Неровно порхая, она взлетела и, описав несколько кругов, исчезла за невысокими холмами. Писк ее был таким зловещим, что я невольно вздрогнул и поплотнее уселся в своем седле. Оглянувшись снова, я увидел: то, что я принимал за красноватую скалу, медленно приближалось ко мне. Это было чудовищное существо, похожее на краба.
Представьте себе краба величиною с этот стол, с множеством медленно и нерешительно движущихся ног, с огромными волочащимися клешнями, длинными шевелящимися щупальцами и стебельчатыми глазами, сверкающими с обеих сторон его отсвечивающего металлом лба! Спина его была вся в складках и выступах, местами покрытых зеленоватым налетом. Я видел, как шевелились и дрожали многочисленные щупальца его сложного рта.
Пока я с ужасом смотрел на это подползавшее ко мне зловещее видение, я почувствовал щекотание на щеке. Казалось, будто на нее села муха. Я попытался прогнать ее движением руки, но в следующее мгновение это ощущение возобновилось и почти одновременно с ним я почувствовал такое же щекотание возле моего уха. Я отмахнулся и поймал нечто похожее на нитку. Она была быстро выдернута из моей руки. Дрожа от ужаса, я обернулся и увидел, что схватил щупальца другого чудовищного краба, находившегося как раз за моей спиной. Его свирепые глаза вращались в орбитах, его рот весь двигался от предвкушения добычи, его огромные неуклюжие клешни, вымазанные слизью водорослей, были направлены прямо на меня! В одно мгновение моя рука очутилась на рычаге, и между мною и этими чудовищами легло расстояние целого месяца времени. Но я все еще находился на том же берегу и, как только остановился, снова ясно увидел тех же самых чудовищ. Целые дюжины их ползали взад и вперед под мрачным небом, посреди темной зелени мхов и лишайников.
Не могу передать вам ощущения того страшного запустения, какое царило над миром. На востоке – багровое небо, на севере – темнота, мертвое соленое море, каменистый берег, на котором ползали эти мерзкие, медленно передвигавшиеся чудовища. Однообразная, как бы ядовитая зелень лишайников, разреженный воздух, вызывающий боль в легких, – все это производило подавляющее впечатление! Я перенесся на столетие вперед и увидел то же самое багровое солнце – только немного больше и тусклее, – тот же умирающий океан, тот же холодный воздух и то же множество земноводных ракообразных, ползающих посреди красных и зеленых лишайников. А в западной части неба я увидел бледную изогнутую линию, похожую на огромную нарождающуюся луну.
Так продолжал я передвигаться по времени огромными шагами, каждый в тысячу лет и больше, увлекаемый тайной последних дней земли и наблюдая в состоянии какого-то гипноза, как в западной части неба солнце становится все огромнее и тусклее и как убывает жизнь на престарелой земле. Наконец больше чем через тридцать миллионов лет огромный красный купол солнца заслонил собою десятую часть потемневших небес. Я остановился еще раз, так как многочисленные ползающие крабы уже исчезли, а красноватый берег казался безжизненным, за исключением мертвенно-бледных печеночников и лишаев. Местами его покрывали снежные пятна. Ужасный холод охватил меня. Редкие белые хлопья медленно падали на землю. На северо-востоке блестел снег под звездным светом траурного неба и виднелись волнистые вершины красновато-белых холмов. Берег моря был окаймлен льдом, и его огромные глыбы уносились на широкий простор; однако большая часть соленого океана, кровавая от лучей неугасающего заката, еще не замерзла.
Я оглянулся вокруг, ища каких-нибудь следов животной жизни. Необъяснимое опасение все еще удерживало меня в седле Машины. Но ни на небе, ни на море, ни на земле я не увидел ничего живого. Зеленая тина, покрывавшая скалы, одна свидетельствовала об еще не умершей жизни земли. Море уже отступило от своих прежних берегов. Мне показалось, что я увидел на этой отмели какой-то движущийся предмет, но как только я попристальнее взглянул на него, он сделался неподвижным; я решил, что зрение обмануло меня и что этот черный предмет был только камнем. На небе удивительно ярко горели звезды, и мне казалось, что они почти перестали мерцать.
Внезапно я увидел, что круглый контур Солнца на западе стал изменяться. На его краю появилась какая-то трещина или углубление. Оно все более и более увеличивалось. С минуту я в ужасе смотрел на эту наползавшую на Солнце темноту, а затем понял, что это начинается затмение. Должно быть, Луна или Меркурий проходили перед диском Солнца. Понятно, что сначала я подумал о Луне, но ряд соображений привел меня к заключению, что в действительности это было очень близкое к Земле прохождение перед Солнцем одной из внутренних планет.
Быстро надвигалась темнота. Восточный ветер задул холодными порывами, и в воздухе закружились снежные хлопья. Шум и всплески волн донеслись до меня от берега моря. За исключением этих безжизненных звуков, весь мир был полон безмолвия. Безмолвия? Нет, невозможно описать царившую в нем тишину. Все звуки человеческой жизни, блеяние овец, голоса птиц, жужжание насекомых, все то движение и суета, которые служат фоном нашей собственной жизни, – все это отошло в прошлое.
По мере того как мрак сгущался, снег падал все гуще, и хлопья плясали перед моими глазами. Мороз усиливался. Одна за другой погружались в темноту белые вершины далеких холмов. Легкий ветер перешел в ревущую бурю. Я видел черную тень затмения, бегущую на меня по земле. В следующее мгновение на небе остались одни только бледные звезды. Кругом была непроглядная тьма. Небо было совершенно черно.
Ужас перед этой великой тьмой охватил все мое существо. Холод, пронизывающий до мозга костей, и боль при дыхании стали совершенно невыносимы. Я весь дрожал и чувствовал сильную тошноту. Затем, подобно докрасна раскаленной дуге, на небе снова появилось солнце. Я слез с Машины, чтобы немного прийти в себя. Голова моя кружилась, и я не был в силах даже подумать об обратном путешествии.
И вот пока я стоял, растерянный и больной, я снова увидел на отмели, на красном фоне окружающей ее морской воды, тот же самый движущийся предмет. Теперь не оставалось сомнения, что этот предмет действительно двигался. Это было нечто круглое, величиною с футбольный мяч, а может быть, и больше, и с него хвостами свисали длинные щупальца; этот мяч казался черным на колыхавшейся кроваво-красной воде и передвигался беспокойными прыжками. Я почувствовал, что начинаю терять сознание. Но ужас при мысли остаться беспомощным в этой далекой и страшной полутьме дал мне силу снова взобраться на сиденье.
Так я отправился назад. Долгое время я лежал без чувств на своей Машине. Снова началась мерцающая смена дней и ночей, снова золотом заблистало солнце, а небо – своей прежней лазурью. Дышать стало легче. Внизу подо мной быстро изменялись контуры земли. Стрелки на циферблатах вертелись в обратную сторону. Я снова увидел неясный контур зданий периода упадка человечества. Они изменялись и исчезали, и появлялись другие. Когда циферблат миллионов дней стал на нуле, я уменьшил скорость Машины. Я стал узнавать нашу обычную архитектуру. Тысячедневная стрелка возвращалась ко времени своего отправления, ночь и день сменяли друг друга все медленнее и медленнее. Старые стены лаборатории снова замкнулись вокруг меня. Еще более осторожно я замедлил движение механизма.
Странная вещь произошла со мной. Я уже говорил вам, что когда я отправился в путь и еще не достиг большой скорости, через комнату промчалась миссис Уотчет, как мне казалось, с быстротой ракеты. Когда же я возвратился, я снова прошел через ту же минуту времени, в которую она проходила по лаборатории. Но теперь каждое ее движение казалось мне точной противоположностью предыдущего. Сначала открылась вторая дверь на дальнем конце комнаты. Миссис Уотчет, спиной вперед, тихо скользнула в лабораторию и исчезла за первой дверью, в которую она вошла в тот раз. Незадолго перед этим мне показалось, что я вижу Хилльера, но он промчался мгновенно, как вспышка света.
Я остановил Машину и снова увидел вокруг себя свою любимую лабораторию, свои инструменты и все окружающее, каким я их оставил. Совершенно разбитый, я сошел с Машины и сел на скамью. Сильная дрожь пробегала по моему телу. Понемногу я начал приходить в себя. Моя мастерская была точно такой же, как всегда. Мне казалось, что я спал и что все это я видел во сне.
Но нет! Не все было по-прежнему. Машина Времени отправилась в путешествие из юго-восточного угла лаборатории; она вернулась в северо-западный, против той стены, у которой вы ее видели. Точно такое же расстояние было от маленькой лужайки до пьедестала Белого Сфинкса, в котором Морлоки спрятали мою Машину!
Не знаю, сколько времени я был не в состоянии ни о чем думать. Наконец я встал и, хромая, прошел сюда через коридор. Пятка моя еще болела, костюм был перепачкан в грязи. На столе около двери я увидел номер «Пэлл Мэлл газетт». Она была помечена сегодняшним числом. Взглянув на часы, я увидел, что было около восьми. До меня донеслись ваши голоса и звон тарелок. Я не сразу решился войти: так был слаб и утомлен! Но я почувствовал приятный запах обеда и открыл дверь. Остальное вы знаете. Я умылся, пообедал и теперь рассказываю вам свою историю.
– Знаю, – сказал он, немного помолчав, – все это кажется вам совершенно невероятным; для меня же единственная невероятная вещь заключается в том, что сегодня вечером я сижу здесь, в этой старой и знакомой комнате, смотрю на ваши дружеские лица и рассказываю вам свои приключения.
Он взглянул на Доктора:
– Нет, я даже не ожидаю, что вы поверите мне. Примите мой рассказ за ложь или… пророчество. Скажите себе, что я видел это во сне, в своей лаборатории. Представьте себе, что я раздумывал о грядущих судьбах людей до тех пор, пока не придумал эту сказку. Отнеситесь к моему уверению в ее достоверности как к простой уловке, желанию придать ей больше интереса. Но, относясь к моим словам как к простому рассказу, что вы думаете о нем?
Он вынул изо рта трубку и начал по старой привычке нервно постукивать ею о прутья каминной решетки.
Наступила минутная тишина. Затем послышался скрип стульев и ерзанье ног на полу. Я отвел глаза от лица Путешественника по Времени и взглянул на его слушателей. Все они сидели в тени, и искры света камина бродили по их лицам. Доктор был, по-видимому, погружен в созерцание лица рассказчика. Редактор пристально смотрел на кончик своей шестой сигары. Журналист вертел в руках часы. Остальные, насколько помню, сидели неподвижно.
Глубоко вздохнув, Редактор встал.
– Какая жалость, что вы не пишете рассказов, – сказал он, кладя руку на плечо Путешественника по Времени.
– Вы не верите?
– Ну, знаете…
– Я так и думал.
Путешественник по Времени повернулся к нам.
– Где спички? – спросил он.
Он зажег спичку и, дымя трубкой, произнес:
– По правде сказать, я и сам верю с трудом, и все же…
Его глаза с немым вопросом устремились на белые увядшие цветы, лежавшие на столе. Затем я увидел, как он повернул руку, в которой была трубка, и посмотрел на полузажившие шрамы на своих пальцах.
Доктор встал, подошел к лампе и принялся разглядывать цветы.
– Какой странный пестик, – сказал он.
Психолог нагнулся вперед и протянул руку за одним из цветков.
– Ручаюсь головой, что уже четверть первого, – сказал Журналист. – Как это мы доберемся до дому?
– Около вокзала много извозчиков, – сказал Психолог.
– Странная вещь, – произнес Доктор. – Я не могу определить семейство этих цветов. Не позволите ли мне взять их с собою?
На лице Путешественника по Времени отразилась минутная нерешительность.
– Конечно, нет, – вдруг произнес он.
– Нет, серьезно, откуда вы достали их? – спросил Доктор.
Путешественник по Времени приложил руку ко лбу. Он имел вид человека, старающегося удержать свои разбегающиеся мысли.
– Их положила в мой карман Уина, когда я путешествовал по Времени.
Он осмотрелся вокруг.
– Все вертится у меня перед глазами. Эта комната, вы и эта обыденная атмосфера не вмещаются в моей голове. Строил ли я когда-нибудь Машину Времени или ее модель? Может быть, все это был сон? Говорят, жизнь – сон, и к тому же бедный, жалкий, краткий сон, хотя ведь другой не приснится. Но это было безумие. И откуда явился этот сон?.. Я должен взглянуть на мою Машину. Существует ли она?..
Он поспешно схватил лампу и понес ее вдоль коридора. Пламя колебалось по временам и вспыхивало красным огнем. Мы следовали за ним. Освещенная трепетавшим пламенем лампы, приземистая, безобразная и погнувшаяся, перед нами, несомненно, находилась та же самая Машина Времени, сделанная из бронзы, черного дерева, слоновой кости и прозрачного блестящего кварца. Я потрогал ее. Она была тут, твердая и реальная. Темные полосы и пятна покрывали слоновую кость, а на нижних ее частях висели клочья травы и мха, одна из металлических полос была погнута.
Поставив лампу на скамью, Путешественник по Времени ощупал своей рукой поврежденную полосу.
– Теперь ясно, – сказал он. – То, что я вам рассказал, было правдой. Простите меня, что я привел вас в этот холод…
Он взял лампу. Никто из нас не произнес ни слова, и мы вернулись обратно в курительную.
Выйдя с нами в переднюю, он помог Редактору надеть пальто. Доктор посмотрел на его лицо и сказал с некоторым колебанием, что он переутомил себя работой.
Путешественник по Времени громко рассмеялся. Помню, как он стоял в дверях, крикнув нам на прощание несколько раз: «Покойной ночи!»
Я поехал на извозчике вместе с Редактором. По его словам, рассказ представлял собой «эффектный вымысел». Что касается меня, я не мог прийти ни к какому заключению. Содержание рассказа было таким невероятным и фантастичным, а его передача такой искренней и правдивой… Большую часть ночи я не спал и думал об этом.
На следующий день я решил пойти снова повидать Путешественника по Времени. Мне сказали, что он в лаборатории. Я бывал запросто у него в доме и поэтому пошел к нему туда. Но лаборатория оказалась пустой. На минутку я остановился перед Машиной Времени, протянул руку и дотронулся до рычага. В то же мгновение вся ее плотная, выглядевшая такой устойчивой масса заколыхалась, как ветка от порыва ветра. Ее нестойкость крайне изумила меня, и в голове моей промелькнуло забавное воспоминание о том периоде моей детской жизни, когда мне запрещали трогать разные вещи.
Я вернулся обратно. Пройдя коридор, я столкнулся в кабинете с Путешественником по Времени, выходившим из соседней комнаты. В одной руке у него была небольшая фотографическая камера, а в другой сумка. При виде меня он рассмеялся и протянул мне для пожатия локоть.
– Я безумно занят, – сказал он, – вот этой вещью – там.
– Это не мистификация? – спросил я. – Вы действительно путешествуете по Времени?
– Да, действительно и несомненно.
Он прямо посмотрел мне в глаза. На его лице выразилась нерешительность.
– Мне нужно только полчаса, – сказал он. – Я знаю, зачем вы пришли, и это хорошо с вашей стороны. Вот несколько журналов. Если вы посидите до завтрака, я безусловно докажу вам на этот раз возможность путешествий по Времени, я привезу вам образцы и все прочее… Вы мне позволите оставить вас?
Я согласился, смутно понимая огромную важность его последних слов. Он кивнул мне головой и вышел в коридор. Я услышал, как хлопнула дверь его лаборатории, потом сел на стул и принялся читать газеты. Что он собирается делать до завтрака? Взглянув на одно из объявлений, я внезапно вспомнил, что в два часа обещал встретиться с Ричардсоном по издательским делам. Я посмотрел на часы и увидел, что едва успею дойти. Я встал и пошел по коридору, чтобы сказать об этом Путешественнику по Времени.
Взявшись за ручку двери, я услышал странное оборвавшееся восклицание, треск и удар. Открыв дверь, я попал в сильный водоворот воздуха и услышал звук разбитого и упавшего на пол стекла. Путешественника по Времени не было в лаборатории. Мне показалось, что на мгновение передо мной промелькнула неясная, похожая на привидение фигура человека, сидящего верхом на кружившейся массе из черного дерева и бронзы, – фигура настолько прозрачная, что скамья позади нее, на которой лежали чертежи, была видна совершенно отчетливо. Едва я успел протереть глаза, как эта фантасмагория исчезла. Машина Времени пропала. Дальний угол лаборатории был пустым, и там виднелось легкое облако осевшей на пол пыли. Одно из стекол окна под потолком было, очевидно, только что разбито.
Я стоял в чрезвычайном изумлении. Я видел, что случилось нечто необычайное, но не мог сразу определить, что это было. Пока я продолжал стоять и изумленно смотреть, дверь, ведущая в сад, открылась, и на пороге показался слуга.
Мы посмотрели друг на друга. В голове у меня блеснула внезапная мысль.
– Мистер… вышел из этой двери? – спросил я.
– Нет, сэр, никто не выходил отсюда. Я думал найти его здесь.
Теперь я все понял. Рискуя рассердить Ричардсона, я остался ждать возвращения Путешественника по Времени: ждать его нового, быть может, еще более странного рассказа и тех образцов и фотографий, которые он обещал привезти с собой. Теперь я начинаю опасаться, что мне придется ждать его целую жизнь.
Прошло уже три года со времени его исчезновения, и каждый думает, что он никогда не возвратится.
Нам остаются теперь одни только догадки. Вернется ли он когда-нибудь? Может быть, он унесся в прошлое и попал к кровожадным дикарям палеолита или в бездны мелового моря; или же к чудовищным ящерам и огромным земноводным юрской эпохи? Может быть, и сейчас он бродит по какому-нибудь кишащему плезиозаврами эолитовому коралловому рифу или по пустынным берегам соленых морей триасового периода? Или, может быть, он направился в Будущее, в эпоху расцвета человеческой расы, в один из тех менее отдаленных веков, когда люди оставались еще людьми, но уже разрешили все самые трудные вопросы человеческой мысли и все общественные задачи, доставшиеся им от нашего времени?
Я лично не могу поверить, чтобы наш век только что начавшегося опытного исследования, отрывочных теорий и всеобщего разногласия по основным вопросам науки и жизни был бы кульминационным пунктом развития человечества! Так, по крайней мере, думаю я. Что же касается до него, то он держался другого мнения. Мы не раз спорили с ним об этом еще задолго до того, как была сделана Машина Времени, и он всегда безотрадно относился к Прогрессу Человечества. Растущая цивилизация представлялась ему в виде беспорядочно сооружаемого здания, которое в конце концов должно обрушиться и задавить собою строителей… Но если б это даже оказалось так, все же нам ничего не остается, как продолжать далее свою жизнь. Будущее для меня темно и неясно, полно неведомого и только кое-где освещено благодаря его замечательному рассказу.
Я храню в утешение два странных белых цветка. Хрупкие, засохшие и потемневшие, они все же говорят мне о том, что даже в то время, когда исчезли сила и ум человека, благодарность и нежность еще продолжали жить в сердцах людей.
Перевод К. Морозовой
– А вот это, – сказал бактериолог, подкладывая под микроскоп стеклянную пластинку, – препарат знаменитой холерной бациллы – микроб холеры.
Человек с бледным лицом заглянул в микроскоп – очевидно, он не привык иметь дело с этим прибором – и мягкой белой рукой прикрыл левый глаз.
– Я почти ничего не вижу, – сказал он.
– Поверните вот этот винт, – посоветовал бактериолог, – может быть, изображение не в фокусе для вас, глаза ведь у всех разные. Чуть-чуть поверните в одну сторону, потом в другую.
– Так, теперь вижу, – сказал посетитель, – но в конце концов видеть-то особенно нечего. Розовые полоски и пятнышки. А между тем такие вот крошечные существа, эти ничтожные микробы могут размножиться и опустошить целый город. Удивительно!
Он встал и, вынув пластинку из-под микроскопа, поднял ее, рассматривая на свет.
– Их почти не видно, – сказал он, разглядывая препарат, и, помолчав, добавил: – Это живые бациллы? Они опасны?
– Нет, они убиты и окрашены, – ответил бактериолог. – Я хотел бы, чтобы мы могли умертвить все подобные бациллы во вселенной.
– Думаю, – с легкой улыбкой проговорил человек с бледным лицом, – что вам не очень-то хотелось бы держать у себя такие существа живыми, в активном состоянии.
– Напротив, нам обязательно надо держать их живыми, – возразил бактериолог. – Да вот, например… – Он прошел в другой конец комнаты и взял одну из нескольких запечатанных пробирок. – Вот это – живая бацилла. Это – культура живой бактерии… – Он запнулся. – Так сказать, холера, загнанная в бутылку.
На бледном лице посетителя на мгновение блеснуло выражение удовольствия.
– Вы владеете смертоносным оружием, – проговорил он, впиваясь глазами в пробирку.
На лице своего гостя бактериолог уловил выражение нездоровой радости. Этот человек только что пришел к нему с рекомендательным письмом от его старого друга и заинтересовал бактериолога, который почувствовал, что он и его гость – люди совсем разного склада. Прямые черные волосы и глубоко посаженные серые глаза незнакомца, осунувшееся лицо и нервные движения, жадный, острый интерес к бациллам – все это было так не похоже на флегматичных, рассудительных ученых, с которыми привык общаться бактериолог. Перед слушателем, интересующимся, очевидно, прежде всего смертоносностью бактерий, естественно было показать дело с самой эффектной стороны.
Задумавшись, бактериолог держал в руке пробирку.
– Да, – проговорил он, – это – холера, посаженная за решетку. Разбейте такую вот пробирку над источником, питающим городской водопровод, скомандуйте этим крошечным живым частичкам – таким крохотным, что их можно рассмотреть только в самый мощный микроскоп, и то окрасив препарат, бактериям без вкуса и запаха, – скомандуйте им: «Вперед! Растите и размножайтесь, наполняйте цистерны!» – и тогда смерть, таинственная и неуловимая, смерть быстрая и ужасная, смерть мучительная и безобразная обрушится на город и начнет рыскать повсюду, отыскивая себе жертвы. Здесь она лишит жену мужа, там отнимет у матери ребенка, оторвет государственного деятеля от его обязанностей, труженика – от его забот. Она будет следовать по путям водопроводных труб, проникая во все улицы, вылавливая и наказывая то в одном, то в другом доме тех, кто пьет сырую воду, она проникнет в чаны фабрикантов минеральной воды, проберется в салат, когда его будут мыть, и притаится в мороженом. Она будет сидеть в кормушках животных и ждать, когда ее проглотят, она будет подкарауливать беспечных ребятишек, которым захочется напиться из уличного фонтана. Она пропитает землю и появится в ручейках и колодцах, в тысяче самых неожиданных мест. Только пустите эту бациллу в водопровод, и, прежде чем мы поймаем и укротим ее, она уничтожит столицу!
Бактериолог внезапно замолчал. Ему не раз указывали на его страсть к риторике.
– Ну, а здесь, видите ли, она совершенно безопасна.
Человек с бледным лицом кивнул головой. Глаза его сверкали. Он откашлялся.
– Эти негодяи-анархисты – дураки, – сказал он, – слепые дураки: бросать бомбы, когда есть такая штука! Мне кажется…
В дверь тихонько постучали, скорее даже не постучали, а поцарапали об нее ногтем. Бактериолог открыл дверь.
– На минуточку, милый, – прошептала его жена.
Когда он вернулся в лабораторию, посетитель смотрел на часы.
– Я и понятия не имел, что отнял у вас целый час, – сказал он, – сейчас без двенадцати четыре, а мне нужно было уйти в половине четвертого. Но то, что вы мне показывали, было так интересно… Нет, право же, больше я не могу остаться ни на минуту, в четыре у меня важное свидание!
Рассыпаясь в благодарностях, он вышел из комнаты. Бактериолог проводил его до дверей, а затем, задумавшись, вернулся по коридору в лабораторию. Он хотел догадаться, какой национальности его посетитель. Несомненно, не германец, но не похож и на представителя латинских народов. Во всяком случае, в нем есть что-то патологическое, – про себя заметил бактериолог, – как он уставился на эту культуру болезнетворных микробов! Внезапно у него мелькнула тревожная мысль. Он повернулся к скамье возле паровой ванны, затем быстро подошел к письменному столу и стал поспешно шарить в своих карманах, потом бросился к двери.
– Может быть, я оставил ее на столе в передней, – пробормотал он.
– Минни! – хриплым голосом закричал он из передней.
– Да, милый? – отозвался голос из дальней комнаты.
– Когда я только что с тобой разговаривал, милочка, было у меня что-нибудь в руках?
Пауза.
– Нет, милый, ничего не было, потому что я помню…
– Синяя бацилла пропала! – воскликнул бактериолог. Он опрометью кинулся к двери и сбежал по ступеням на улицу.
Услышав стук захлопнувшейся двери, Минни в тревоге кинулась к окну. Она увидела, как на улице какой-то худой человек усаживался в кеб. К нему, неистово размахивая руками, мчался бактериолог без шляпы и в домашних туфлях. Одна туфля упала с ноги, но он не стал терять времени на то, чтобы поднять ее.
– С ума сошел! – воскликнула Минни. – Вот что наделала эта противная наука!
Минни открыла окно и хотела позвать мужа. Худой человек внезапно оглянулся и, по-видимому, тоже подумал, что ученый сошел с ума. Он торопливо показал кебмену на бактериолога и что-то сказал. Щелкнула застежка кожаного фартука, просвистел бич, копыта застучали по мостовой, и в тот же миг кеб и бактериолог, бросившийся за ним следом, понеслись по улице и исчезли за углом.
С минуту Минни стояла, высунувшись из окна, потом вернулась в комнату. Она была совершенно ошеломлена.
«Конечно, муж чудак, – размышляла она, – но все-таки бегать по Лондону в самый разгар сезона в одних носках!..» Ей пришла в голову счастливая мысль. Она быстро надела шляпку, схватила ботинки мужа, выбежала в переднюю, сняла с вешалки его летнее пальто, шляпу и выскочила на улицу. На ее счастье, как раз мимо медленно проезжал кеб, и она его окликнула.
– Везите меня прямо, потом сверните на Хейвлок-кресент и постарайтесь догнать джентльмена без шляпы и в бархатной куртке.
– Бархатная куртка, мэм, и без шляпы? Очень хорошо, мэм!
И кебмен стегнул лошадь с таким решительным видом, точно ему каждый день приходилось ездить по подобным адресам.
Несколько минут спустя кучка кебменов и ротозеев, как всегда собравшаяся у стоянки извозчиков на Хаверсток-Хилле, была поражена видом бешено мчавшейся пегой лошаденки, запряженной в кеб.
Все молчали, пока кеб не скрылся из виду, а затем полный джентльмен, известный под кличкой Старый Болтун, сказал:
– Это Гарри Хикс. Что это с ним стряслось?
– А кнутом-то как работает, зря не машет, – добавил мальчишка-конюх.
– Гляди-ка, – воскликнул Томми Байлс, – а вот еще один сумасшедший, разрази меня на этом месте, и впрямь еще один катит!
– Это наш Джордж, – отозвался Старый Болтун, – а везет он сумасшедшего, это ты верно сказал; как бы он не вывалился из кеба! Не за Гарри ли Хиксом он гонится?
Общество на извозчичьей стоянке все больше оживлялось. Кричали хором: «Наддай, Джордж!», «Вот так скачки!», «Ты его догонишь!», «Погоняй!»
– Ишь, как чешет! – сказал мальчишка-конюх.
– Голова кругом идет, – воскликнул Старый Болтун, – ей-богу, сейчас сам помчусь! Глядите, еще один! Никак все кебмены в Хэмпстеде спятили сегодня!
– На этот раз – баба! – сказал мальчишка-конюх.
– За ним гонится, – добавил Старый Болтун, – чаще бывает наоборот: он за ней, а не она за ним.
– Что у нее в руках?
– Похоже, что шляпа.
– Вот забава! Ставлю три против одного на старика Джорджа, – предложил мальчишка-конюх, – кто следующий?
Минни промчалась мимо. Ее сопровождала буря оваций. Ей это не понравилось, но она сознавала, что исполняет свой долг, и неслась дальше по Хаверсток-Хиллу и Кэмдентаун-Хай-стрит, не отрывая глаз от спины старого Джорджа, непонятно почему увозившего от нее беглеца-мужа.
Человек в первом кебе сидел, забившись в угол, скрестив на груди руки и крепко сжимая в кулаке пробирку с могучим средством разрушения. Он испытывал смешанное чувство страха и радостного возбуждения. Больше всего он боялся, что его поймают, прежде чем он успеет осуществить свой замысел, однако в глубине его души был смутный, но еще более сильный страх перед чудовищностью затеянного преступления. И все же радость пересиливала страх. Ни один анархист еще не додумался до того, что собирался сделать он. Равашоль, Вайан и все эти знаменитые деятели, славе которых он завидовал, бледнели и казались ничтожными по сравнению с ним. Ему надо только добраться до городской водокачки и разбить пробирку над баком. Как блестяще он все подготовил, подделал рекомендательное письмо, проник в лабораторию и так блестяще воспользовался случаем! Наконец-то мир услышит о нем! Наконец-то всем этим людям, которые над ним смеялись, им пренебрегали, избегали его общества, придется считаться с ним. Смерть, смерть, смерть! Сколько унижений он вытерпел как человек, не заслуживающий внимания. Весь мир был в заговоре, чтобы не дать ему подняться. Теперь он покажет, что значит не замечать человека! Кажется, эта улица ему знакома. Да, конечно, это улица Сент-Эндрю. А где же его преследователь? Он выглянул из кеба. Между ним и бактериологом было не больше пятидесяти ярдов. Плохо! Его еще могут нагнать и остановить. Он нащупал в кармане деньги и достал полсоверена. Приподнявшись, он через окошечко в крыше сунул монету под нос кучеру.
– Еще дам, – закричал он, – если сумеете удрать!
Мгновенно деньги были выхвачены у него из руки.
– Ладно! – сказал кебмен.
Окошечко захлопнулось, и бич опустился на блестящий бок лошади. Кеб дернуло, и анархист, который еще не успел сесть, ухватился рукой со стеклянной пробиркой за фартук, чтобы не упасть. Он почувствовал, как пробирка сломалась в его руке. Отбитая половинка звякнула о дно кеба. Он выругался, откинулся на сиденье и мрачно поглядел на капли жидкости, упавшие на фартук.
Анархист содрогнулся.
– Ну что ж, кажется, мне придется быть первым. Бр-р, но я, по крайней мере, стану мучеником. Это уже кое-что! А все-таки ужасная смерть. Так ли она мучительна, как говорят?
Тут у него мелькнула новая мысль. Он пошарил у себя под ногами. В отбитой части пробирки сохранилось немного жидкости, и он для верности выпил ее. Надо было действовать наверняка. Как бы то ни было, неудачи он не потерпит!
Потом он подумал, что теперь ему незачем удирать от бактериолога. На Веллингтон-стрит он велел кучеру остановиться и вышел из кеба. На подножке он поскользнулся, голова у него слегка кружилась. Быстро действует этот холерный яд! Он помахал кебмену, как бы устраняя его из своего бытия, и, скрестив руки на груди, остановился на тротуаре, поджидая бактериолога. В его позе было что-то трагическое. Сознание близкой гибели придавало его фигуре некоторое достоинство. Он приветствовал бактериолога вызывающим смехом:
– Vive l’аnarchie![1] Опоздали, мой друг! Я выпил ваш препарат. Холера спущена с цепи!
Не выходя из кеба, бактериолог сквозь очки поглядел на него с веселым любопытством:
– Выпили? Анархист? Теперь понятно!
Он хотел было что-то добавить, но воздержался. В углах рта затаилась усмешка. Он отбросил фартук, как будто хотел вылезти из кеба, в то время как анархист драматическим жестом махнул ему на прощание рукой и пошел к мосту Ватерлоо, стараясь своим зараженным телом толкнуть возможно большее число людей. Бактериолог с таким интересом смотрел ему вслед, что почти не выразил удивления, когда на тротуаре появилась Минни со шляпой, пальто и ботинками.
– Очень мило, что ты принесла мои вещи, – рассеянно заметил он, все еще внимательно следя за удалявшейся фигурой анархиста.
– Садись ко мне, – добавил он, не поворачивая головы.
Минни теперь была совершенно убеждена, что ее муж сошел с ума, и на свою ответственность велела кучеру ехать домой.
– Что? Надеть ботинки? Разумеется, милочка, – сказал бактериолог, когда кеб повернул и скрыл от него торжественную черную фигуру, казавшуюся на расстоянии совсем маленькой.
Вдруг ему что-то показалось таким смешным, что он расхохотался, а потом заметил:
– Это все-таки очень серьезное дело. Понимаешь, этот человек пришел сегодня ко мне, а он – анархист… не падай в обморок, а то я не смогу тебе всего рассказать. Я не знал, что он анархист, хотел удивить его и показал ему культуру этой новой бациллы, о которой я тебе говорил, той самой, которая, я думаю, вызывает появление синих пятен у обезьян разных пород. Я свалял дурака и сказал ему, что это – бацилла азиатской холеры. Он похитил ее и убежал, чтобы отравить воду в Лондоне, и он действительно мог бы наделать много неприятностей нашему цивилизованному городу. А теперь он сам проглотил бациллу. Конечно, я не могу сказать наверное, что с ним случится, но ты помнишь, как котенок и три щенка покрылись от нее синими пятнами, а воробей стал ярко-голубым. Хуже всего то, что мне придется опять возиться и тратить деньги, чтобы приготовить новый препарат.
Что? Надеть пальто в такую жару! Зачем? Потому что мы можем встретить миссис Джеббер? Но, милочка моя, ведь миссис Джеббер не сквозняк. Чего ради я стану в жару надевать пальто из-за миссис… А… ну, ладно!
Перевод Н. Семевской
Замечательный случай с глазами Дэвидсона
Временное душевное расстройство Сиднея Дэвидсона, замечательное само по себе, приобретает еще большее значение, если прислушаться к объяснениям доктора Уэйда. Оно наводит на мысли о самых причудливых возможностях общения между людьми в будущем, о том, что можно будет переноситься на несколько минут на противоположную сторону земного шара и оказываться в поле зрения невидимых нам глаз в те мгновения, когда мы заняты самыми потаенными делами. Мне пришлось быть непосредственно свидетелем припадка, случившегося с Дэвидсоном, и я считаю своей прямой обязанностью изложить свое наблюдение на бумаге.
Говоря, что был ближайшим свидетелем припадка, я имею в виду тот факт, что я оказался первым на месте происшествия. Случилось это в Гарлоу, в Техническом колледже, возле самой Хайгетской арки. Дэвидсон был один в большой лаборатории, я был в малой, там, где весы, и делал кое-какие заметки. Гроза прервала мои занятия. После одного из самых сильных раскатов грома я услыхал в соседней комнате звон разбитого стекла. Я бросил писать, оглянулся и прислушался. В первое мгновение я ничего не слышал. Град оглушительно барабанил по железной крыше. Потом опять раздался шум и звон стекла, на этот раз уже несомненный. Что-то тяжелое упало со стола. Я мигом вскочил и открыл дверь в большую лабораторию.
К своему удивлению, я услышал странный смех и увидел, что Дэвидсон стоит посреди комнаты, шатаясь, со странным выражением лица. Сначала я подумал, что он пьян. Он не замечал меня. Он хватался за что-то невидимое, словно отстоявшее на ярд от его лица; медленно и как бы колеблясь, он протягивал руку и ловил пустое пространство.
– Куда она девалась? – спрашивал он. Он проводил рукой по лицу, растопырив пальцы. – Великий Скотт! – воскликнул он. Три-четыре года тому назад была в моде такая божба.
Он неловко приподнял одну ногу, как будто ноги у него были приклеены к полу.
– Дэвидсон! – крикнул я. – Что с вами, Дэвидсон?
Он обернулся ко мне и стал искать меня глазами. Он глядел поверх меня, на меня, направо и налево от меня, но, очевидно, не видел меня.
– Волны! – сказал он. – И какая красивая шхуна! Я готов поклясться, что слышал голос Беллоуза. Эй! Эй! – вдруг закричал он громко.
Я подумал, что он дурачится. Но тут я увидел на полу у его ног осколки нашего лучшего электрометра.
– Что с вами, дружище? – спросил я. – Вы разбили электрометр?
– Опять голос Беллоуза, – сказал он. – У меня исчезли руки, но остались друзья. Что-то насчет электрометров. Беллоуз! Где вы? – И он, пошатываясь, быстро направился ко мне. – Вот гадость, мягкое, как масло, – сказал он. Тут он наткнулся на скамью и отпрыгнул. – А вот это совсем не похоже на масло, – заметил он и остановился, покачиваясь.
Мне стало страшно.
– Дэвидсон! – воскликнул я. – Ради бога, что с вами такое?
Он оглянулся по сторонам:
– Готов держать пари, что это Беллоуз. Полно прятаться, Беллоуз. Выходите, будьте мужчиной.
Мне пришло в голову, что он, может быть, внезапно ослеп.
Я обошел вокруг стола и дотронулся до его рукава. Никогда не видел я, чтобы кто-нибудь так вздрагивал! Он отскочил и встал в оборонительную позу. Лицо его исказилось от ужаса.
– Боже! – воскликнул он. – Что это?
– Это я, Беллоуз. Прошу вас, Дэвидсон, перестаньте!
Когда я ответил ему, он подпрыгнул и поглядел, – как бы это выразить? – прямо сквозь меня. Он заговорил не со мной, а с собою:
– Здесь днем на открытом берегу спрятаться негде. – Он с растерянным видом оглянулся. – Надо бежать!
Он неожиданно повернулся и с размаху налетел на большой электромагнит – с такой силой, что, как потом обнаружилось, расшиб себе плечо и челюсть. Он отскочил на шаг и, чуть не плача, воскликнул:
– Что со мной?
Потом замер, побелев от ужаса и весь дрожа. Правой рукой он обхватил левую в том месте, которое только что ушиб о магнит.
Тут и меня охватило волнение. Я был страшно испуган.
– Дэвидсон, не волнуйтесь, – сказал я.
При звуке моего голоса он встрепенулся, но уже не так тревожно, как в первый раз. Я повторил свои слова как только мог отчетливо и твердо.
– Беллоуз, это вы? – спросил он.
– Разве вы не видите меня?
Он засмеялся:
– Я не вижу даже самого себя. Черт возьми, куда это нас занесло?
– Мы здесь, – ответил я, – в лаборатории.
– В лаборатории? – машинально повторил он и провел рукой по лбу. – Это прежде я был в лаборатории. До того, как сверкнула молния… Но черт меня побери, если я сейчас в лаборатории!.. Что это там за корабль?
– Нет никакого корабля, – ответил я. – Пожалуйста, опомнитесь, дружище!
– Никакого корабля! – повторил он, но, кажется, тотчас же позабыл мои слова. – Я думаю, – медленно начал он, – что мы оба умерли. Но любопытней всего, что я чувствую себя так, будто тело все же у меня осталось. Должно быть, к этому не сразу привыкаешь. Очевидно, старый корабль разбило молнией. Ловко, не правда ли, Беллоуз?
– Не городите чепухи. Вы целы и невредимы. И ведете себя отвратительно: вот разбили новый электрометр. Не хотел бы я быть на вашем месте, когда вернется Бойс.
Он перевел глаза с меня на диаграммы криогидратов.
– Должно быть, я оглох, – сказал он. – Я вижу дым, – значит, палили из пушки, а я совсем не слыхал выстрела.
Я опять положил руку ему на плечо. На этот раз он отнесся к этому спокойнее.
– Наши тела стали теперь как бы невидимками, – сказал он. – Но смотрите, там шлюпка… огибает мыс… В конце концов, это очень похоже на прежнюю жизнь. Только климат другой!
Я стал трясти его за руку.
– Дэвидсон! – закричал я. – Дэвидсон! Проснитесь!
Как раз в эту минуту вошел Бойс. Как только он заговорил, Дэвидсон воскликнул:
– Старина Бойс! Вы тоже умерли? Вот здорово!
Я поспешил объяснить, что Дэвидсон находится в каком-то сомнамбулическом трансе. Бойс сразу заинтересовался. Мы делали все, что могли, чтобы вывести его из этого необычного состояния. Он отвечал на наши вопросы и сам спрашивал, но его внимание поминутно отвлекалось все теми же видениями какого-то берега и корабля. Он все толковал о какой-то шлюпке, о шлюпбалках, о парусах, раздуваемых ветром. Жуткое чувство вызывали у нас его речи в сумрачной лаборатории. Он был слеп и беспомощен. Пришлось взять его под руки и отвести в комнату к Бойсу. Покуда Бойс беседовал с ним и терпеливо слушал его бредни о корабле, я прошел по коридору и пригласил старика Уэйда посмотреть его. Голос нашего декана как будто отрезвил его, но ненадолго. Дэвидсон спросил, куда девались его руки и почему он должен передвигаться по пояс в земле. Уэйд долго думал над этим (вы знаете его манеру сдвигать брови), потом тихонько взял его руку и провел ею по кушетке.
– Вот это кушетка, – сказал Уэйд. – Кушетка в комнате профессора Бойса… Набита конским волосом.
Дэвидсон погладил кушетку и, подумав, сказал, что руками он ее чувствует хорошо, но увидеть никак не может.
– Что же вы видите? – спросил Уэйд.
Дэвидсон ответил, что видит только песок и разбитые раковины. Уэйд дал ему пощупать еще несколько предметов; при этом он описывал их и внимательно наблюдал за ним.
– Корабль на горизонте, – ни с того ни с сего промолвил Дэвидсон.
– Оставьте корабль, – сказал Уэйд. – Послушайте, Дэвидсон, вы знаете, что такое галлюцинация?
– Конечно, – сказал Дэвидсон.
– Так имейте в виду: все, что вы видите, – галлюцинация.
– Епископ Беркли, – произнес Дэвидсон.
– Послушайте меня, – сказал Уэйд. – Вы целы и невредимы, и вы в комнате профессора Бойса. Но у вас что-то произошло с глазами. Испортилось зрение. Вы слышите и осязаете, но не видите… Понятно?
– А мне кажется, что я вижу даже слишком много. – Дэвидсон потер глаза кулаками и прибавил: – Ну, еще что?
– Больше ничего. И пусть это вас не беспокоит. Мы с Беллоузом посадим вас в кеб и отвезем домой.
– Погодите. – Дэвидсон задумался. – Давайте я опять сяду, а вы, будьте добры, повторите, что только что сказали.
Уэйд охотно исполнил его просьбу. Дэвидсон закрыл глаза и обхватил голову руками.
– Да, – сказал он, – вы совершенно правы. Вот я закрыл глаза, и вы совершенно правы. Рядом со мной на кушетке сидите вы и Беллоуз. И я опять в Англии. И в комнате темно.
Потом он открыл глаза.
– А там солнце всходит, – сказал он, – и корабельные снасти, и волнующееся море, и летают какие-то птицы. Я никогда не видел так отчетливо. Я на берегу, сижу по самую шею в песке.
Он наклонил голову и закрыл лицо руками. Потом снова открыл глаза.
– Бурное море и солнце! И все-таки я сижу на диване в комнате Бойса… Боже мой! Что со мной?
Так началось у Дэвидсона странное поражение глаз, длившееся целых три недели. Это было хуже всякой слепоты. Он был совершенно беспомощен. Его кормили, как птенца, одевали, водили за руку. Когда он пробовал двигаться сам, он либо падал, либо натыкался на стены и двери. Через день он немного освоился со своим положением; не так волновался, когда слышал наши голоса, не видя нас, и охотно соглашался, что он дома и Уэйд сказал ему правду. Моя сестра – она была невестой Дэвидсона – настояла, чтобы ей разрешили приходить к нему, и часами сидела около него, пока он рассказывал о своей странной бухте. Он удивительно успокаивался, когда держал ее за руку. Он рассказал ей, что, когда мы везли его из колледжа домой – он жил в Хэмпстеде, – ему представлялось, будто мы проезжаем прямо сквозь какой-то песчаный холм; было совершенно темно, пока он сквозь скалы, деревья и самые крепкие преграды снова не вышел на поверхность; а когда его повели наверх, в его комнату, у него закружилась голова и он испытывал безумный страх, что упадет, потому что подъем по лестнице показался ему восхождением на тридцать или сорок футов над поверхностью его воображаемого острова. Он беспрестанно твердил, что перебьет все яйца. В конце концов пришлось перевести его вниз, в приемную отца, и там уложить на диван.
Он рассказывал, что его остров – довольно глухое и мрачное место и что там очень мало растительности: только голые скалы да жесткий бурьян. Остров кишит пингвинами; их так много, что вся земля кажется белой, и это очень неприятно для глаз. Море часто бушует, раз была даже буря и гроза, и он лежал на диване и вскрикивал при каждой беззвучной вспышке молнии. Изредка на берег выбираются котики. Впрочем, это было только в первые два-три дня. Он говорил, что его очень смешит, что пингвины проходят сквозь него, как по пустому месту, а он лежит посреди этих птиц, нисколько их не пугая.
Я вспоминаю один любопытный эпизод. Ему очень захотелось курить. Мы раскурили и дали ему в руки трубку, причем он чуть не выколол себе глаза. Он не почувствовал никакого вкуса. Я потом заметил, что точно так же бывает и со мной; не знаю, как другие, но я не получаю удовольствия от курения, если не вижу дыма.
Но самые странные видения были у него, когда Уэйд распорядился вывезти его в кресле на свежий воздух. Дэвидсоны взяли напрокат кресло на колесах и приставили к нему своего приживальщика Уиджери, глухого и упрямого человека. У этого Уиджери было довольно своеобразное представление о прогулках на свежем воздухе. Как-то, возвращаясь из ветеринарного госпиталя, моя сестра повстречала их в Кэмдене, около Кингскросса. Уиджери с довольным видом быстро шагал за креслом, а Дэвидсон, видимо, в полном отчаянии, безуспешно пытался привлечь к себе его внимание. Он не удержался и заплакал, когда моя сестра заговорила с ним.
– Дайте мне выбраться из этой проклятой темноты! – взмолился он, сжимая ее руку. – Мне надо уйти отсюда, или я умру…
Он не мог объяснить, что произошло. Сестра решила сейчас же отвезти его домой, и как только они стали подниматься на холм по пути к Хэмпстеду, испуг его прошел. Он сказал, что очень приятно опять видеть звезды, хотя было около полудня и ярко светило солнце.
– Мне казалось, будто меня с непреодолимой силой вдруг стало уносить в море, – рассказывал он мне потом. – Сначала это очень испугало меня… Дело, конечно, было ночью. Это была великолепная ночь.
– Почему же «конечно»? – с удивлением спросил я.
– Конечно, – повторил он. – Когда здесь день, там всегда ночь. Меня несло прямо в море. Оно было спокойно и блестело в лунном сиянии. Только широкая зыбь ходила по воде. Она оказалась еще сильнее, когда я попал в нее. Сверху море блестело, как мокрая кожа. Вода вокруг меня поднималась очень медленно – потому что меня несло вкось, – пока не залила мне глаза. Потом я совсем погрузился в воду, и у меня было такое чувство, будто это кожа лопнула у меня перед глазами и опять срослась. Луна подпрыгнула в небесах и стала зеленой и смутной; какая-то рыба, слегка поблескивая, суетливо заскользила вокруг меня, и я увидел какие-то предметы как бы из блестящего стекла и пронесся сквозь целую чащу водорослей, светившихся маслянистым светом. Так я спускался вглубь, и луна становилась все более зеленой и темной, а водоросли сияли пурпурно-красным светом. Все это было очень смутно, таинственно, все как бы колебалось. И в то же время я отчетливо слышал, как поскрипывает кресло, на котором меня везут, и мимо проходит народ, и где-то в стороне газетчик выкрикивает экстренный выпуск «Пэлл-Мэлл».
Я погружался в воду все глубже и глубже. Вокруг меня все стало черным, как чернила; ни один луч не проникал в темноту; и только фосфоресцирующие предметы становились все ярче. Змеистые ветви подводных растений засветились в глубине, как пламя спиртовых горелок; но немного погодя пропали и они. Рыбы подплывали ко мне стаями, глядели на меня, разевая рты, и проплывали мимо меня, в меня и сквозь меня. Я никак не предполагал, что существуют такие странные рыбы. По бокам у них с обеих сторон были огненные полоски, словно проведенные фосфором. Какая-то гадина с извивающимися длинными щупальцами пятилась в воде, как рак.
Потом я увидел, как во тьме на меня медленно ползет масса неясного света, которая вблизи оказалась целым сонмом рыб, шныряющих вокруг какого-то предмета, опускающегося на дно. Меня несло прямо на них, и в самой середине стаи я увидел справа распростершийся надо мной обломок разбитой мачты, а потом – опрокинутый темный корпус корабля и какие-то светящиеся, фосфоресцирующие тела, податливые и гибкие под напором прожорливой стаи. Тут я и стал стараться привлечь к себе внимание Уиджери. Ужас охватил меня. Ух! Мне пришлось бы наехать прямо на эти полуобглоданные… если бы ваша сестра вовремя не подошла ко мне… Беллоуз, они были проедены насквозь и… Ну, да все равно. Ах, это было ужасно!
Три недели находился Дэвидсон в этом странном состоянии. Все это время взор его был обращен к тому, что мы сперва считали плодом его фантазии. Он был слеп ко всему окружающему. Но вот однажды – это было во вторник – я пришел к нему и встретил в передней его отца.
– Он уже видит свой палец, Беллоуз! – в восторге сообщил мне старик, надевая пальто, и слезы показались у него на глазах. – Есть надежда на выздоровление.
Я бросился к Дэвидсону. Он держал перед глазами книжку и слабо смеялся.
– Вот чудеса! – сказал он. – Что-то похожее на пятно. – И он показал пальцем. – Я по-прежнему на скалах; пингвины по-прежнему ковыляют и возятся вокруг; по временам появляется даже кит, и только темнота мешает мне разглядеть его как следует. Но положите что-нибудь вот сюда, и я увижу – плохо, неясно, какими-то клочками, но все-таки увижу, – правда, не предмет, но бледную тень предмета. Я заметил это сегодня утром, когда меня одевали. Как будто в этом фантастическом мире образовалась дыра. Вот, положите свою руку рядом с моей. Нет, не сюда. Ну, конечно, я вижу ее. Ваш большой палец и край манжеты. Ваша рука встала на темнеющем небе, как привидение; и тут же, возле нее, какое-то созвездие в форме креста.
С этого дня Дэвидсон начал выздоравливать. О перемене в своем состоянии он рассказывал очень убедительно. Мир его видений как будто постепенно линял, становился все призрачнее, в нем появлялись какие-то щели и просветы, и Дэвидсон начинал смутно различать сквозь них окружающую действительность. Просветы ширились, их становилось все больше, они сливались, и скоро только несколько пятен заслоняли видимый мир от его глаз. Он мог опять вставать, одеваться и двигаться без посторонней помощи, опять стал есть, читать, курить и вообще вести себя, как нормальный человек. Сперва ему сильно мешала двойственность впечатлений, наползающих одно на другое, как картинки волшебного фонаря, но вскоре он научился отличать призрачные от настоящих.
Сначала это его радовало; казалось, он думал только о том, чтобы окончательно выздороветь, и охотно прибегал для этого к разным упражнениям и укрепляющим средствам. Но когда его странный остров стал таять у него перед глазами, он вдруг очень заинтересовался им. Ему особенно хотелось еще раз погрузиться на морское дно, и он стал проводить целые дни в блужданиях по низко расположенным кварталам Лондона в надежде натолкнуться на тот обломок судна, который он тогда видел. Дневной свет действовал на него так сильно, что уничтожал все являющееся в видениях. Зато ночью, в темной комнате, он опять видел скалы в белых подтеках и жирных пингвинов, ковыляющих вокруг него. Но и эти видения становились все призрачнее и наконец, вскоре после его женитьбы на моей сестре, совсем исчезли.
Но самое любопытное впереди. Через два года после этой истории я как-то обедал у Дэвидсонов. После обеда к ним пришел один знакомый по фамилии Аткинс. Это был лейтенант королевского флота, человек любознательный и большой говорун. Он был в приятельских отношениях с моим зятем, а через какой-нибудь час подружился и со мной. Оказалось, что он жених двоюродной сестры Дэвидсона, и вышло так, что он вынул небольшой карманный альбом, чтобы показать фотографическую карточку своей невесты.
– Кстати, – сказал он, – вот снимок нашего старого «Фальмара».
Дэвидсон бросил взгляд на карточку. Вдруг он вспыхнул.
– Боже мой! – воскликнул он. – Я готов поклясться…
– В чем? – спросил Аткинс.
– Что уже видел это судно.
– Сомневаюсь. Оно уже шесть лет плавает в южных морях. А до тех пор…
– Однако… – начал Дэвидсон. И, помолчав, продолжал: – Да, это то самое судно, которое я видел. Оно стояло у острова; там была пропасть пингвинов, и оно палило из пушек…
– Господи! – воскликнул Аткинс, узнав подробности его болезни. – Как вы могли это видеть?
И тут слово за слово выяснилось, что в тот самый день, когда Дэвидсона постигло несчастье, английское военное судно «Фальмар» случайно оказалось невдалеке от маленького рифа, к югу от острова Антиподов. Оно спустило шлюпку, чтобы набрать пингвиньих яиц. Шлюпка почему-то замешкалась там, и ее застигла буря. Ей пришлось прождать там всю ночь и вернуться к судну только на рассвете. Аткинс тоже был в лодке, и он подтвердил до мельчайших подробностей все, что сообщил об этом острове и о лодке Дэвидсон. Ни у кого из нас не осталось ни тени сомнения, что Дэвидсон действительно видел это место. Каким-то непонятным образом, покуда он передвигался по Лондону, его взор в точном соответствии с этим передвигался по поверхности отдаленного острова. Как это происходило, остается тайной.
На этом, собственно, и кончается рассказ о замечательном случае с глазами Дэвидсона. Это, может быть, самый достоверный случай видения на расстоянии. Нет никакой возможности объяснить его, если не принять объяснения профессора Уэйда. Но в его теории фигурирует четвертое измерение и целая диссертация о формах пространства. Толковать о каких-то «щелях в пространстве» мне представляется бессмысленным, может быть, оттого, что я совсем не математик. Когда я говорил Уэйду, что как-никак, а место видений Дэвидсона отстоит от нас на восемь тысяч миль, он отвечал, что на листе бумаги две точки могут отстоять одна от другой на ярд и все-таки могут быть слиты в одну, если мы сложим лист вдвое. Может быть, читатель поймет этот довод – мне он недоступен. Его мысль, по-видимому, сводится к тому, что Дэвидсон, очутившись между двумя полюсами большого электромагнита, получил необычайное сотрясение сетчатой оболочки глаз благодаря внезапной перемене поля силы при ударе молнии.
Из этого он выводит, что тело может жить в одном месте земного шара, а зрение бродить в другом. Он даже делал какие-то опыты в подтверждение своих взглядов, но все, чего ему удалось пока достигнуть, – это лишить зрения нескольких собак. Как мне известно, это единственный результат его опытов. Впрочем, я не видел его уже несколько недель: за последнее время у меня было столько работы по оборудованию института, что я никак не мог выбрать время заглянуть к нему. Но вся его теория в целом кажется мне фантастической. Между тем факты, относящиеся к случаю с Дэвидсоном, ничуть не фантастичны, и я могу поручиться за точность каждой подробности своего рассказа.
Перевод К. Чуковского
Невозможно установить, действительно ли все это произошло. Я знаю эту историю только со слов художника Р.-М. Хэррингея.
По его версии, события развивались так: около десяти часов утра он зашел к себе в мастерскую закончить портрет, над которым работал накануне. Это была голова итальянца-шарманщика, и Хэррингей намеревался, хотя еще не решил окончательно, назвать эту картину «Молитвенный экстаз». Все это не вызывает сомнений, и в его словах звучит безыскусственная правда. Увидя шарманщика, который ждал, что ему бросят из окон монетки, Хэррингей с живостью, присущей талантливым людям, зазвал итальянца к себе в мастерскую.
– Становись на колени! – скомандовал Хэррингей. – Смотри вверх, на эту люстру, как будто ждешь, что оттуда посыплются деньги. И перестань скалить зубы! – продолжал он. – Меня не интересуют твои десны. Старайся выглядеть несчастным.
Теперь, когда прошла ночь, картина показалась ему совершенно неудавшейся.
– Вообще-то неплохо, – сказал себе Хэррингей. – Шея удачно выписана. А все-таки…
Он походил по мастерской, глядя на полотно то с одной, то с другой стороны. Затем выругался… В своем рассказе он не опускал подробностей.
– Картинка, и больше ничего, – пробормотал он. – Портрет какого-то шарманщика. Но живого шарманщика тут нет, как ни жаль. Не умею я почему-то писать живых людей. Неужели творческое воображение мне изменяет?
И это правда. Творческое воображение действительно ему изменяло.
– Эх, сюда бы кисть истинного мастера! Берешь полотно, краску и создаешь человека, как Адам был создан из красной глины. Ну, а это подобие лица! Да попадись вам оно на улице, вы сказали бы: его делали где-то в мастерской! Любой мальчишка крикнул бы: «Катись восвояси, чего вылез из рамы?» А между тем легонький мазок… Нет, так это оставить нельзя.
Хэррингей подошел к окну и стал спускать штору. Она была из голубого полотна и наматывалась на валик под окном: для того чтобы лучше осветить мастерскую, ее надо было потянуть вниз. Взяв со стола палитру, кисти и муштабель, Хэррингей вернулся к картине, тронул коричневой краской уголок рта, а затем сосредоточил свое внимание на зрачках. Немного погодя он решил, что для человека, застывшего в напряженном ожидании, подбородок чересчур бесстрастен.
Наконец он отложил кисти в сторону, закурил трубку и стал критически всматриваться, проверяя, насколько продвинулась работа.
– Черт меня побери, да ведь он усмехается! – вскричал Хэррингей; и он до сих пор убежден, что портрет усмехнулся.
Лицо на портрете стало, бесспорно, гораздо живее, но, увы, выражало оно вовсе не то, чего желал художник. Да. Лицо усмехнулось, тут не могло быть сомнений.
– «Молитва безбожника», – решил Хэррингей. – Этак будет и тонко, и хитро. Но в таком случае левая бровь недостаточно саркастична.
Он подошел ближе, положил легкий мазок на левую бровь, а заодно сделал рельефнее ушную раковину, чтобы придать образу большую жизненность.
Потом снова стал рассуждать.
– Боюсь, что выражение молитвенного экстаза уже не вернуть, – сказал он себе. – Почему бы не назвать его «Мефистофелем»? Нет, это слишком затасканно. «Друг венецианского дожа» – вот это свежее. Впрочем, ему не пойдет кольчуга, это будет слишком напоминать наш легендарный Камелот. А что, если облечь его в пурпурную мантию и окрестить «Член священной коллегии»? Это покажет и юмор автора, и его знакомство с историей Италии в Средние века. Вот и у Бенвенуто Челлини, – продолжал Хэррингей, – есть портреты, где в одном из углов чуть светится золотая чаша, – очень остроумно! Но чтобы оттенить цвет лица моего итальянца, надо придумать что-то другое.
Хэррингей рассказывал, что он нарочно болтал сам с собой, чтобы заглушить безотчетное и мучительное ощущение страха. Лицо перед ним приобретало, как ни смотреть, все более отталкивающее выражение. И все-таки в нем чувствовалось и жило нечто из плоти и крови, пусть зловещее, но более живое, чем все, что когда-либо выходило из-под его кисти.
– Назову-ка я его «Портрет джентльмена», – сказал Хэррингей. – Просто «Портрет одного джентльмена». Не годится, – пробормотал он, все еще стараясь не падать духом. – Получилось именно то, что у нас принято называть «дурным вкусом». Раньше всего надо убрать усмешку. Если ее уничтожить и блеск в глазах сделать ярче (почему-то я раньше не замечал, какой у него жгучий взгляд), тогда он сможет сойти за… хотя бы за «Страдальца пилигрима». Но только по эту сторону Ла-Манша такое дьявольское лицо успеха иметь не будет. В чем-то я погрешил, – заключил он. – Может быть, брови слишком раскосы. – И, опустив штору еще ниже, он снова схватил палитру и кисти.
Лицо на портрете, по-видимому, жило собственной жизнью. Хэррингей не мог доискаться, откуда же в нем такое дьявольское выражение. Это надо было проверить. Брови… Вряд ли причина была в бровях, но на всякий случай он их переделал. Лучше от этого портрет не стал, скорее наоборот, лицо сделалось еще более сатанинским. Углы рта?.. Уф! Саркастическая усмешка превратилась в угрожающе свирепую. Ну что ж, тогда, может быть, этот глаз? Беда, да и только! Хотя художник был уверен, что ткнул кисть не в киноварь, а именно в коричневую краску, он все-таки попал в киноварь. Теперь глаз, казалось, повернулся в орбите и засверкал злобным огнем. Тогда в порыве гнева, смешанного, быть может, с храбростью отчаяния, Хэррингей набрал на кисть ярко-красной краски и ударил ею по портрету. И тут случилось нечто очень любопытное и странное, если только это правда.
Этот сатанинский итальянец на портрете закрыл глаза, плотно сжал губы и рукой стер краску с лица.
Затем красный глаз снова открылся с легким звуком, напоминающим чмоканье, и на лице появилась улыбка.
– Какой же вы вспыльчивый! – произнес Портрет.
Хэррингей утверждает, что теперь, когда произошло худшее, к нему вернулось самообладание. Его спасла уверенность, что черти – существа разумные.
– А вы чего все время дергаетесь, гримасничаете и усмехаетесь, пока я вас пишу? – воскликнул он.
– Ничего подобного не было! – ответил Портрет.
– Нет, было, – возразил художник.
– Не выдумывайте, все это делали вы сами! – сказал Портрет.
– Нет, не я!
– Именно вы! – воскликнул Портрет. – И не вздумайте снова заляпать меня краской, потому что я говорю чистую правду. Все утро вы старались придать моему лицу какое-то дурацкое выражение. А между тем вы сами не знаете, какой должна быть ваша картина.
– Прекрасно знаю, – проворчал Хэррингей.
– Нет, не знаете, – повторил Портрет. – Вы никогда не ставите перед собой ясной цели. Каждую работу вы начинаете с самыми смутными намерениями, наобум. Вы уверены только в одном – что создадите нечто прекрасное, возвышенное, может быть, даже трагическое, но при этом полагаетесь на удачу, на счастливый случай. Милый мой, неужели вы думаете, что таким путем можно создать шедевр?
Не следует забывать, что обо всех этих событиях мы знаем только со слов Хэррингея.
– Я буду писать свои картины так, как считаю нужным, – спокойно заявил он.
Эти слова слегка озадачили Портрет.
– Нельзя написать картину без вдохновения, – возразил он.
– Что ж, я вас и написал с вдохновением!
– С вдохновением! – насмешливо процедил Портрет. – Да вам просто взбрело в голову написать картину, когда вы увидели, как шарманщик смотрит на ваши окна! «Молитвенный экстаз»! Ха-ха! На авось вы начали малевать, вот как дело было. И когда я увидел, что вы тут натворили, я и пришел. Решил с вами поговорить. Искусство, – продолжал Портрет, – в ваших руках довольно жалкое занятие. Работаете вы вяло. Не знаю почему, но чувствуется, что без души, и, кроме того, вы слишком много знаете. Это вам мешает. В разгаре работы вы спрашиваете себя, не была ли уже раньше написана похожая картина, и…
– Послушайте, – прервал его Хэррингей, ожидавший от дьявола чего-то более увлекательного, чем критические мысли об искусстве. – Вы что, читать мне лекцию собираетесь?
И он набрал на свою кисть из свиной щетины (номер двенадцатый) красной краски.
– Истинный художник, – заявил Портрет, – всегда невежествен. А тот, кто начинает теоретизировать, из художника превращается в критика. Вагнер… Послушайте, для чего вам эта красная краска?
– Я сейчас вас закрашу! – сказал Хэррингей. – Не желаю слушать всякую ерунду. Если вы воображаете, будто только потому, что я профессиональный художник, я стану спорить с вами о сущности искусства, вы изволите ошибаться.
– Подождите минуточку! – сказал Портрет с тревогой. – Я хочу сделать вам одно предложение, вполне деловое предложение. Мои слова – сущая правда. Вам не хватает вдохновения. Что ж, я вам помогу. Вы, конечно, слышали о легендах про Кельнский собор и Чертов мост…
– Чепуха! – воскликнул Хэррингей. – Неужели вы воображаете, что я загублю душу ради удовольствия написать хорошую картину, которую все равно потом разругают? Вот вам за это!
Кровь стучала у него в висках. Опасность, по его словам, раззадоривала и придавала мужества. Набрав на кисть красной краски, он залепил ею рот своему созданию. Итальянец в негодовании начал стирать краску и плеваться. И тут, как рассказывал Хэррингей, начался удивительный поединок. Художник замазывал полотно красной краской, а Портрет корчился и старался ее стереть.
– Вы напишете два шедевра, – предложил искуситель. – Две гениальные картины за душу художника из Челси. Согласны?
Хэррингей ответил новым ударом кисти.
В течение нескольких минут было слышно только, как шлепала кисть, как плевался и бранился итальянец. Немало краски попало на руку, которой он защищался, но часто Хэррингей бил без промаха – прямо в лицо.
Но вот кончилась краска на палитре, и противники замерли, запыхавшись и пристально глядя друг другу в глаза. Итальянец был так перепачкан красным, будто вывалялся в крови на бойне. Он едва переводил дыхание и ежился: его щекотала краска, стекавшая ему за воротник. Но все же первый раунд окончился в его пользу, и он упорствовал.
– Подумайте хорошенько, – сказал он. – Два непревзойденных шедевра, и в разных стилях. Каждый не уступает фрескам в соборе, и…
– Придумал! – крикнул Хэррингей и ринулся вон из мастерской, по коридору, в комнату своей жены.
Через минуту он прибежал с малярной кистью и внушительной банкой эмалевой краски, на которой было написано: «Цвет воробьиного яйца».
При виде этого красноглазый искуситель завопил:
– Три шедевра! Непревзойденных! Небывалых!
Хэррингей размахнулся, сплеча хватил кистью наискось по полотну и, набрав еще краски, запечатал ею глаз демона. Послышалось бормотание: «Четыре шедевра», – и Портрет стал отплевываться.
Но теперь Хэррингей был хозяином положения и не собирался сдаваться. Быстрые и решительные мазки один за другим ложились на трепещущее полотно, пока наконец оно не превратилось в однородную блестящую поверхность «цвета воробьиного яйца». На миг снова показался рот, но он успел только проговорить: «Пять шедев…» – и Хэррингей залил его краской. Потом вдруг сверкнул злобным негодованием красный глаз, но после этого уже ничто не нарушало однообразия быстро сохнувшей эмалевой глади. Правда, от легкого содрогания полотна краска продолжала еще кое-где пузыриться, но потом улеглась, и полотно замерло в неподвижности.
Тогда Хэррингей (так по крайней мере он рассказывал) сел, закурил трубку, устремил взгляд на покрытое эмалевой краской полотно и попытался разобраться в том, что случилось. Потом он обошел мольберт, чтобы посмотреть на обратную сторону полотна. И тут ему стало досадно, что он не сфотографировал дьявола, прежде чем похоронить его под эмалевой краской.
Таков рассказ Хэррингея, и я за него ответственности на себя не беру. Как вещественное доказательство он показал небольшое полотно, двадцать четыре дюйма на двадцать, сплошь покрытое светло-зеленой эмалевой краской, и добавил к этому свои клятвенные уверения. Кроме того, известно, что Хэррингей не создал ни одного шедевра и, по убеждению своих самых близких друзей, никогда ничего выдающегося не создаст.
Перевод М. Колпакчи
В первый день нового года три обсерватории почти одновременно объявили, что в движении планеты Нептун, самой отдаленной из всех обращающихся вокруг Солнца, замечена большая неправильность. Огилви еще в декабре указал на непонятное замедление движения Нептуна. Подобное сообщение, однако, не могло заинтересовать мир, большая часть населения которого не знала даже о существовании планеты Нептун. Открытие еле заметного отдаленного пятнышка света в районе закапризничавшей планеты также не вызвало ни у кого особенного волнения, если не считать астрономов. Однако ученые обратили серьезное внимание на это сообщение даже раньше, чем стало известно, что новое тело быстро увеличивается и становится все ярче, что его движение совершенно не похоже на движение планет и что Нептун и его спутник все больше и больше отклоняются от обычной орбиты – явление совершенно беспрецедентное.
Помимо ученых, мало кто способен представить себе всю чудовищную изолированность Солнечной системы. Солнце, его крохотные планеты, пылинки астероидов и бесплотные кометы плывут в беспредельной пустоте, почти непостижимой для воображения. За орбитой Нептуна, насколько мы можем судить, простирается пустое пространство, лишенное тепла, света и звука, абсолютная пустота, миллион миль, повторенный двадцать миллионов раз, – таково наименьшее расстояние, которое нужно пересечь, чтобы достичь ближайшей звезды. И за исключением немногих комет менее материальных, чем тончайшее пламя, на памяти человечества ничто не пересекало бездны этого пространства, пока в самом начале XX века не появилось это неизвестное блуждающее тело. Огромная масса материи, тяжелая, стремительная, неожиданно вынырнула из черной безвестности небесной пустоты в пределы, доступные лучам Солнца. На второй день пришелец был ясно виден даже в слабый телескоп, как пятнышко с еле уловимым диаметром, в созвездии Льва, вблизи Регула. Скоро его можно было наблюдать в театральный бинокль.
На третий день нового года читатели газет на обоих полушариях были впервые оповещены о действительном значении этого необычного небесного явления. «Столкновение планет» – так озаглавила статью одна лондонская газета, публикуя высказанное Дюшеном мнение, что неизвестная новая планета, вероятно, столкнется с Нептуном. Редакционные статьи были посвящены той же теме. Таким образом, третьего января в большинстве мировых столиц царило неясное ожидание какого-то неминуемого небесного явления, и, когда зашло Солнце и на Земле наступила ночь, тысячи людей обратили взоры на небо, чтобы увидеть все те же давно знакомые звезды.
Ничто не изменилось, пока в Лондоне не наступил рассвет и не зашло созвездие Близнецов, а звезды над головой не начали бледнеть. Это был обычный зимний рассвет. Тьма медленно сменялась дневным сумраком, а кое-где желтый блеск газа и свечей в окнах показывал, что люди уже встают. И вдруг сонный полицейский перестал зевать, замерли суетящиеся люди на рынках, рабочие, спешившие на работу, развозчики молока и разносчики газет, усталые, бледные кутилы, возвращающиеся домой, бездомные бродяги и часовые на своих постах, батраки, бредущие в поле, и браконьеры, тайком пробирающиеся домой (вся сумрачная, пробуждающаяся страна увидела это), и в океане – моряки, ожидавшие дня: в западной части неба внезапно вспыхнула большая белая звезда!
Она была ярче любой звезды на нашем небосклоне, ярче вечерней звезды в часы наибольшей яркости. Она сверкала, белая и большая, еще час после наступления дня, уже не мерцающая точка, а небольшой круглый сияющий диск. И там, куда еще не дошли научные знания, люди смотрели на нее со страхом и говорили о войнах и моровых язвах, предвещаемых этим огненным знамением в небе. Коренастые буры, темнокожие готтентоты, негры Золотого Берега, французы, испанцы, португальцы – все стояли под лучами восходящего Солнца, наблюдая, как странная новая звезда исчезала за краем горизонта.
А в сотнях обсерваторий уже несколько часов нарастало сдержанное волнение, прорвавшееся, когда два далеких тела столкнулись; в спешке готовились фотографические аппараты и спектроскопы, чтобы запечатлеть небывалое, удивительное явление – гибель целого мира. Ибо в огне погиб целый мир – планета, сестра нашей Земли, но намного превосходившая ее размерами. Неизвестная планета, явившаяся из неизмеримых глубин пространства, ударилась о Нептун, и жар, возникший от столкновения, превратил два твердых тела в единую раскаленную массу. В тот день, за два часа до восхода Солнца, бледная большая звезда обошла весь мир и исчезла из виду на западе, когда Солнце встало уже высоко. Повсюду люди дивились на эту звезду, но из всех, кто видел ее, больше всего удивлялись ей моряки – постоянные наблюдатели звезд, – ведь, находясь далеко в море, они ничего не слышали о ее появлении и теперь глядели, как она восходит, подобно карликовой Луне, поднимается к зениту, висит над головой и на исходе ночи потухает на западе.
А когда она снова взошла над Европой, толпы зрителей на пригорках, на крышах домов, на открытых местах уже смотрели на восток, ожидая восхода этой новой большой звезды. Она восходила, предшествуемая белым сиянием, подобным блеску белого огня, и те, кто в предыдущую ночь видел ее рождение, теперь разразились криками. «Она стала больше! – кричали они. – Она стала ярче!» И действительно, хотя серп Луны, заходившей на западе, был гораздо больше, он при всей своей величине сиял не ярче маленького диска удивительной звезды.
«Она стала ярче!» – восклицали толпившиеся на улицах люди. Но наблюдатели в темных обсерваториях переглядывались, затаив дыхание. «Она приближается, – говорили они. – Приближается!»
И один голос за другим повторял: «Она приближается!» И телеграф выстукивал это известие, и оно передавалось по телефонной проволоке, и в тысяче городов перепачканные наборщики набирали слова: «Она приближается!» Клерки в конторах бросали перья, пораженные страшной мыслью, люди, разговаривавшие в тысяче мест, вдруг осознавали страшную возможность, заключенную в словах: «Она приближается!» Эти слова неслись по просыпающимся улицам; их выкрикивали на покрытых инеем дорогах мирных деревень. Люди, прочитавшие эти слова на трепещущей телеграфной ленте, стояли в желтом свете открытых дверей и кричали прохожим: «Она приближается!» Хорошенькие женщины, раскрасневшиеся, сверкающие драгоценностями, выслушивали от своих кавалеров в перерыве между танцами шутливый рассказ об этом событии и с притворным интересом спрашивали: «Приближается? В самом деле? Как интересно! Каким умным, умным человеком надо быть, чтобы сделать такое открытие!»
Одинокие бродяги, не нашедшие приюта в эту холодную зимнюю ночь, поглядывали на небо и бормотали, чтобы отвлечься: «Пусть приближается, ночь холодна, как благотворительность. Только если она даже и приближается, тепла и от нее все равно немного».
– Что мне за дело до новой звезды? – кричала плачущая женщина, опускаясь на колени возле умершего.
Школьник, вставший рано, чтобы готовиться к экзамену, размышлял, глядя сквозь покрытое морозным узором стекло на большую, ярко сияющую белую звезду. «Центробежность! Центростремительность… – сказал он, подперев кулаком подбородок. – Если планета, потеряв свою центробежную силу, вдруг остановится, что тогда? Будет действовать сила центростремительная – и планета упадет на Солнце. И тогда… Окажемся ли мы на ее пути? Неужели…»
Этот день угас, как и все предыдущие бесчисленные дни, а в поздние часы морозной ночи вновь пришла странная звезда. Она была теперь так ярка, что увеличившаяся Луна казалась только бледно-желтой тенью самой себя. Один из городов Южной Африки встречал наиболее уважаемого из своих граждан и его молодую жену, возвращавшихся из свадебной поездки. «Даже небеса иллюминованы», – сказал льстец. Под тропиком Козерога двое темнокожих влюбленных, чья любовь была сильнее страха перед дикими зверями и злыми духами, притаились в камышах, где летали светляки. «Это наша звезда», – шептали они, упоенные ее серебристым сиянием.
Великий математик у себя в кабинете отодвинул лежавшие перед ним листы бумаги: его вычисления были закончены. В белом пузырьке еще оставалось немного лекарства, которое помогало ему бодрствовать и работать в течение четырех долгих ночей. Каждый день он, как всегда, спокойный, точный, терпеливый, читал лекции студентам, а затем возвращался к своим вычислениям. Его осунувшееся и немного воспаленное после искусственной бессонницы лицо было серьезно. Некоторое время он, казалось, о чем-то размышлял. Потом подошел к окну, и штора, щелкнув, поднялась. На полпути к зениту, над скученными крышами, трубами и колокольнями города, висела звезда.
Он взглянул на нее так, как смотрят в глаза честному противнику.
– Ты можешь убить меня, – сказал он, помолчав. – Но я могу вместить тебя – и всю Вселенную тоже – в этом крошечном мозгу. Я не захотел бы поменяться с тобой. Даже теперь.
Он посмотрел на маленький пузырек.
– Больше спать незачем, – сказал он.
На следующий день в полдень, точно, минута в минуту, он вошел в свою аудиторию, положил шляпу, как всегда, на край стола и тщательно выбрал самый большой кусок мела. Студенты утверждали, будто он может читать лекцию, только если вертит в пальцах мел, и однажды, когда мел был спрятан, он якобы не сумел сказать ни слова. Теперь он посмотрел из-под седых бровей на поднимающиеся амфитеатром ряды молодых, оживленных лиц и заговорил в обычной своей манере, выбирая самые простые слова и фразы.
– По некоторым обстоятельствам, от меня не зависящим, – сказал он и остановился, – я не смогу закончить этот курс. Судя по всему, милостивые государи, если говорить кратко и ясно, судя по всему, человечество жило напрасно.
Студенты переглянулись: не ослышались ли они? Не сошел ли он с ума? Они поднимали брови, они усмехались, но двое-трое напряженно смотрели на спокойное, обрамленное седыми волосами лицо профессора.
– Было бы интересно, – продолжал он, – посвятить сегодняшнее утро расчетам, которые привели меня к такому выводу. Постараюсь, насколько могу, все вам объяснить. Предположим…
Он повернулся к доске, обдумывая диаграмму, как делал это обычно.
– Что значит «жило напрасно»? – шепотом спросил один студент другого.
– Слушай! – отозвался тот, кивая на лектора.
Скоро они начали понимать.
В эту ночь звезда взошла позднее, так как движение на восток увлекло ее через созвездие Льва к Деве, и свет ее был так ярок, что, когда она поднялась, небо стало прозрачно-синим и все звезды скрылись, за исключением Юпитера, бывшего в зените, Капеллы, Альдебарана, Сириуса и двух звезд Большой Медведицы. Она была ослепительно белой и очень красивой. Во многих местах земного шара в эту ночь вокруг новой звезды заметили бледное кольцо. Она стала заметно больше. В ясном небе тропиков она благодаря преломлению света, казалось, достигла величины почти четверти лунного диска. В Англии земля была по-прежнему покрыта инеем, но свет заливал все, как в летнюю лунную ночь. В этом холодном, ясном свете можно было разобрать обыкновенную печать, и городские фонари казались желтыми и бледными.
В эту ночь на Земле никто не спал, и в Европе над деревнями в холодном воздухе стоял глухой гул, подобный жужжанию пчел в кустах. В городах он разрастался в набат. Это звонили колокола на миллионах башен и колоколен, призывая людей отказаться от сна, не грешить больше и собираться в церквах для молитвы. А в небе, по мере того как Земля совершала свой поворот вокруг оси и ночь проходила, поднималась ослепительная звезда.
Во всех городах улицы и дома светились огнями, верфи сияли, и всю ночь дороги, ведущие к возвышенностям, были освещены и полны народу. По всем морям, омывающим цивилизованные страны, суда с паровыми машинами, суда с надутыми парусами плыли на север, набитые людьми и животными, потому что по всему свету телеграф уже разнес переведенное на сотни языков предупреждение великого математика. Новая планета и Нептун, сплетенные в пламенном объятии, неслись все быстрее и быстрее к Солнцу. Огненная масса уже пролетала по тысяче миль в секунду, и с каждой секундой ужасающая скорость увеличивалась. Если бы планета сохранила свое направление, то пролетела бы на расстоянии ста миллионов миль от Земли и не причинила бы ей вреда. Но вблизи этого ее пути, пока еще почти не потревоженная, вращалась со своими лунами могучая планета Юпитер, совершая величественный оборот вокруг Солнца. С каждой минутой притяжение между огненной звездой и величайшей из планет становилось все сильнее. Что могло произойти в результате? Юпитер неизбежно должен был отклониться от своей орбиты и начать двигаться по эллипсу, а огненной звезде, отвлекаемой его притяжением, предстояло «описать кривую» и по пути к Солнцу либо столкнуться с Землей, либо пройти очень близко от нее. «Землетрясения, вулканические извержения, циклоны, гигантские приливные волны, наводнения и неуклонное повышение температуры до неизвестно какого предела» – вот что предсказывал великий математик.
А в вышине, подтверждая его слова, сияла одинокая, холодная, голубовато-белая звезда близящегося светопреставления.
Многим, кто, до боли напрягая зрение, смотрел на нее в эту ночь, казалось, что ее приближение заметно на глаз. И в эту же ночь неожиданно изменилась погода: мороз, охвативший Центральную Европу, Францию и Англию, сменился оттепелью.
Но если я сказал, что люди молились всю ночь напролет, садились на корабли, бежали в горы, – это не значит, что весь мир был охвачен ужасом из-за появления звезды. Привычка и нужда по-прежнему правили миром, и, если не считать разговоров в свободное от работы время, созерцания великолепия ночного неба, девять человек из десяти жили своей обычной жизнью. Во всех городах все магазины, за исключением одного или двух, тут и там открывались и закрывались в положенное время; врачи и гробовщики занимались своим делом, рабочие собирались на фабриках, солдаты маршировали, ученики учились, влюбленные искали встреч, воры прятались и убегали, политики строили свои планы. Печатные машины грохотали ночи напролет, выпуская газеты, и многие священники той или иной церкви отказывались открывать свои храмы, чтобы не поощрять того, что они считали безрассудной паникой. Газеты напоминали об уроке тысячного года: тогда ведь тоже ожидали конца света. Звезда, в сущности, не звезда, а только газ, комета; и даже если бы это была звезда, все равно она не может столкнуться с Землей. Таких случаев еще не было. Всюду о себе заявлял здравый смысл – презрительный, насмешливый, склонный требовать строгих мер против упрямых паникеров. Вечером, в семь часов пятьдесят минут по гринвичскому времени, звезда сблизится с Юпитером. Тогда будет видно, какой оборот примет дело. В грозном предостережении великого математика многие были склонны видеть искусную саморекламу. В конце концов здравый смысл, немного разгоряченный спором, отправился спать и тем доказал незыблемость своих убеждений. Варварство и невежество, которым приелась эта новинка, также вернулись к привычным занятиям, и все животное царство, за исключением воющих собак, перестало обращать внимание на звезду.
И все же, когда наблюдатели в европейских государствах снова увидели звезду, которая, правда, взошла на час позднее, но казалась не больше, чем в предыдущую ночь, не спало еще достаточное количество скептиков, чтобы высмеять великого математика и заключить, что опасность уже миновала.
Но скоро насмешки стихли: звезда росла. Она росла с грозным постоянством, час от часу; с каждым часом она приближалась к полуночному зениту и становилась все ярче и ярче, пока не превратила ночь в день. Если бы звезда двигалась к Земле не по кривой, а по прямой, и если бы она не потеряла своей скорости под влиянием притяжения Юпитера, она должна была бы пролететь бездну, отделявшую ее от Земли, в один день, но она двигалась по кривой, и ей потребовалось целых пять дней, чтобы приблизиться к нашей планете. На следующую ночь, когда звезда взошла над Англией, она была величиной в треть лунного диска, и оттепель все усиливалась. Взойдя над Америкой, звезда была уже величиной почти с Луну, но в отличие от Луны она слепила и жгла. И там, где она всходила, начинал дуть жаркий ветер, а в Виргинии, Бразилии и в долине реки Святого Лаврентия она блестела сквозь клубы грозовых туч, сверкающих фиолетовыми молниями и сыплющих небывалым градом. В Манитобе наступила оттепель и началось опустошительное наводнение. На всех горах в эту ночь начали таять снега и льды, все реки, берущие начало в этих горах, вздулись, и забурлили, и скоро в верховьях потащили деревья, трупы людей и животных. Вода поднималась с неизменным постоянством, озаренная призрачным блеском, и наконец вышла из берегов и хлынула вслед за бегущим населением речных долин.
На южноатлантическом и аргентинском побережьях приливы были выше, чем когда-либо на памяти людей, и во многих местах бури гнали воду на много миль в глубь материка, затопляя целые города. За ночь зной стал так велик, что восход Солнца казался приближением тени. Начались землетрясения; они прокатились по всей Америке, от полярного круга до мыса Горн, сглаживая горные склоны, разрезая землю, обращая дома и ограды в щебень. После одной такой могучей судороги рухнула половина Котопахи и хлынул жидкий поток лавы, такой глубокий, широкий и быстрый, что он в один день достиг моря.
А звезда продвигалась над Тихим океаном, имея в кильватере побледневшую Луну и волоча за собой, как шлейф, грозовые бури и растущую приливную волну, которая тяжело катилась за ней, пенясь, захлестывая один остров за другим и начисто смывая с них людей. И наконец эта клокочущая страшная стена в пятьдесят футов высоты, озаренная ослепительным светом, гонимая раскаленным ветром, с голодным воем обрушилась на все азиатское побережье и ринулась в глубь материка по равнинам Китая. Недолгие минуты звезда, теперь более горячая, громадная и яркая, чем самое жаркое солнце, с беспощадной ясностью озаряла обширную густонаселенную страну, ее города и деревни с пагодами и садами, дороги, необозримые возделанные поля и миллионы лишившихся сна людей, в беспомощном страхе глядящих в добела накаленное небо, а потом на них надвинулся все нарастающий рокот воды. Та же участь постигла в эту ночь многие миллионы людей: они бежали, сами не зная куда, задыхаясь, с помутившимся от страха сознанием, а сзади вставала стремительная белая стена воды. И наступала смерть.
Китай был залит слепящим белым светом, но над Японией, Явой и всеми островами Восточной Азии большая звезда вставала тусклым огненным шаром, потому что вулканы, приветствуя ее, выбрасывали в воздух огромные столбы пара, дыма и пепла. Вверху были раскаленные газы и пепел, внизу – яростные потоки лавы, и вся Земля содрогалась и гудела от толчков землетрясения. Вскоре начали таять вечные снега Тибета и Гималаев, и вода по десяткам миллионов углубляющихся, сходящихся русел устремилась на равнины Бирмы и Индостана. Сплетенные кроны индийских джунглей пылали в тысяче мест, а в воде, кипящей у основания стволов, плыли темные тела и все еще слабо шевелились в свете кроваво-красных языков пламени. В слепом ужасе бесчисленные людские толпы устремились по широким водным дорогам к последней надежде человечества – к открытому морю.
Звезда с ужасающей быстротой становилась теперь все больше, все жарче, все ярче. Океан под тропиками перестал фосфоресцировать, и пар призрачным вихрем клубился над темными, вздымающимися валами, на которых чернели пятна гонимых бурей кораблей.
И тогда случилось нечто удивительное. Тем, кто в Европе ожидал восхода звезды, показалось, что Земля перестала вращаться. Везде – на открытых вершинах холмов и на плоскогорьях – люди, спасавшиеся здесь от наводнения, рушащихся домов и горных обвалов, напрасно ожидали этого восхода. Час проходил за часом в томительном ожидании, а звезда все не всходила. Снова люди увидели древние созвездия, которые они считали исчезнувшими для себя навсегда. В Англии было жарко, но небо было ясное. Хотя Земля содрогалась непрестанно, но в тропиках просвечивали сквозь пелену пара Сириус, Капелла и Альдебаран. И когда наконец большая звезда взошла – почти на десять часов позже, чем прежде, – вслед за ней почти сразу взошло Солнце, а в центре белого сердца звезды виднелся черный диск.
Звезда начала замедлять свое движение, проходя еще над Азией, и вдруг, когда она висела над Индией, свет ее затуманился. Вся индийская равнина от устья Инда до устья Ганга этой ночью представляла собой неглубокое сверкающее озеро, над поверхностью которого поднимались храмы и дворцы, плотины и холмы, черные от усеявших их людей. На каждом минарете гроздьями висели люди и один за другим падали в мутную воду, когда жара и страх наконец одолевали их. Над всей страной стоял непрерывный вопль, и вдруг на это горнило отчаяния набежала тень, подул холодный ветер, и заклубились тучи, порожденные охлаждением воздуха. Смотревшие вверх на звезду, почти ослепленные люди заметили, что на нее наползает черный диск. Между звездой и Землей проходила Луна. И как будто в ответ на мольбы людей, воззвавших к Богу, в минуту этой передышки на востоке со странной, необъяснимой быстротой вынырнуло Солнце. И звезда, Солнце и Луна, все вместе, понеслись по небу.
И вскоре те, кто так долго ждал появления звезды в Европе, увидели, как она взошла почти одновременно с Солнцем; некоторое время оба светила стремительно неслись по небу. Их движение замедлилось, и наконец они остановились, слившись в одно блестящее пламя в зените. Луна больше не затемняла звезды, и ее уже нельзя было различить в ярком блеске неба. И хотя большинство уцелевших смотрели на небо в мрачном отупении, порожденном голодом, усталостью, жарой и отчаянием, все же нашлись люди, понявшие значение этих явлений. Звезда и Земля сошлись на самое близкое расстояние, проплыли рядом, и звезда начала удаляться. Она уже уменьшалась, все быстрее и быстрее завершая свой стремительный полет к Солнцу.
Потом сгустились тучи и скрыли небо, и грозы окутали весь мир огненной тканью молний; по всей земле пролились такие ливни, каких люди никогда еще не видали, а там, где вулканы извергали красное пламя к балдахину туч, с неба низринулись потоки грязи. Повсюду вода отступала с равнин, оставляя покрытые грязью и тиной развалины, и земля, как взморье после бури, была усеяна всевозможными обломками и трупами людей и животных. Вода возвращалась в русла много дней, смывая почву, деревья и дома, намывая огромные дамбы и вырывая глубокие овраги. Это были дни мрака, сменившие дни звезды и зноя. Все это время и в течение еще многих недель и месяцев продолжались непрерывные землетрясения.
Но звезда прошла, и люди, гонимые голодом, понемногу собирались с мужеством и возвращались в свои разрушенные города, к опустошенным житницам и залитым полям. Те немногие суда, которым удалось спастись от бурь, подошли к берегу, полуразбитые, осторожно пробираясь среди новых скал и отмелей, выросших в ранее хорошо знакомых гаванях. А когда бури утихли, люди заметили, что повсюду дни стали жарче, чем раньше, Солнце делалось больше, а Луна, уменьшившись до одной трети своей прежней величины, совершает свой оборот вокруг Земли за восемьдесят дней.
В нашу задачу не входит рассказывать о новых братских отношениях между людьми; о том, как были спасены законы, книги и машины, о странной перемене, происшедшей с Исландией, Гренландией и побережьем Баффинова залива: такими зелеными, цветущими стали эти места, что приплывшие туда моряки с трудом поверили своим глазам. Не будет здесь рассказано и о том, как в результате потепления люди расселились к северу и к югу, ближе к полюсам. Это была только история появления и исчезновения звезды.
Марсианские астрономы – потому что на Марсе есть астрономы, хотя марсиане – существа, сильно отличающиеся от людей, – были, естественно, глубоко заинтересованы этими явлениями. Конечно, они рассматривали их со своей точки зрения. Один из них писал: «Принимая во внимание величину и температуру метательного снаряда, пущенного через нашу Солнечную систему к Солнцу, можно только удивляться, что на Земле, едва не задетой снарядом, имели место сравнительно незначительные разрушения. Все известные нам очертания континентов и водных пространств остались прежними, и единственно заметной переменой было значительное уменьшение белых пятен, которые считаются замерзшей водой на земных полюсах».
Это только показывает, какими ничтожными кажутся величайшие людские бедствия, если смотреть на них с расстояния нескольких миллионов миль.
Перевод Н. Кранихфельд
Год тому назад близ Севендайлса еще стояла маленькая, вся снаружи закопченная лавка, на вывеске которой поблекшими желтыми буквами было написано: «К. Кэйв. Набивка чучел и антиквариат». Набор вещей, выставленных в ее витрине, поражал своей пестротой. Там были слоновые клыки, разрозненные шахматные фигуры, четки, пистолеты, ящик, наполненный стеклянными глазами, два черепа тигра и один человеческий, изъеденные молью обезьяньи чучела (одно – со светильником в лапе), старинная шкатулка, несколько засиженных мухами страусовых яиц, рыболовные принадлежности и на удивление грязный пустой аквариум. В то время, к которому относится наш рассказ, среди всех этих предметов лежал и кусок хрусталя, выточенный в форме яйца и прекрасно отшлифованный. На него-то и смотрели двое стоявших перед витриной лавки: высокий худощавый пастор и смуглый чернобородый молодой человек восточного типа, одетый весьма непритязательно. Молодой человек что-то говорил, энергично жестикулируя, видимо, убеждал своего спутника купить хрустальное яйцо.
Они все еще стояли у витрины, когда мистер Кэйв вошел в лавку из задней комнаты, дожевывая на ходу кусок хлеба с маслом, отчего бородка у него так и ходила ходуном. Увидев этих людей и догадавшись, что их заинтересовало, мистер Кэйв как-то сразу сник. Он виновато оглянулся через плечо и тихо притворил за собой дверь в заднюю комнату. Мистер Кэйв был старичок небольшого роста со странными водянисто-голубыми глазами на бледном лице. В волосах его мелькала желтоватая седина; на нем был поношенный синий сюртук, допотопный цилиндр и расшлепанные ковровые туфли. Он выжидательно смотрел на разговаривающих. Но вот пастор сунул руку в глубину кармана, посмотрел на вынутые оттуда монеты и блеснул зубами в приятной улыбке. Когда они вошли в лавку, физиономия у мистера Кэйва вытянулась еще больше.
Пастор спросил без всяких обиняков, сколько стоит хрустальное яйцо. Мистер Кэйв бросил тревожный взгляд на дверь в заднюю комнату и ответил: пять фунтов. Обращаясь одновременно к своему спутнику и к мистеру Кэйву, пастор запротестовал против такой высокой цены (она действительно была гораздо выше того, что хотел просить Кэйв, когда эта вещь попала к нему в руки) и начал было торговаться. Мистер Кэйв подошел к входной двери и распахнул ее.
– Цена пять фунтов, – повторил он, видимо, не желая утруждать себя бесцельным спором.
И тут в щелке над занавеской, которой была задернута застекленная дверь в комнату при лавке, показалась верхняя половина женского лица, глаза с любопытством уставились на покупателей.
– Цена пять фунтов, – дрогнувшим голосом проговорил мистер Кэйв.
Смуглый молодой человек пока что молчал, внимательно присматриваясь к Кэйву. Но теперь и он подал голос:
– Хорошо, платите пять фунтов.
Пастор посмотрел на своего спутника – не шутит ли он – и, переведя взгляд на мистера Кэйва, увидел, что тот побелел как полотно.
– Это слишком дорого, – сказал пастор и, снова порывшись в кармане, стал пересчитывать наличность.
У него оказалось немногим более тридцати шиллингов, и он стал урезонивать своего спутника, с которым был, видимо, на самой короткой ноге. Это дало мистеру Кэйву возможность собраться с мыслями, и он начал взволнованно объяснять, что, собственно говоря, хрустальное яйцо не продается. Оба покупателя, естественно, удивились: следовало бы подумать об этом раньше! Зачем же тогда было назначать цену? Мистер Кэйв сконфузился, но продолжал твердить, что продать яйцо он не может, так как договорился с другим покупателем. Истолковав эти слова как попытку еще больше набить цену, пастор и его друг сделали вид, будто хотят уйти, но в эту минуту задняя дверь отворилась, и в лавку вошла хозяйка – обладательница черной челки и маленьких глазок.
Эта женщина, полная, с грубыми чертами лица, была моложе мистера Кэйва и гораздо крупнее его. Поступь у нее была тяжелая, лицо – красное от волнения.
– Хрустальное яйцо продается, – сказала она. – И пять фунтов – цена вполне достаточная. Я не понимаю, Кэйв, почему ты отказываешь джентльменам?
Мистер Кэйв, крайне расстроенный этим внезапным вторжением, сердито посмотрел на жену поверх очков и стал – впрочем, не слишком уверенно – защищать свое право вести дела по собственному усмотрению. Между ними началась перепалка. Оба покупателя с интересом наблюдали эту сцену, то и дело подсказывая миссис Кэйв новые доводы. Припертый к стене, Кэйв все же не хотел сдаваться и нес что-то несуразное, путаное об утреннем покупателе хрустального яйца. Волнение дорого ему стоило, но он с необыкновенным упорством продолжал твердить свое.
Конец этому странному спору положил смуглый молодой человек. Он сказал, что они зайдут через два дня, и, следовательно, у того покупателя, на которого ссылается мистер Кэйв, будет время воспользоваться такой отсрочкой.
– Но уж тогда твердо, – сказал пастор. – Пять фунтов.
Миссис Кэйв сочла своим долгом принести извинения за мужа, пояснив, что он у нее иной раз «чудит», и по уходе покупателей супружеская чета приступила к открытому обсуждению этого случая во всех его подробностях.
Миссис Кэйв изъяснялась напрямик. Дрожа от волнения, несчастный муж то твердил о каком-то другом покупателе, то сбивался с этой версии и говорил, что хрустальное яйцо стоит не меньше десяти гиней.
– Тогда почему же ты спросил с них пять фунтов? – возразила ему жена.
– Прошу тебя, предоставь мне вести мои дела по собственному усмотрению, – отвечал Кэйв.
В доме мистера Кэйва жили его падчерица и пасынок, и вечером, за ужином, случай в лавке снова подвергся обсуждению. Домашние мистера Кэйва и без того невысоко ценили деловые способности главы семейства, но последний его поступок показался им верхом безумия.
– По-моему, он и раньше придерживал это яйцо, – заявил пасынок, нескладный верзила лет восемнадцати.
– Но пять фунтов! – воскликнула падчерица, юная дева двадцати шести лет, большая любительница поспорить.
Ответы мистера Кэйва были жалки по своей беспомощности: он только невнятно бормотал, что ему лучше знать, как вести дела. Посреди ужина несчастного погнали в лавку – запереть дверь на ночь. Уши у него горели, слезы досады затуманивали стекла очков. «Почему я не убрал яйцо с витрины? Какое легкомыслие!» – вот что не давало ему покоя. Он не видел способа отвертеться от продажи хрустального яйца.
После ужина падчерица и пасынок мистера Кэйва принарядились и отправились гулять, а жена поднялась наверх, и, попивая горячую воду с сахаром, лимоном и еще кое с чем, стала обдумывать, как быть с хрустальным яйцом. Мистер Кэйв ушел в лавку и оставался там довольно долго под тем предлогом, что ему надо делать маленькие гроты в аквариумах для золотых рыбок. На самом же деле он был занят совсем другим, но об этом речь впереди.
На следующий день миссис Кэйв обнаружила, что хрустальное яйцо убрано с витрины и припрятано за стойкой подержанных книг по рыболовству. Миссис Кэйв переложила его обратно, на видное место. Говорить об этом с мужем она не пожелала, так как у нее разыгралась мигрень. Что касается самого Кэйва, то у него такое желание вообще никогда не появлялось. Время тянулось томительно. Мистер Кэйв был рассеян больше обычного (если только это возможно) и сверх того крайне раздражителен. После обеда, когда жена, по своему обыкновению, легла отдохнуть, он опять убрал яйцо с витрины.
На следующий день мистер Кэйв повез в одну из клиник морских собачек, которые требовались там для анатомических занятий. В его отсутствие мысли миссис Кэйв снова вернулись к хрустальному яйцу и к тому, как потратить нежданно-негаданные пять фунтов. Она уже успела самым приятным образом распределить эту сумму – между прочим, имелась в виду покупка зеленого шелкового платья и поездка в Ричмонд, – как вдруг звон колокольчика у входной двери вызвал ее в лавку. Посетитель оказался лаборантом из клиники, который пришел пожаловаться на то, что лягушки, заказанные накануне, до сих пор не доставлены. Миссис Кэйв не одобряла этой отрасли торговых операций мистера Кэйва, вследствие чего джентльмену, явившемуся в несколько запальчивом настроении, пришлось удалиться ни с чем после краткой и вежливой – в той мере, в какой это зависело от него, – беседы с хозяйкой. Взоры миссис Кэйв, естественно, обратились к витрине: вид хрустального яйца должен был придать реальность пяти фунтам и мечтам, связанным с ними. Каково же было ее удивление, когда яйца в витрине не оказалось!
Она кинулась к тому месту за прилавком, где нашла яйцо накануне. Но его и там не было. Тогда миссис Кэйв немедленно приступила к обыску лавки.
Доставив морских собачек по адресу, мистер Кэйв вернулся домой около двух часов и застал в лавке полный разгром. Жена его, злая-презлая, стояла на коленях за прилавком и рылась в материале для набивки чучел. Когда колокольчик возвестил о приходе мистера Кэйва, она высунула из-под прилавка свою свирепую красную физиономию и с места в карьер обвинила мужа, что он «спрятал его».
– Кого его? – спросил мистер Кэйв.
– Хрустальное яйцо.
Выражая всем своим видом крайнее удивление, мистер Кэйв бросился к витрине.
– Разве его здесь нет? – воскликнул он. – Боже мой! Куда же оно делось?
В эту минуту из задней комнаты в лавку вошел с громкой бранью пасынок мистера Кэйва, вернувшийся домой за минуту до него. Он работал на той же улице подмастерьем у краснодеревщика, торговавшего подержанной мебелью, но обедал дома и теперь изволил гневаться, что обед еще не готов. Однако, услыхав о пропаже, мальчишка забыл о еде и перенес свой гнев с матери на отчима. Мать и сын, разумеется, сразу же решили, что мистер Кэйв спрятал хрустальное яйцо. Но он всячески отрицал это, не скупясь на клятвенные заверения, ни для кого не убедительные, и под конец сам стал обвинять сперва жену, а за ней и пасынка в том, что хрустальное яйцо спрятали они, решив тайком продать его. Ожесточенный, полный накала страстей спор привел к тому, что у миссис Кэйв начался нервный припадок – нечто среднее между истерикой и приступом бешенства, а пасынок на целых полчаса опоздал в мебельную мастерскую. Мистер Кэйв укрылся от разбушевавшейся жены в лавке.
Вечером спор возобновился, но уже с меньшей горячностью, и спорщики вели его под началом падчерицы обстоятельно, как судебное разбирательство. Ужин прошел невесело и закончился тяжелой сценой. Мистер Кэйв вскипел и выбежал из лавки, громко хлопнув дверью. Воспользовавшись его отсутствием, остальные члены семьи высказались о нем с полной свободой, а затем обшарили весь дом с чердака до подвала в надежде найти хрустальное яйцо. На следующий день оба покупателя снова появились в лавке. Миссис Кэйв встретила их чуть не со слезами. Как выяснилось из ее слов, никто, ни один человек не может себе представить, сколько ей всего пришлось вытерпеть от Кэйва на стезе их супружеской жизни. Кроме того, она поведала им – в несколько искаженном виде – историю исчезновения хрустального яйца. Пастор и смуглый молодой человек переглянулись между собой, внутренне посмеиваясь, но согласились с миссис Кэйв, что все это действительно очень странно. Они не стали задерживаться в лавке, так как миссис Кэйв явно вознамерилась изложить им всю свою биографию. Цепляясь за последнюю надежду, она все же успела спросить адрес пастора и пообещала известить его, если ей удастся добиться чего-нибудь от мужа. Адрес был дан, но потом, очевидно, утерян. Миссис Кэйв так и не могла сказать, куда он запропастился.
К вечеру того дня страсти в семействе мистера Кэйва несколько улеглись, и сам он, вернувшись из своей отлучки, поужинал в полном одиночестве, представлявшем приятный контраст с недавними бурями. Атмосфера в доме по-прежнему оставалась напряженной, но ни хрустальное яйцо, ни покупатели его так больше и не появились. Теперь, чтобы не вводить кого-либо в заблуждение, мы должны признаться, что мистер Кэйв просто-напросто лгал. Ему было хорошо известно, где находится хрустальное яйцо. Его хранил у себя мистер Джекоби Уэйс, помощник демонстратора больницы Св. Екатерины на Уэстборн-стрит. Прикрытое куском черного бархата, оно лежало у него дома на буфете возле графина с американским виски. От мистера Уэйса и были получены сведения, на основе которых написан этот рассказ. Кэйв принес хрустальное яйцо в сумке с морскими собачками и пристал к молодому ученому, чтобы тот спрятал его у себя. Мистер Уэйс согласился не сразу. У него были довольно своеобразные отношения с Кэйвом. Коллекционируя разного рода чудаков, он частенько приглашал к себе старика выкурить трубочку, выпить стакан вина и слушал его не лишенные занятности высказывания о жизни вообще и о миссис Кэйв в частности. Мистеру Уэйсу случалось иметь дело с этой дамой, когда мистера Кэйва не бывало в лавке. Он знал, что Кэйва притесняют дома, и, обдумав все как следует, решил приютить у себя хрустальное яйцо. Мистер Кэйв обещал объяснить свою странную приверженность к этой вещи, а пока что признался, что в хрустале ему открываются видения. В тот же вечер он опять зашел к молодому ученому.
Мистер Уэйс выслушал весьма путаный рассказ. Из него следовало, что Кэйв купил хрустальное яйцо заодно с другой мелочью на аукционе у одного разорившегося антиквара и, не зная стоимости этой вещи, назначил наугад десять шиллингов. Яйцо провалялось в витрине лавки несколько месяцев, и он уже подумывал, не снизить ли цену, как вдруг ему открылось нечто странное.
Надо иметь в виду, что здоровье у мистера Кэйва было плохое, а во время описываемых событий оно совсем расстроилось, чему немало способствовало также и пренебрежительное и прямо-таки дурное отношение к нему жены и ее детей. Миссис Кэйв, женщина взбалмошная, бессердечная, питала все возрастающую склонность к спиртным напиткам. Падчерица была заносчива и сварлива, пасынок не выносил своего приемного отца и пользовался каждым случаем, чтобы показать это. Хлопоты по лавке тяготили мистера Кэйва, и мистер Уэйс склонен думать, что старику тоже случалось иной раз грешить по части спиртного. В молодые годы Кэйв не знал лишений, получил хорошее образование, а теперь он по целым неделям страдал приступами меланхолии и бессонницей. Когда ему становилось невмоготу от тяжелых мыслей, он тихонько, стараясь никого не разбудить, вставал ночью со своего супружеского ложа и бродил по дому. И однажды, часа в три ночи – это было в конце августа, – случай привел его в лавку.
Эта грязная маленькая конура была погружена во тьму, и только в одном ее уголке теплился какой-то странный свет. Подойдя поближе, мистер Кэйв увидел, что свет исходит от хрустального яйца, которое лежало на краю прилавка, у самой витрины. Тонкий лучик, пробившийся с улицы сквозь щель в ставне, падал прямо на яйцо и словно наполнял его сиянием.
Мистер Кэйв сразу же понял, что это противоречит законам оптики, известным ему еще со школьной скамьи. Если бы луч преломился в хрустале и собрался в фокусе внутри его, это было бы понятно, но такое рассеивание света шло вразрез с основными законами физики. Мистер Кэйв подошел к яйцу поближе, взгляделся в самую его глубь, осмотрел его со всех сторон, вдруг загоревшись той любознательностью, которая помогла ему с молодых лет определить свое призвание. Он поразился, увидев, что свет растекается по всему яйцу, точно это был полый шар, наполненный светящимися парами. Разглядывая яйцо то с правой, то с левой стороны, он случайно заслонил его от луча света, но хрусталь и тогда нимало не потускнел. Потрясенный этим открытием, мистер Кэйв взял яйцо и перенес его подальше от окна, в самый темный угол лавки. Оно продолжало излучать сияние еще минут пять, потом стало медленно тускнеть и наконец погасло. Мистер Кэйв подставил его под луч света, и почти тотчас же сияние снова разлилось по нему.
Эту часть удивительного рассказа старого антиквара мистер Уэйс мог подтвердить. Он сам не раз держал яйцо под лучом шириной чуть меньше миллиметра. И действительно, в полной темноте, накрытый куском черного бархата, хрусталь хоть и слабо, но все же фосфоресцировал. Однако в этой фосфоресценции было что-то странное, и видели ее не все. Так, например, мистер Харбинджер – имя, известное всем, кто интересуется работой Пастеровского института, – вообще не заметил никакого свечения. У мистера Уэйса эта способность была несравненно ниже, чем у мистера Кэйва. И даже у самого мистера Кэйва она сильно колебалась, обостряясь в часы наибольшей усталости и плохого самочувствия.
Свечение в хрустальном яйце с первого дня словно зачаровало мистера Кэйва. И то, что он долгое время ни с кем не делился своим открытием, говорит о его глубоком одиночестве больше, чем мог бы сказать целый том трогательных описаний. Бедняга жил в атмосфере такого недоброжелательства, что вздумай он признаться, что вот такая-то вещь доставляет ему удовольствие, как его мигом лишили бы ее. Он заметил, что с приближением утра, при рассеянном освещении, хрусталь перестает светиться изнутри. Какое-то время вообще удавалось наблюдать это свечение только по ночам в самых темных углах лавки.
Тогда мистер Кэйв решил воспользоваться куском старого бархата, служившего фоном для коллекции минералов. Сложив бархат вдвое и накрыв им голову и руки, он улавливал игру света в хрустальном яйце даже днем. Но тут ему приходилось быть начеку, чтобы не попасться жене, и он предавался этому занятию, залезая из предосторожности под прилавок, только в послеобеденное время, когда она отдыхала наверху. И вот однажды, поворачивая яйцо в руках, мистер Кэйв увидел нечто новое. В глубине хрусталя словно вспыхнула молния, и ему показалось, будто перед ним открылись на миг бескрайние просторы какой-то неведомой страны. Он повернул яйцо еще раз и снова поймал в тускнеющем хрустале то же видение.
Было бы слишком долго и скучно излагать все подробности этого открытия мистера Кэйва. Достаточно сказать о результатах его опытов: держа хрусталь под углом примерно в сто тридцать семь градусов к лучу света, в нем можно было ясно и подолгу видеть широкую и чем-то совершенно необычную равнину. В пейзаже этом не было ничего фантастического, он казался вполне реальным, и чем сильнее был свет, тем живее и ярче обозначалась в нем каждая его деталь. Всю эту картину пронизывало движение, подчиняющееся размеренному ритму, и она непрестанно менялась в зависимости от направления луча света и той или иной точки зрения. Так бывает, когда рассматриваешь что-нибудь сквозь выпуклое стекло: стоит его повернуть, и все предстает в ином виде.
Мистер Уэйс уверял меня, что мистер Кэйв описывал ему все это очень обстоятельно, без малейших признаков возбуждения, которое обычно наблюдается у галлюцинирующих. Однако все попытки самого мистера Уэйса увидеть сколько-нибудь четкую картину в бледной, опаловой глубине хрусталя оканчивались полной неудачей. Видимо, разница в силе восприятия их обоих была слишком велика и то, что представлялось одному четким, ясным, было для другого всего лишь туманным пятном.
По словам мистера Кэйва, видение, открывавшееся ему в хрустальном яйце, оставалось неизменным. Это была широкая равнина, и он смотрел на нее откуда-то сверху, точно с башни или мачты. На востоке и на западе, далеко-далеко, равнину замыкали высокие красноватые скалы, похожие на те, что он видел на какой-то картине; на какой именно, мистер Уэйс так и не добился от него. Скалы тянулись с севера на юг (направление можно было определить по звездам ночью) и, теряясь в бесконечности, видимо, смыкались где-то в туманных далях. В первый раз мистер Кэйв был ближе к восточной цепи скал; тогда над ними всходило солнце и в воздухе парило множество каких-то существ, похожих на птиц. Против солнца они казались совсем черными, а попадая в тень, ложившуюся от скал, светлели. Внизу, под собой, мистер Кэйв видел длинный ряд зданий, и чем ближе они были к темному краю картины, где преломлялся луч света, тем все более расплывчатыми становились их очертания. Сверкающий на солнце широкий канал окаймляли деревья с необычными по форме и цвету стволами – то темно-зелеными, как мох, то серебристо-серыми. Что-то большое и яркое пролетело в вышине над красноватыми скалами и равниной. В первый раз это зрелище открывалось мистеру Кэйву на две-три секунды, не больше. Руки у него дрожали, голова тряслась, и неведомая равнина то возникала перед ним, то снова исчезала в тумане, стоило только ему потерять нужный угол зрения.
Второй раз удача пришла только через неделю. Промежуток не дал ничего, кроме нескольких мучительно неясных проблесков и некоторого опыта в обращении с яйцом. Теперь равнина открылась мистеру Кэйву в перспективе. Вид изменился, но у него была странная уверенность, неоднократно подкреплявшаяся в дальнейшем, что он каждый раз смотрит на этот странный мир с одного и того же места, но только в разных направлениях. Большое, длинное здание, крышу которого мистер Кэйв видел впервые внизу, под собой, теперь вытянулось в перспективе. По крыше он его и узнал. Вдоль фасада этого здания шла терраса поистине огромных размеров, а посредине нее, на равном расстоянии одна от другой, высились массивные, но стройные мачты, к верхушкам которых были прикреплены какие-то маленькие блестящие предметы, отражавшие лучи заходящего солнца. О назначении этих предметов мистер Кэйв догадался гораздо позже, когда рассказывал о своих опытах мистеру Уэйсу. Терраса нависала над зарослями роскошных цветущих кустарников, а дальше начинался широкий луг, в траве которого возлежали какие-то странные существа, похожие на огромных, раздавшихся в ширину жуков. За лугом бежала дорога, выложенная узором из розоватого камня, а еще дальше, вдоль цепи скал, сверкала зеркально-гладкая река, заросшая по берегам красной травой. Большие птицы тучами величественно парили в воздухе. По ту сторону реки, в чаще деревьев, покрытых мхами и лишайниками, высились дворцы, игравшие на солнце полировкой разноцветного гранита и металлической резьбой. И вдруг перед мистером Кэйвом что-то замелькало; это были словно взмахи крыльев или украшенного драгоценностями веера, и он увидел чье-то лицо, вернее, верхнюю часть лица, с огромными глазами – увидел его так близко от себя, точно их разделял только прозрачный хрусталь. Испуганный и пораженный живостью этих глаз, мистер Кэйв поднял голову, заглянул за яйцо и, очнувшись от своих видений, увидел себя все в той же холодной, темной лавчонке, пропитавшейся запахом метила, плесени и гнили. И пока он изумленно озирался по сторонам, сияние в хрустале стало меркнуть и вскоре совсем погасло.
Таковы были первые опыты мистера Кэйва. Рассказывал он о них обстоятельно, со всеми подробностями. Мелькнув перед ним в первый раз, пейзаж в хрустальном яйце поразил его воображение, а по мере того как он обдумывал увиденное, любопытство его перешло в страсть. Дела в лавке он вел теперь спустя рукава, помышляя только о том, как бы поскорее вернуться к своему новому занятию. И вот через несколько недель после странного открытия мистера Кэйва приход в лавку двух покупателей, тревоги, вызванные их намерением купить хрустальное яйцо, и исчезновение его с витрины – словом, все то, о чем я уже рассказывал.
До тех пор, пока мистер Кэйв держал свое открытие в тайне, он любовался этими чудесами украдкой, словно ребенок, одним глазком заглядывающий в чужой сад. Но мистер Уэйс обладал на редкость ясным и точным для начинающего ученого умом. Как только хрустальное яйцо появилось у него в доме и ему удалось убедиться собственными глазами, что старик антиквар говорит правду и что хрусталь действительно светится изнутри, он приступил к систематическому исследованию этого странного явления. Мистер Кэйв, не устававший любоваться зрелищем чудесной страны, просиживал у молодого ученого все вечера, с половины девятого до половины одиннадцатого, а иногда забегал и по воскресеньям, в послеобеденное время. Мистер Уэйс с самого начала вел подробную запись их общих наблюдений, и методичность его помогла установить, какое направление светового луча дает наилучшую возможность обозревать картины, открывающиеся в хрустальном яйце.
Поместив яйцо в ящик с небольшим отверстием для луча и заменив светло-коричневые шторы на окнах своей комнаты плотными черными занавесками, мистер Уэйс значительно улучшил условия наблюдений, так что вскоре они могли обозревать равнину из конца в конец.
Теперь, после этих предварительных сведений, мы дадим краткое описание призрачного мира внутри хрустального яйца. Исследователи всегда придерживались одного и того же метода работы: мистер Кэйв всматривался в хрусталь и рассказывал, что он там видит, а мистер Уэйс, научившийся писать в темноте еще в студенческие годы, конспектировал его рассказы. Когда хрусталь тускнел, яйцо снова помещали в ящик и включали электричество. Мистер Уэйс задавал вопросы и делал те или иные поправки по ходу наблюдений, стараясь избежать малейших неясностей. Словом, ни того, ни другого нельзя было заподозрить в визионерстве, их занятие носило чисто деловой характер.
Мистера Кэйва больше всего интересовали похожие на птиц существа, которые всякий раз появлялись в хрустале. Сначала он считал этих птиц чем-то вроде дневных летучих мышей, потом, как ни странно, решил, что это ангелы. Головы у них были круглые, поразительно схожие с человеческими. Одно из этих существ когда-то и напугало мистера Кэйва, встретившись с ним взглядом в хрустале. Их серебристые, лишенные оперения крылья искрились на свету, как чешуя у рыбы, только что вынутой из воды. Впрочем, мистер Уэйс вскоре установил, что крылья эти не были похожи на крылья летучих мышей или птиц, а держались на изогнутых ребрах, расходящихся веером от туловища. (Крыло бабочки с чуть изогнутыми прожилками – вот наиболее близкое сходство.) Само туловище у них было небольшое; ниже рта выступали два пучка хватательных органов, похожих на длинные щупальца. Как это ни казалось невероятным мистеру Уэйсу, но в конце концов он пришел к мысли, что именно им, крылатым существам, принадлежат величественные дворцы, напоминающие человеческое жилье, и роскошные цветущие сады – короче говоря, все то, чем ласкала глаз широкая равнина. Мистер Кэйв, со своей стороны, подметил еще одну особенность этих зданий: обитатели их влетали и вылетали оттуда не через двери, а в окна – большие, круглые, легко открывающиеся. Сядут на свои щупальца, прижмут сложенные крылья к тонкому, как тростинка, туловищу и легко спрыгнут внутрь. В этом рое было и множество других, более мелких существ, подобных большим стрекозам, бабочкам и летающим жукам, а на зеленой луговине лениво копошились и бескрылые жуки, слепящие глаз своей яркой окраской. Большеголовые мухи огромных размеров, но тоже лишенные крыльев, деловито скакали по дороге и террасам, отталкиваясь от земли при помощи своих щупалец, похожих на человеческие руки.
Я уже упоминал о каких-то блестящих предметах на мачтах, которые стояли на террасе дворца у самого края этой картины. Однажды, когда видимость была исключительно хороша, мистер Кэйв рассмотрел одну из таких мачт и увидел, что этот блестящий предмет ничем не отличается от его собственного хрустального яйца. И, как выяснилось из дальнейших наблюдений, такие же хрустальные шары были почти на всех других двадцати мачтах. Время от времени крылатые существа взлетали на одну из них и, сложив крылья, обхватив ее щупальцами, подолгу, иной раз минут по пятнадцать, пристально вглядывались в хрусталь. Ряд наблюдений, проведенных по совету мистера Уэйса, убедил обоих исследователей, что хрустальное яйцо, в которое они смотрят, укреплено на террасе с двадцатью мачтами, на верхушке крайней из них, и что в лицо мистеру Кэйву заглянул один из обитателей потустороннего мира.
Таковы основные факты этой странной истории. Если не считать ее от начала до конца остроумной мистификацией мистера Уэйса, придется признать одно из двух: либо хрустальное яйцо мистера Кэйва находилось одновременно в двух мирах и, перемещаясь в одном мире, оставалось неподвижным в другом, что совершенно невероятно, либо между обоими хрустальными яйцами существовала какая-то связь и то, что было видно внутри одного из них здесь, на Земле, при соответствующих условиях могло открыться наблюдателю в том, другом мире, и наоборот.
Сейчас мы, разумеется, не в состоянии объяснить, каким образом эти два хрустальных яйца могли быть связаны между собой, но современная наука уже не отрицает такой возможности. Предположение о некоем родстве между ними принадлежит мистеру Уэйсу, и, на мой взгляд, оно вполне правдоподобно.
Но где же находится тот, другой мир? Живой ум мистера Уэйса не замедлил пролить свет и на этот вопрос. После захода солнца небо в хрустале быстро темнело – сумерки там были совсем короткие, – появлялись звезды. Те же звезды, группирующиеся в те же созвездия, мы видим и на нашем небосклоне. Мистер Кэйв узнал Большую Медведицу, Плеяды, Альдебаран и Сириус. Следовательно, тот мир находится где-то в пределах Солнечной системы и самое большее – на расстоянии каких-нибудь нескольких сот миллионов миль от нашего. Развивая дальше эту догадку, мистер Уэйс установил, что полночное небо в том мире намного темнее даже нашего зимнего, а солнечный диск несколько меньше. И на небосклоне там сияли две луны! («Похожие на нашу Луну, но меньшего размера и с другим расположением морей и кратеров».) Одна из этих лун двигалась так быстро, что движение ее было заметно глазу. Поднимались они обе невысоко и исчезали вскоре после восхода – другими словами, вращение их вокруг своей оси сопровождалось затмением вследствие близости обеих к планете, вращающейся вокруг Солнца. И все это в точности соответствовало тем астрономическим законам (неизвестным мистеру Кэйву), которые должны существовать на Марсе.
В самом деле, почему не допустить, что, глядя в хрустальное яйцо, мистер Кэйв действительно видел планету Марс и ее обитателей? А если так, значит, вечерняя звезда, ярко сияющая в небе этого далекого мира, была не что иное, как наша Земля.
Первое время марсиане – если это на самом деле были жители Марса, – по-видимому, не подозревали, что за ними наблюдают. Иной раз кто-нибудь из них поднимался на мачту, вглядывался в хрустальное яйцо минуту-другую и перелетал к следующему, вероятно, в поисках лучшей видимости. Мистер Кэйв следил за жизнью этих крылатых существ без всяких помех с их стороны, и его наблюдения, хоть и отрывочные, давали пищу для ума. Представьте себе, какое впечатление о людях сложилось бы у марсианина, если бы он после долгих усилий, напрягая глаза, мог бы лишь минуты по четыре за раз смотреть на Лондон с высоты колокольни Святого Мартина! Мистер Кэйв не мог сказать, были ли крылатые марсиане такими же существами, как и те, что скакали по дороге и террасам, и могли ли последние обзавестись по желанию крыльями. Несколько раз на равнине появлялись какие-то двуногие, смахивающие на неуклюжих белых обезьян с прозрачным туловищем. Они паслись среди заросших лишайниками деревьев, и как-то раз один круглоголовый, передвигающийся прыжками марсианин погнался за ними и схватил одного своими щупальцами. Но тут видение сразу поблекло, и мистер Кэйв остался в темноте, сгорая от неудовлетворенного любопытства. В другой раз нечто огромное стремительно пронеслось по дороге вдоль канала. Когда это «нечто» приблизилось к краю картины, мистер Кэйв признал в нем сначала гигантское насекомое, а потом сверкающую металлом машину чрезвычайно сложной конструкции. Он хотел разглядеть ее как следует, но не успел, так быстро она скрылась из виду.
Спустя некоторое время мистер Уэйс вознамерился привлечь внимание марсиан, и в следующий раз, когда глаза одного из них глянули в хрусталь, мистер Кэйв громко вскрикнул и отскочил назад. Уэйс сейчас же зажег свет, и оба они стали подавать знаки марсианину. Но все их старания ни к чему не привели. Когда мистер Кэйв снова посмотрел в глубь хрустального яйца, там никого не было.
Такие сеансы продолжались до первых чисел ноября. Убедившись к этому времени, что подозрения его домашних улеглись, мистер Кэйв стал уносить хрустальное яйцо с собой, с тем чтобы не упускать ни малейшей возможности – днем ли, ночью ли – тешить свою душу видениями, которые составляли теперь весь смысл его жизни.
В декабре, готовясь к экзамену, мистер Уэйс был занят больше обычного; наблюдения над хрустальным яйцом, увы, на неделю пришлось отложить. Неделя прошла, но Кэйв не дал о себе знать и на десятый, а может быть, и на одиннадцатый день. Мистеру Уэйсу не терпелось снова приступить к наблюдениям, поскольку спешная работа у него кончилась, и он сам отправился к старику антиквару. Выйдя на Севендайлс, он увидел, что у торговца птицами и сапожника окна закрыты ставнями. Лавка мистера Кэйва тоже была на запоре.
Мистер Уэйс постучал в дверь; ему отворил пасынок старика с черной повязкой на рукаве. По его зову в лавке появилась миссис Кэйв в полном вдовьем трауре, хоть и дешевом, но явно рассчитанном на то, чтобы бросаться в глаза, как отметил мысленно мистер Уэйс. Он почти не удивился, узнав, что Кэйв умер и уже похоронен. Миссис Кэйв пустила слезу и несколько сиплым голосом сообщила ему, что она сию минуту с Хайгейтского кладбища. Вдовица, видимо, была вся во власти мыслей о своей дальнейшей судьбе и перипетий торжественной церемонии погребения, так что мистер Уэйс не сразу и с большим трудом выведал у нее подробности смерти старика.
Кэйва нашли мертвым в лавке рано утром на другой день после их последней встречи с мистером Уэйсом. Окоченевшие руки старика сжимали хрустальное яйцо, рассказывала миссис Кэйв, на губах застыла улыбка. Рядом с ним на полу лежал кусок черного бархата. Смерть наступила часов за пять, за шесть до того, как его обнаружили.
Уэйс был потрясен этим рассказом и горько упрекнул себя за то, что смотрел сквозь пальцы на явно ухудшавшееся здоровье старика. Впрочем, главным образом его беспокоило хрустальное яйцо. Зная некоторые особенности характера миссис Кэйв, он приступил к расспросам с осторожностью. И совершенно онемел от неожиданности, узнав, что хрустальное яйцо уже продано.
Когда покойника перенесли наверх, миссис Кэйв сразу же вспомнила про чудака пастора, предлагавшего пять фунтов за хрустальное яйцо, и решила написать ему о своей находке. Но лихорадочные поиски его адреса, в которых принимала участие и ее дочь, ни к чему не привели: бумажка затерялась. У миссис Кэйв не было средств на сложные по ритуалу похороны, которых заслуживал столь почтенный обитатель Севендайлса, и она прибегла к помощи одного знакомого торговца с Грейт-Портленд-стрит. Он любезно согласился взять часть вещей Кэйва по собственной расценке. В их числе было и хрустальное яйцо. Выразив, правда, несколько второпях, приличные случаю соболезнования вдове, мистер Уэйс поспешил на Грейт-Портленд-стрит. Но там он узнал, что хрустальное яйцо уже продано и что купил его высокий смуглый человек в сером костюме. Здесь фактический материал этой странной, но, на мой взгляд, наводящей на размышления истории внезапно обрывается. Торговец с Грейт-Портленд-стрит не знал, кто был тот высокий смуглый человек в сером, и не мог точно описать его мистеру Уэйсу. Он даже не заметил, в какую сторону покупатель пошел, выйдя из лавки. Мистер Уэйс до конца испытал терпение торговца, изливая в бесконечных расспросах свою досаду. Убедившись напоследок, что всему этому делу пришел конец, что теперь уж ничего не попишешь, он вернулся домой и с удивлением увидел свои заметки о наблюдениях над хрустальным яйцом, которые по-прежнему лежали на его заваленном книгами и бумагами столе.
Легко представить себе разочарование и досаду молодого ученого. Он еще раз сходил к торговцу на Грейт-Портленд-стрит (столь же безуспешно), дал объявления в газеты и журналы, которые могли попасть в руки коллекционеров разных редкостей. Написал письма в «Дейли кроникл» и «Нэйчер», но оба эти органа, заподозрив тут мистификацию, посоветовали ему подумать как следует, прежде чем настаивать на опубликовании своих писем. Кроме того, мистеру Уэйсу было дано понять, что эта странная история, лишенная каких бы то ни было вещественных доказательств, может повредить его репутации ученого.
Месяца через полтора после двух-трех последних бесед с антикварами мистер Уэйс скрепя сердце отказался от поисков хрустального яйца, тем более что работа в больнице оставляла у него мало свободного времени. Впрочем, недавно молодой ученый признался мне (и я не имею оснований не верить ему), что бывают дни, когда он бросает самые неотложные дела и, полный рвения, принимается разыскивать пропажу.
Найдется ли хрустальное яйцо или оно исчезло навсегда, об этом сейчас можно только гадать. Если теперешний его обладатель – коллекционер, он, казалось бы, должен узнать через антикваров, что эта вещь разыскивается. Мистер Уэйс уже выяснил, кто были те люди – пастор и «восточный человек», приходившие в лавку к мистеру Кэйву. Оказалось, что это достопочтенный Джеймс Паркер и молодой яванский принц Боссо-Куни. Им я обязан некоторыми подробностями этой истории. Настойчивость принца объяснялась просто любопытством и… долей чудачества. Ему захотелось купить хрустальное яйцо только потому, что Кэйв со странным упорством отказывался продать его.
Вполне вероятно, что тот, кому в конце концов досталась эта вещь, был не коллекционер, а просто случайный покупатель, и, может быть, хрустальное яйцо находится сейчас на расстоянии какой-нибудь мили от меня и украшает чью-нибудь гостиную, а то и служит пресс-папье, не обнаруживая своих замечательных свойств. Откровенно говоря, эта мысль отчасти и побудила меня изложить всю эту историю в форме рассказа в расчете на то, что так она скорее попадет на глаза рядовому потребителю беллетристики.
Мое собственное мнение о хрустальном яйце вполне совпадает с мнением мистера Уэйса. По-моему, между хрустальным шаром, укрепленным на вершине марсианской мачты, и хрустальным яйцом мистера Кэйва существует какая-то тесная связь, в настоящее время еще не разгаданная. Мы оба считаем также, что хрустальное яйцо могло быть послано с Марса на Землю (вероятнее всего, в незапамятные времена), когда марсиане захотели поближе познакомиться с нашими земными делами. Допускаю мысль, что у нас на Земле где-нибудь есть и другие такие же хрустальные шары – парные тем, что украшают остальные марсианские мачты. Во всяком случае, ссылками на галлюцинации тут ничего не объяснишь.
Перевод Н. Волжиной
Если уж кому случилось искать булавку, а найти золотой, так это моему доброму приятелю профессору Гибберну. Мне и прежде приходилось слышать, что многие исследователи попадали куда выше, чем целились, но такого, как с профессором Гибберном, еще ни с кем не бывало. Можно смело, без всяких преувеличений, сказать, что на этот раз его открытие произведет полный переворот в нашей жизни. А между тем Гибберн хотел создать всего лишь какое-нибудь тонизирующее средство, которое помогло бы апатичным людям поспевать за нашим беспокойным веком. Я сам уже не раз принимал этот препарат и теперь просто опишу его действие на мой организм – так будет лучше всего. Из дальнейшего вы увидите, какой богатой находкой окажется он для всех любителей новых ощущений.
Мы с профессором Гибберном, как известно многим, соседи по Фолкстону. Если память меня не подводит, несколько его портретов, и в молодости и в зрелом возрасте, были помещены в журнале «Стрэнд», кажется, в одном из последних номеров за 1899 год. Установить это точно я не могу, потому что кто-то взял у меня этот номер и до сих пор не вернул. Но читатель, вероятно, помнит высокий лоб и на редкость длинные черные брови Гибберна, которые придают его лицу нечто мефистофельское.
Профессор Гибберн живет на Аппер-Сэндгейт-роуд, в одном из тех прелестных особнячков, которые так оживляют западный конец этой улицы. Крыша у его домика островерхая, во фламандском стиле, портик мавританский, а маленькая рабочая комнатка профессора Гибберна смотрит на улицу большим фонарем в форме готического стрельчатого окна. В этой комнатке мы проводим вечерок за трубкой и беседой, когда я прихожу к нему. Гибберн – большой шутник, но от него услышишь не только шутку. Он часто рассказывает мне о своих занятиях, так как общение и беседы с людьми служат ему стимулом для работы, и поэтому у меня была возможность шаг за шагом проследить создание «Новейшего ускорителя». Разумеется, большую часть опытов Гибберн производил не в Фолкстоне, а на Гауэр-стрит, в новой, прекрасно оборудованной больничной лаборатории, где он первый и обосновался.
Как известно, если не всем, то уж образованным-то людям во всяком случае, Гибберн прославился среди физиологов своими работами по изучению действия медикаментов на нервную систему. Там, где дело касается различных наркотических, снотворных и анестезирующих средств, ему, говорят, нет равных. Его авторитет как химика тоже велик, и в непроходимых джунглях загадок, окружающих клетки нервных узлов и осевые волокна, есть расчищенные им маленькие просветы и прогалины, недостижимые для нас до тех пор, пока он не сочтет нужным опубликовать результаты своих изысканий в этой области.
В последние годы, еще до открытия «Новейшего ускорителя», Гибберн много и весьма плодотворно работал над тонизирующими медикаментами. Благодаря ему медицина обогатилась, по крайней мере, тремя абсолютно надежными препаратами, значение которых во врачебной практике огромно. Препарат под названием «Сироп «Б» д-ра Гибберна» сохранил больше человеческих жизней, чем любая спасательная лодка на всем нашем побережье.
– Но такие пустяки меня совершенно не удовлетворяют, – сказал он мне однажды около года назад. – Все эти препараты либо подхлестывают нервные центры, не влияя на самые нервы, либо попросту увеличивают наши силы путем понижения нервной проводимости. Они дают лишь местный и очень неравномерный эффект. Одни усиливают деятельность сердца и внутренних органов, но притупляют мозг; другие действуют на мозг, как шампанское, никак не влияя на солнечное сплетение. А я добиваюсь – и добьюсь, вот увидите! – такого средства, которое встряхнет вас всего с головы до пят и увеличит ваши силы в два… даже в три раза против нормы. Да! Вот чего я ищу!
– Это подействует на организм изнуряюще, – заметил я.
– Безусловно! Но есть вы будете тоже в два-три раза больше. Подумайте только, о чем я говорю! Представьте себе пузырек… ну, скажем, такой, – он взял со стола зеленый флакон и стал постукивать им по столу в такт своим словам, – и в этом бесценном пузырьке заключена возможность вдвое скорее думать, вдвое скорее двигаться, вдвое скорее работать.
– Неужели это достижимо?
– Надеюсь, что да. А если нет, значит, у меня целый год пропал даром. Различные препараты гипофосфатов показывают, что нечто подобное… Ладно! Пусть подействует только в полтора раза – и то хорошо!
– И то хорошо! – согласился я.
– Возьмем для примера какого-нибудь государственного деятеля. У него бездна обязанностей, срочные дела, и со всем этим никак не справишься.
– Пусть напоит вашим снадобьем своего секретаря.
– И выиграет времени вдвое. Или возьмите себя. Положим, вам надо закончить книгу…
– Обычно я проклинаю тот день, когда начал ее.
– Или вы врач. Заняты по горло, а вам надо сесть и обдумать диагноз. Или адвокат. Или готовитесь к экзаменам…
– Да с таких по гинее за каждую каплю вашего препарата! – воскликнул я. – Если не дороже!
– Или, скажем, дуэль, – продолжал Гибберн. – Когда все зависит от того, кто первый спустит курок.
– Или фехтование, – подхватил я.
– Если мне удастся сделать этот препарат универсальным, – сказал Гибберн, – вреда от него не будет никакого, разве что он на самую малость приблизит вас к старости. Но зато жизнь ваша вместит вдвое больше по сравнению с другими, так как вы…
– А все же на дуэли будет, пожалуй, нечестно… – в раздумье начал я.
– Это уж как решат секунданты, – заявил Гибберн.
Но я снова вернулся к исходной точке нашей беседы.
– И вы уверены, что такой препарат можно изобрести?
– Совершенно уверен, – сказал Гибберн, выглянув в окно, так как в эту минуту мимо дома что-то пронеслось с грохотом. – Вот изобрели же автомобиль! Собственно говоря…
Он умолк и, многозначительно улыбнувшись, постучал по столу зеленым пузырьком. – Собственно говоря, я такой состав знаю… Кое-что уже сделано…
По той нервной усмешке, с какой Гибберн произнес эти слова, я понял всю важность его признания. О своих опытах он заговаривал только тогда, когда они близились к концу.
– И, может быть… может быть, мой препарат будет ускорять даже больше чем вдвое.
– Это грандиозно, – сказал я не очень уверенно.
– Да, грандиозно.
Но мне кажется, тогда Гибберн и сам еще не понимал всей грандиозности своего открытия.
Помню, мы несколько раз возвращались к этому разговору. И с каждым разом Гибберн говорил о «Новейшем ускорителе» – так он назвал свой препарат – все с большей уверенностью. Иногда он начинал беспокоиться, не вызовет ли его «Ускоритель» каких-либо непредвиденных физиологических последствий; потом вдруг с нескрываемым корыстолюбием принимался обсуждать со мной коммерческую сторону дела.
– Это – открытие! – говорил Гибберн. – Великое открытие! Я дам миру нечто замечательное и вправе рассчитывать на приличную мзду. Высоты науки своим чередом, но, по-моему, мне должны предоставить монополию на мой препарат хотя бы лет на десять. В конце концов, почему все лучшее от жизни должны получать какие-то колбасники!
Мой интерес к новому изобретению Гибберна не ослабевал. Я всегда отличался склонностью к метафизике. Меня увлекали парадоксы времени и пространства, и теперь я начинал верить, что Гибберн готовит нам не больше и не меньше как абсолютное ускорение нашей жизни. Представим себе человека, регулярно пользующегося этим препаратом: дни его будут насыщены до предела, но к одиннадцати годам он достигнет зрелости, в двадцать пять станет пожилым, а в тридцать уже ступит на путь к дряхлости. Следовательно, думал я, Гибберн сделает со своими пациентами то же самое, что делает природа с евреями и обитателями стран Востока: ведь в тринадцать-четырнадцать лет они совсем взрослые люди, к пятидесяти старики, а мыслят и действуют быстрее нашего.
Магия фармакопеи неизменно повергала меня в изумление. Лекарства могут сделать человека безумным, могут и успокоить; могут наделить его невероятной энергией и силой или же превратить в безвольную тряпку; могут разжечь в нем одни страсти и погасить другие! А теперь к арсеналу пузырьков, которые всегда в распоряжении врачей, прибавится еще одно чудо! Но Гибберна такие мысли мало занимали: он был весь поглощен технологией своего изобретения.
И вот седьмого или восьмого августа – время бежало быстро – профессор Гибберн сказал мне, что он поставил опыт дистилляции, который должен решить, что его ждет, победа или поражение, а десятого все было закончено, и «Новейший ускоритель» стал реальностью. Я шел в Фолкстон по Сэндгейт-хилл, кажется, в парикмахерскую, и встретил его – он спешил ко мне поделиться своим успехом. Глаза у него блестели больше обычного, лицо раскраснелось, и я сразу же заметил несвойственную ему раньше стремительность походки.
– Готово! – крикнул он и, схватив меня за руку, заговорил быстро-быстро: – Все готово! Пойдемте ко мне, посмотрите сами.
– Неужели правда?
– Правда! – воскликнул Гибберн. – Уму непостижимо! Пойдемте, пойдемте!
– И ускоряет… вдвое?
– Больше, гораздо больше. Мне даже страшно. Да вы посмотрите. Попробуйте его сами! Испытайте на себе! В жизни ничего подобного не было! – Он схватил меня за локоть и, не переставая взволнованно говорить, потащил за собой с такой силой, что мне пришлось пуститься рысью. Навстречу нам ехал омнибус, и все сидевшие в нем точно по команде уставились на нас, как это свойственно пассажирам таких экипажей.
Стоял один из тех ясных, жарких дней, которыми так богато лето в Фолкстоне, и все краски казались необычайно яркими, все контуры – необычайно четкими. Дул, разумеется, и ветерок, но разве легкий ветерок мог освежить меня сейчас? Наконец я взмолился о пощаде.
– Неужели слишком быстро? – удивился Гибберн и перешел с рыси на маршевый шаг.
– Вы что, уже приняли свое лекарство? – еле выговорил я.
– Нет, – ответил он. – Только выпил воды из той мензурки, самую капельку… Но мензурка была тщательно вымыта. Вчера вечером я действительно принял небольшую дозу. Но это – дело прошлое.
– И ускоряет вдвое? – спросил я, весь в поту подходя к его дому.
– В тысячу раз, во много тысяч раз! – выкрикнул Гибберн, театральным жестом распахивая настежь резную – в стиле Тюдоров – калитку своего садика.
– Фью! – свистнул я и последовал за ним.
– Я даже не могу установить точно, во сколько раз, – продолжал он, вынимая из кармана ключ.
– И вы…
– Это проливает новый свет на физиологию нервной системы, это переворачивает вверх ногами теорию зрительных ощущений… Одному Богу известно, во сколько раз. Мы займемся этим позднее… А сейчас надо испробовать на себе.
– На себе? – переспросил я, идя за ним по коридору.
– Непременно! – сказал Гибберн уже в кабинете, повернувшись ко мне лицом. – Видите вот этот маленький зеленый пузырек? Впрочем, может быть, вы боитесь?
Я человек по природе осторожный и рисковать люблю больше в теории, чем на деле. Мне действительно было страшновато, но гордость в карман не сунешь.
– Значит, вы пробовали? – Я старался оттянуть время.
– Пробовал, – ответил Гибберн. – И, кажется, нисколько не пострадал от этого. Правда? У меня даже цвет лица не изменился, а самочувствие…
Я сел в кресло.
– Дайте мне ваше зелье, – сказал я. – На худой конец не надо будет идти стричься, а это, по-моему, самая тяжкая обязанность цивилизованного человека. Как его принимают?
– С водой, – ответил Гибберн, размашистым жестом ставя рядом со мной графин.
Он остановился у письменного стола и внимательно посмотрел на меня. В его тоне вдруг появились профессиональные нотки. – Это препарат не совсем обычный, – сказал он.
Я махнул рукой.
– Прежде всего должен вас предупредить: как только сделаете глоток, зажмурьтесь и минуты через две осторожно откройте глаза. Зрение у вас не исчезнет. Оно зависит от длины воздушных волн, а отнюдь не от их количества. Но если глаза у вас будут открыты, сетчатка получит шок, сопровождаемый сильным головокружением. Так что не забудьте зажмуриться.
– Есть! – сказал я. – Зажмурюсь.
– Далее: сохраняйте полную неподвижность. Не ерзайте в кресле, не то здорово ушибетесь. Помните, что ваш организм будет работать во много тысяч раз быстрее. Сердце, легкие, мускулы, мозг – решительно все. Вы и не заметите резкости своих жестов. Ощущения ваши останутся прежними, но все вокруг вас как бы замедлит ход. В этом-то и заключается вся странность.
– Боже мой! – воскликнул я. – Значит…
– Сейчас увидите, – сказал Гибберн, беря мензурку, и обвел взглядом письменный стол. – Стаканы, вода. Все готово. На первый раз нальем поменьше.
Драгоценная жидкость булькнула, переливаясь из пузырька в мензурку.
– Не забудьте, что я вам говорил, – сказал Гибберн и опрокинул мензурку в стакан с ловкостью итальянского лакея, наливающего виски. – Зажмурьте глаза как можно крепче и соблюдайте полную неподвижность в течение двух минут. Я скажу, когда можно открыть.
Он добавил в оба стакана немного воды.
– Да, вот еще что! Не вздумайте поставить стакан на стол. Держите его в руке, а локтем обопритесь о колено. Так… Правильно. А теперь…
Он поднял свой стакан.
– За «Новейший ускоритель»! – сказал я.
– За «Новейший ускоритель»! – подхватил Гибберн, и мы чокнулись, выпили, и я тотчас же закрыл глаза.
Вам знакома та пустота небытия, в которую погружаешься под наркозом? Сколько это продолжалось, я не знаю. Потом до меня донесся голос Гибберна. Я шевельнулся в кресле и открыл глаза. Гибберн стоял все там же и по-прежнему держал стакан в руке. Разница заключалась только в том, что теперь стакан был пуст.
– Ну? – сказал я.
– Ничего особенного не чувствуете?
– Ничего не чувствую. Пожалуй, легкое возбуждение. А больше ничего.
– Звуки?
– Тишина, – ответил я. – Да! Честное слово, полнейшая тишина! Только где-то кап-кап… точно дождик. Что это такое?
– Звуки, распавшиеся на свои элементы, – пояснил Гибберн.
Впрочем, я не ручаюсь за точность его слов.
Он повернулся к окну.
– Вам случалось раньше видеть, чтобы занавески висели вот так?
Я проследил за его взглядом и увидел, что один угол у занавески загнулся кверху на ветру и так и застыл.
– Нет, не случалось, – ответил я. – Что за странность!
– А это? – сказал он и разжал пальцы, державшие стакан.
Я, конечно, вздрогнул, ожидая, что стакан разобьется вдребезги. Но он не только не разбился, а повис в воздухе в полной неподвижности.
– Грубо говоря, – сказал Гибберн, – в наших широтах падающий предмет пролетает в первую секунду футов шестнадцать. То же самое происходит сейчас и с моим стаканом – из расчета шестнадцать футов в секунду. Но он не успел пролететь и сотой доли секунды. Теперь вы имеете некоторое представление о силе моего «Ускорителя». – И Гибберн стал водить рукой вокруг медленно опускающегося стакана, потом взял его за донышко, тихонько поставил на стол и засмеялся.
– Ну-с?
– Недурно, – сказал я, осторожно поднимаясь с кресла.
Самочувствие у меня было отличное, мысли отчетливые, во всем теле какая-то легкость. Словом, все во мне заработало быстрее. Сердце, например, делало тысячу ударов в секунду, хотя это не вызывало у меня никаких неприятных ощущений. Я выглянул в окно. Неподвижный велосипедист, с застывшим облачком пыли у заднего колеса, опустив голову, с бешеной скоростью догонял мчавшийся омнибус, который тоже не двигался с места. Я раскрыл рот от изумления при виде этого невероятного зрелища.
– Гибберн! – вырвалось у меня. – Сколько времени действует ваше зелье?
– Одному Богу известно! – ответил он. – Последний раз я, доложу вам, сильно струхнул и сразу лег спать после приема. На сколько времени его хватит, не знаю, наверное, на несколько минут, а минуты кажутся часами. Но вообще-то сила действия начинает спадать довольно резко.
С гордостью отмечаю, что я не испытывал ни малейшего страха… может быть, потому, что был не один.
– А что, если нам пойти погулять? – предложил я.
– И в самом деле!
– Но нас увидят.
– Что вы! Что вы! Мы понесемся с такой быстротой, какая ни одному фокуснику не снилась. Идем! Как вы предпочитаете: в окно или в дверь?
И мы выскочили в окно.
Из всех чудес, которые я испытал на себе, о которых фантазировал или читал в книгах, эта небольшая прогулочка по Фолкстону в обществе профессора Гибберна после приема «Новейшего ускорителя» была самым странным, самым невероятным приключением за всю мою жизнь.
Мы выбежали из садика Гибберна и стали разглядывать экипажи, неподвижно застывшие посреди улицы. Верхушки колес того самого омнибуса, ноги лошадей, кончик хлыста и нижняя челюсть кондуктора (он, видимо, собирался зевнуть) чуть заметно двигались, но кузов этого неуклюжего рыдвана казался окаменевшим. И мы не слышали ни звука, если не считать легкого хрипа в горле кого-то из пассажиров. Кучер, кондуктор и остальные одиннадцать человек словно смерзлись с этой застывшей глыбой. Сначала такое зрелище поразило нас своей странностью, а потом, когда мы обошли омнибус со всех сторон, нам стало даже неприятно. Люди как люди, похожие на нас, и вдруг так нелепо застыли, не завершив начатых жестов! Девушка и молодой человек, улыбаясь, делали друг другу глазки, и эта улыбка грозила остаться на их лицах навеки; женщина во вздувшейся мешком накидке сидела, облокотившись на поручни и вперив немигающий взгляд в дом Гибберна; мужчина закручивал ус – ни дать ни взять восковая фигура в музее, а его сосед протянул окостеневшую руку и растопыренными пальцами поправлял съехавшую на затылок шляпу.
Мы разглядывали их, смеялись над ними, корчили им гримасы, но потом, почувствовав чуть ли не отвращение ко всей этой компании, пересекли дорогу под самым носом у велосипедиста и понеслись к взморью.
– Бог мой! – вдруг воскликнул Гибберн. – Посмотрите-ка!
Там, куда он указывал пальцем, по воздуху, медленно перебирая крылышками, двигалась со скоростью медлительнейшей из улиток – кто бы вы думали? – пчела!
И вот мы вышли на зеленый луг. Тут началось что-то совсем уж невообразимое. В музыкальной раковине играл оркестр, но мы услышали не музыку, а какое-то сипение или предсмертные вздохи, временами переходившие в нечто вроде приглушенного тиканья огромных часов. Люди вокруг кто стоял навытяжку, кто, словно какое-то несуразное немое чучело, балансировал на одной ноге, прогуливаясь по лугу. Я прошел мимо пуделя, который подскочил кверху и теперь спускался на землю, чуть шевеля лапками в воздухе.
– Смотрите, смотрите! – крикнул Гибберн. Мы задержались на секунду перед щеголем в белом костюме в полоску, белых башмаках и соломенной панаме, который оглянулся назад и подмигнул двум разодетым дамам. Подмигивание – если разглядывать его не спеша, во всех подробностях, как это делали мы, – вещь малопривлекательная. Оно утрачивает всю свою игривую непринужденность, и вы вдруг замечаете, что подмигивающий глаз закрывается неплотно и из-под опущенного века видна нижняя часть глазного яблока.
– Отныне, – заявил я, – если Господь Бог не лишит меня памяти, я никогда не буду подмигивать.
– А также и улыбаться, – подхватил Гибберн, глядя на ответный оскал одной из дам.
– Однако становится невыносимо жарко, – сказал я. – Давайте убавим шаг.
– А-а, бросьте! – крикнул Гибберн.
Мы пошли дальше, пробираясь между креслами на колесах, стоявшими вдоль дорожки. Позы тех, кто сидел в этих креслах, большей частью казались почти естественными, зато на искаженные багровые физиономии музыкантов просто больно было смотреть. Апоплексического вида джентльмен застыл в неподвижности, пытаясь сложить газету на ветру. Судя по всему, ветер был довольно сильный, но для нас его не существовало. Мы отошли в сторону и стали наблюдать за публикой издали. Разглядывать эту толпу, внезапно превратившуюся в музей восковых фигур, было чрезвычайно любопытно. Как это ни глупо, но, глядя на них, я преисполнился чувства собственного превосходства. Вы только представьте себе! Ведь все, что я сказал, подумал, сделал с того мгновения, как «Новейший ускоритель» проник в мою кровь, укладывалось для этих людей и для всей вселенной в десятую долю секунды!
– Ваш препарат… – начал было я, но Гибберн перебил меня:
– Вот она, проклятая старуха!
– Какая старуха?
– Моя соседка, – сказал Гибберн. – А у нее болонка, которая вечно лает. Нет! Искушение слишком велико!
Гибберн – человек непосредственный и иной раз бывает способен на мальчишеские выходки. Не успел я остановить его, как он ринулся вперед, схватил злосчастную собачонку и со всех ног помчался с ней к скалистому берегу. И удивительное дело! Собачонка, которую, кроме нас, никто не мог видеть, не выказала ни малейших признаков жизни – даже не залаяла, не трепыхнулась. Она продолжала крепко спать, хотя Гибберн держал ее за загривок. Похоже было, что в руках у него деревянная игрушка.
– Гибберн! – крикнул я. – Отпустите ее! – И добавил еще кое-что. Потом снова воззвал к нему: – Гибберн, стойте! На нас все загорится. Смотрите, брюки уже тлеют.
Он хлопнул себя по бедру и в нерешительности остановился.
– Гибберн! – продолжал я, настигая его. – Отпустите собачонку. Бегать в такую жару! Ведь мы делаем две-три мили в секунду. Сопротивление воздуха! – заорал я. – Сопротивление воздуха! Слишком быстро движемся. Как метеориты! Все раскалилось! Гибберн! Гибберн! Я весь в поту, у меня зуд во всем теле. Смотрите, люди оживают. Ваше зелье перестает действовать. Отпустите наконец собаку!
– Что?
– «Ускоритель» перестает действовать! – повторил я. – Мы слишком разгорячились. Действие «Ускорителя» кончается. Я весь взмок.
Гибберн посмотрел на меня. Перевел взгляд на оркестр, хрипы и вздохи которого заметно участились. Потом сильным взмахом руки отшвырнул от себя собачонку. Она взвилась вверх, так и не проснувшись, и повисла над сомкнутыми зонтиками оживленно беседующих дам. Гибберн схватил меня за локоть.
– Черт возьми! – крикнул он. – Вы правы. Зуд во всем теле и… Да! Вон тот человек вынимает носовой платок. Движение совершенно явственное. Надо убираться отсюда, и как можно скорее.
Но это было уже не в наших силах. И, может статься, к счастью. Мы, наверное, пустились бы бежать, но тогда нас охватило бы пламенем. Тут и сомневаться нечего. А тогда нам это и в голову не пришло. Не успели мы с Гибберном сдвинуться с места, как действие «Ускорителя» прекратилось – мгновенно, за какую-нибудь долю секунды. У нас было такое ощущение, словно кто-то коротким рывком задернул занавес. Я услышал голос Гибберна: «Садитесь!» – и с перепугу шлепнулся на траву, сильно при этом обжегшись. В том месте и по сию пору остался выжженный круг. И как только я сел, всеобщее оцепенение кончилось. Нечленораздельные хрипы оркестра слились в мелодию, гуляющие перестали балансировать на одной ноге и зашагали кто куда, газеты и флажки затрепетали на ветру, вслед за улыбками послышались слова, франт в соломенной панаме кончил свое подмигивание и с самодовольным видом отправился дальше; те, кто сидел в креслах, зашевелились и заговорили.
Мир снова ожил и уже не отставал от нас, вернее, мы перестали обгонять его. Такое ощущение знакомо пассажирам экспресса, резко замедляющего ход у вокзала. Секунду-другую передо мной все кружилось, я почувствовал приступ тошноты… и только. А собачонка, повисшая было в воздухе, куда взметнула ее рука Гибберна, камнем полетела вниз, прорвав зонтик одной из дам!
Это и спасло нас с Гибберном. Нашего внезапного появления никто здесь не заметил, если не считать одного тучного старика в кресле на колесах, который вздрогнул при виде нас, несколько раз недоверчиво покосился в нашу сторону и под конец сказал что-то сопровождавшей его сиделке. Раз! Вот и мы! Брюки на нас перестали тлеть почти мгновенно, но снизу меня все еще здорово припекало. Внимание всех, в том числе и оркестрантов увеселительного общества, впервые в жизни сбившихся с такта, было привлечено женскими криками и громким тявканьем почтенной разжиревшей болонки, которая только что мирно спала справа от музыкальной раковины и вдруг угодила на зонтик дамы, сидевшей совсем в другой стороне, да еще подпалила себе шерсть от стремительности такого перемещения. И это в наши-то дни, когда люди прямо-таки помешались на разных суевериях, психологических опытах и прочей ерунде! Все повскакали с мест, засуетились, налетая друг на друга, опрокидывая стулья и кресла. Прибежал полисмен. Чем там все кончилось, не знаю. Нам надо было как можно скорее выпутаться из этой истории и скрыться с глаз старика в кресле на колесах. Придя в себя, немножко остыв, поборов чувство тошноты, головокружение и общую растерянность, мы с Гибберном обошли толпу стороной и зашагали по дороге к его дому. Но в шуме, не умолкавшем позади, я совершенно явственно слышал голос джентльмена, который сидел рядом с обладательницей прорванного зонтика и распекал ни в чем не повинного служителя в фуражке с надписью «Надзиратель».
– Ах, не вы швырнули собаку? – бушевал он. – Тогда кто же?
Внезапный возврат нормальных движений и звуков в окружающем нас мире, а также, вполне понятно, опасения за самих себя (одежда все еще жгла нам тело, дымившиеся минуту назад брюки Гибберна превратились из белых в темно-бурые) помешали мне заняться наблюдениями. Вообще на обратном пути ничего ценного для науки я сделать не мог. Пчелы на прежнем месте, разумеется, не оказалось. Когда мы вышли на Сэндгейт-роуд, я поискал глазами велосипедиста, но то ли он успел укатить, то ли его не было видно в уличной толчее. Зато омнибус, полный пассажиров, которые теперь все ожили, громыхал по мостовой где-то далеко впереди.
Добавлю еще, что подоконник, откуда мы спрыгнули в сад, слегка обуглился, а на песчаной дорожке остались глубокие следы от наших ног.
Таковы были результаты моего первого знакомства с «Новейшим ускорителем». По сути дела, вся эта наша прогулка и то, что было сказано и сделано во время нее, заняли две-три секунды. Мы прожили полчаса, пока оркестр сыграл каких-нибудь два такта. Но ощущение у нас было такое, словно мир замер, давая нам возможность приглядеться к нему. Учитывая обстоятельства и главным образом опрометчивость, с которой мы выскочили из дому, нужно признать, что все могло кончиться для нас значительно хуже. Во всяком случае, наш первый опыт показал следующее: Гибберну придется еще немало потрудиться над своим «Ускорителем», прежде чем он станет годным для употребления, но эффективность его несомненна – тут придраться не к чему.
После наших с ним приключений Гибберн продолжает упорно работать, усовершенствуя свой препарат, и мне случалось неоднократно, без всякого для себя вреда, принимать различные дозы «Новейшего ускорителя» под наблюдением его творца. Должен, впрочем, признаться, что выходить из дому в таких случаях я уже не решался. Этот рассказ (вот вам пример действия «Ускорителя») написан мною за один присест. Я отрывался oт работы только для того, чтобы откусить кусочек шоколада. Начат он был в шесть часов двадцать пять минут вечера, а сейчас на моих часах тридцать одна минута седьмого. Не передашь словами, какое это удобство – вырвать среди суматошного дня время и целиком отдаться работе!
Теперь Гибберн занят вопросом дозировки «Ускорителя» в зависимости от особенностей организма. В противовес этому составу он надеется изобрести и «Замедлитель», с тем чтобы регулировать чрезмерную силу первого своего изобретения. «Замедлитель», разумеется, будет обладать свойствами, прямо противоположными свойствам «Ускорителя». Прием одного этого лекарства позволит пациенту растянуть секунду своего времени на несколько часов и погрузиться в состояние покоя, застыть, наподобие ледника, в любом, даже самом шумном, самом раздражающем окружении.
Оба эти препарата должны произвести переворот в нашей цивилизации. Они положат начало освобождению от «Покровов времени», о которых писал Карлейль. «Ускоритель» поможет нам сосредоточиваться на каком-нибудь мгновении нашей жизни, требующем наивысшего подъема всех наших сил и способностей, а «Замедлитель» дарует нам полное спокойствие в самые тяжкие и томительные часы и дни. Может быть, я возлагаю чересчур большие надежды на еще не существующий «Замедлитель», но что касается «Ускорителя», то тут никаких споров быть не может. Его появление на рынке в хорошо усваиваемом, удобном для пользования разведении – дело нескольких месяцев. Маленькие зеленые бутылочки можно достать в любой аптеке и в любом аптекарском магазине по довольно высокой, но, принимая во внимание необычайные свойства этого препарата, отнюдь не чрезмерной цене. Он будет называться «Ускоритель для нервной системы. Патент д-ра Гибберна», и Гибберн надеется выпустить его трех степеней ускорения: 1:200, 1:900 и 1:2000, – чему будут соответствовать разноцветные этикетки – желтая, розовая и белая.
С помощью «Ускорителя» можно будет осуществить множество поистине удивительных вещей, ибо и самые ошеломляющие и даже преступные деяния удастся тогда совершать незаметно, так сказать, ныряя в щелки времени. Как и всякое сильно действующее средство, «Новейший ускоритель» не застрахован от злоупотреблений. Но, обсудив и эту сторону вопроса, мы с Гибберном пришли к выводу, что тут решающее слово останется за медицинским законодательством, а нас такие дела не касаются. Наша задача – изготовить и продавать «Ускоритель», а что из этого выйдет – посмотрим.
Перевод Н. Волжиной
Мистер Скелмерсдейл в стране фей
– Вот в этой лавке служит один парень, ему довелось побывать в Стране фей, – сказал доктор.
– Чепуха какая, – ответил я и оглянулся на лавку. Это была обычная деревенская лавчонка, она же и почта, из-под крыши тянулся телеграфный провод, у двери были выставлены щетки и оцинкованные ведра, в окне – башмаки, рубахи и консервы.
Помолчав, я спросил:
– Послушайте, а что это за история?
– Да я-то ничего не знаю, – ответил доктор. – Обыкновенный олух, деревенщина, зовут его Скелмерсдейл. Но тут все убеждены, что это истинная правда.
Вскоре я снова вернулся к нашему разговору.
– Я ведь толком ничего не знаю да и знать не хочу, – сказал доктор. – Я накладывал ему однажды повязку на сломанный палец – играли в крикет холостяки против женатых – и тогда в первый раз услышал эту чепуху. Вот и все. Но по этому как-никак можно судить, с кем мне приходится иметь дело, а? Веселенькое занятие – вбивать в голову такому народу современные принципы санитарии!
– Что и говорить, – посочувствовал я, а он начал рассказывать, как в Боунаме собирались чинить канализацию. Я давно заметил, что наши деятели здравоохранения больше всего заняты подобными вопросами. Я опять выразил ему самое искреннее сочувствие, а когда он назвал жителей Боунама ослами, добавил, что они «редкие ослы», но и это его не утихомирило.
Некоторое время спустя, в середине лета, я заканчивал трактат о Патологии Духа – мне думается, писать его было еще труднее, чем читать, – и непреодолимое желание уединиться где-нибудь в глуши привело меня в Бигнор. Я поселился у одного фермера и довольно скоро в поисках табака снова набрел на эту лавчонку. «Скелмерсдейл», – вспомнил я, увидев ее, и вошел.
Продавец был невысокий, но стройный молодой человек, светловолосый и румяный, глаза у него были голубые, зубы ровные, мелкие и какая-то медлительность в движениях. Ничего особенного в нем не было, разве что слегка грустное выражение лица. Он был без пиджака, в подвернутом фартуке, за маленьким ухом торчал карандаш. По черному жилету тянулась золотая цепочка от часов, на ней болталась согнутая пополам гинея.
– Больше ничего не угодно, сэр? – обратился он ко мне. Он говорил, склонясь над счетом.
– Вы мистер Скелмерсдейл? – спросил я.
– Я самый, – ответил он, не поднимая глаз.
– Это правда, что вы побывали в Стране фей?
Он взглянул на меня, сдвинув брови, лицо стало раздраженным, угрюмым.
– Не ваше дело! – отрезал он, с ненавистью посмотрел мне прямо в глаза, потом снова взялся за счет.
– Четыре… шесть с половиной шиллингов, – сказал он, немного погодя. – Благодарю вас, сэр.
Вот при каких неблагоприятных обстоятельствах началось мое знакомство с мистером Скелмерсдейлом.
Ну, а потом мне удалось завоевать его доверие, хоть это и стоило долгих трудов.
Я снова встретил его в деревенском кабачке, куда заходил вечерами после ужина сразиться в бильярд и перекинуться словечком с ближними своими, общества которых днем я старательно избегал, что было весьма на пользу моей работе. С великими ухищрениями я сначала уговорил его сыграть партию в бильярд, а потом вызвал и на разговор. Я понял, что Страны фей лучше не касаться. Обо всем остальном он рассуждал благодушно и охотно и казался таким же, как все, но стоило завести речь о феях, и он сразу мрачнел: это была явно запретная тема. Только раз слышал я, как при нем в бильярдной намекнули на его приключения, да и то это был какой-то батрак, тупой детина, который ему проигрывал. Скелмерсдейл сделал подряд несколько дуплетов, что по бигнорским понятиям было явлением из ряда вон выходящим.
– Эй, ты! – буркнул его противник. – Это все твои феи тебе подыгрывают.
Скелмерсдейл уставился на него, швырнул кий на стол и вышел вон из бильярдной.
– Ну что ты к нему прицепился? – упрекнул задиру какой-то почтенный старичок, с удовольствием наблюдавший за игрой. Со всех сторон послышалось неодобрительное ворчание, и самодовольная ухмылка исчезла с лица остряка.
Как было упустить такой случай?
– Что это у вас за шутки насчет Страны фей? – спросил я.
– Никакие это не шутки, молодому Скелмерсдейлу не до шуток, – заметил почтенный старичок, отхлебнув из своего стакана.
А какой-то низенький краснолицый человечек оказался более словоохотливым.
– Да ведь не зря поговаривают, сэр, что феи утащили его к себе под Олдингтонский Бугор и держали там три недели кряду.
Тут собравшихся словно прорвало. Стоит одной овце сделать шаг, и за ней потянется все стадо. Скоро я уже знал, хоть и в общих чертах, о приключении Скелмерсдейла. Раньше, до того как поселиться в Бигноре, он служил в точно такой же лавчонке в Олдингтон-Корнер, там-то все и произошло. Мне рассказали, что однажды он отправился на ночь глядя на Олдингтонский Бугор и пропал на три недели, а когда он вернулся, «манжеты были чисты, как будто только вышел за порог», а карманы набиты пылью и золой. Возвратился он угрюмый, подавленный, долго не мог прийти в себя и никак от него нельзя было добиться, где он пропадал. Одна девушка из Клэптон-Хилла, с которой он был помолвлен, старалась у него все выпытать, но он упорно молчал, да к тому же еще, как она выразилась, просто «нагонял тоску», и по этим причинам она вскорости ему отказала. А потом он неосторожно кому-то проговорился, что побывал в Стране фей и хочет туда вернуться, и, когда об этом все узнали и с деревенской бесцеремонностью стали над ним потешаться, он вдруг взял расчет и сбежал от насмешек и пересудов в Бигнор. Но что все-таки с ним приключилось в Стране фей, этого не знала ни одна душа. Посетители кабачка плели кто во что горазд – так разбредается во все стороны стадо без пастуха. Один говорил одно, другой – другое. Рассуждали они об этом чуде с видом критическим и недоверчивым, но было заметно, что на деле они склонны многому верить. Я счел нужным высказать разумный интерес и вполне обоснованное сомнение:
– Если Страна фей лежит под Олдингтонским Бугром, что же вы ее не отроете?
– Вот и я про это толкую, – подхватил молодой батрак.
– Уж не один брался под тем Бугром копать, не раз принимались, – мрачно заметил почтенный старичок, – да только вот похвалиться нечем…
Их единодушная, хотя и смутная вера подействовала на меня, я понимал: здесь что-то кроется – и это еще больше разжигало мое любопытство, не терпелось узнать, что же на самом деле произошло. Но рассказать обо всем мог лишь один человек, сам Скелмерсдейл; и я взялся за многотрудную задачу – нужно было сгладить первое неблагоприятное впечатление, которое я произвел на него, и добиться, чтобы он сам, по своей воле заговорил со мной откровенно и не таясь. Тут свою роль сыграло и то, что я был не простым деревенским жителем. Человек я по натуре приветливый, работы никакой вроде бы не делаю, ношу твидовые куртки и брюки гольф, и в Бигноре, естественно, меня сочли за художника, а там, как это ни странно, художника ставят неизмеримо выше, чем приказчика из бакалейной лавки. Скелмерсдейл, как и вообще многие из ему подобных, – изрядный сноб; вспылив, он сказал мне дерзость, но только когда я вывел его из себя, и сам, я уверен, потом раскаивался, и я знал, что ему очень льстит, когда все видят, как мы вместе прогуливаемся по улице. Пришло время, и он довольно охотно согласился зайти ко мне выпить стаканчик виски и выкурить табачку, и вот тогда-то меня осенила счастливая догадка: здесь не обошлось без сердечной драмы. Я, зная, как откровенность располагает к откровенности, рассказал ему пропасть интересных и поучительнейших случаев из моей жизни, вымышленных и подлинных. И во время третьего, если не ошибаюсь, визита, после третьей рюмки виски, когда я поведал ему, присочинив немало чувствительных подробностей, об одном весьма мимолетном увлечении моей юности, лед был сломан – под влиянием моего рассказа мистер Скелмерсдейл разоткровенничался.
– И со мной так же вышло, – сказал он. – В Олдингтоне. Это вот и чудно. Сперва мне было вроде ни к чему, она по мне страдала. А потом стало все наоборот, да только уж было поздно.
Я удержался от расспросов, последовал еще один намек, и вскоре стало ясно как день, что ему просто не терпится поговорить о своих приключениях в Стране фей, тех самых, о которых так долго из него нельзя было вытянуть ни слова. Как видите, моя хитрость удалась: поток откровенных излияний сделал свое дело. Скелмерсдейл уже не опасался, что я, как все посторонние люди, не поверю ему, стану над ним насмехаться, теперь он увидел во мне возможного наперсника. Он томился желанием показать, что и он многое пережил и перечувствовал, и совладать с собой он был не в силах.
Поначалу он изводил меня намеками, так и подмывало спросить обо всем в упор и добраться наконец до самой сути, но я опасался поспешностью испортить дело. Только после того, как мы встретились еще раз-другой и я полностью завоевал его доверие, я сумел постепенно выведать у него многое, вплоть до мелочей. В сущности, я выслушал, и не один раз, почти все, что мистер Скелмерсдейл, рассказчик весьма неважный, вообще способен изложить. Итак, я подхожу к истории его приключений и буду рассказывать все по порядку. Случилось ли это в действительности, был ли это сон, игра воображения, какая-то странная галлюцинация, судить не берусь. Но я ни на минуту не допускаю мысли, чтобы он мог все это выдумать. Этот человек глубоко и искренне верит, что все на самом деле произошло именно так, как он рассказывает; он явно не способен лгать столь последовательно, сочинять такие подробности, ему верят наивные, но и весьма проницательные деревенские жители, и это – лишнее доказательство его правдивости. Он верит – и никто пока что не сумел поколебать его веру. Что до меня, то мне больше нечего сказать в подтверждение рассказа, который я передаю. Я уже не в том возрасте, когда убеждают или что-то доказывают.
По его словам, он заснул однажды вечером часов в десять на Олдингтонском Бугре – вполне вероятно, что это случилось в Иванову ночь, а может, неделей раньше или позже, он над этим не задумывался, – был безветренный ясный вечер, всходила луна. Я не поленился три раза взобраться на этот Бугор после того, как выведал у мистера Скелмерсдейла его тайну, и однажды пошел туда в летние сумерки, когда луна только что поднялась, и все, наверное, выглядело так же, как в ту ночь. Юпитер в своем царственном великолепии блистал над взошедшей луной, а на севере и северо-западе закатное небо зеленело и сияло. Голый и мрачный Бугор издалека отчетливо вырисовывается на фоне неба, но вокруг на некотором расстоянии густые заросли кустарника, и, пока я поднимался, бесчисленные кролики, мелькавшие, как тени, или вовсе невидимые в темноте, выскакивали из кустов и стремглав пускались наутек. Над самой вершиной – над этим открытым местом – тонко гудело несметное полчище комаров. Бугор, по-моему, – искусственное сооружение, могильник какого-нибудь доисторического вождя, и уж, наверное, никому не удавалось найти лучше места для погребения, откуда бы открывался такой необъятный простор. Гряда холмов тянется к востоку до Хайта, за нею виден Ла-Манш, и там, милях в тридцати, а то и дальше, мигают, гаснут и снова вспыхивают ярким белым светом маяки Гри-Не и Булони. К западу, как на ладони, вся извилистая долина Уилда – ее видно до самого Хиндхеда и Лейт-Хилла, а на севере долина Стауэра разрезает меловые горы, уходящие к бесконечным холмам за Уайем. Посмотришь на юг – Ромнейские топи расстилаются у ваших ног, где-то посредине Димчерч, и Ромни, и Лидд, Гастингс на горе и совсем вдали, там, где Истборн поднимается к Бич-Хед, снова громоздятся в дымке холмы.
Вот здесь и бродил Скелмерсдейл, горюя из-за сердечных невзгод. Шел он, как он говорит, «не разбирая дороги», а на вершине решил сесть и подумать о своем горе и обиде и, сам того не заметив, уснул. И очутился во власти фей.
А расстроился он по пустякам: повздорил с девушкой из Клэптон-Хилла, своей невестой. Дочь фермера, рассказывал Скелмерсдейл, из «очень почтенной семьи» – словом, прекрасная для него пара. Но и девица, и поклонник были слишком молоды и, как всегда бывает в этом возрасте, ревнивы, нетерпимы до крайности, полны безрассудного стремления искать в другом одни лишь совершенства – жизнь и опыт, к счастью, быстро от этого излечивают. Почему, собственно, они поссорились, я не имею представления. Может быть, она сказала, что любит, когда мужчины носят гетры, а он в тот день гетры не надел, а может, он сказал, что ей другая шляпка больше к лицу, – словом, как бы эта ссора ни началась, она перешла в нелепую перебранку и закончилась колкостями и слезами. И, наверное, он совсем сник, когда она, вся заплаканная, удалилась, наградив его обидными сравнениями, сказав, что вообще никогда его не любила и что уж теперь-то между ними все кончено. Вот этой ссорой были заняты его мысли, и в горестном раздумье он поднялся на Олдингтонский Бугор, долго сидел там, пока неизвестно почему его не сморил сон.
Проснулся он на необычно мягкой траве – никогда раньше такой не видывал, – в тени густых деревьев, их листва заслонила небо. Вероятно, в Стране фей неба вообще не бывает видно. За все время, что мистер Скелмерсдейл там провел, он единственный раз увидел звезды в ту ночь, когда феи танцевали. И мне думается, вряд ли это было в самой Стране фей, скорее, они водили свои хороводы в поросшей тростником низине, неподалеку от Смизской железнодорожной ветки.
И все же под сенью этих развесистых деревьев было светло, среди листвы и в траве поблескивали бесчисленные светлячки, мелкие и очень яркие. Мистер Скелмерсдейл превратился в совсем крошечного человечка – это было первое, что он осознал, а потом он увидел вокруг целую толпу созданий, которые были еще меньше, чем он. Он рассказывал, что почему-то совсем не удивился и не испугался, сел поудобнее в траве и протер глаза. А вокруг толпились веселые эльфы – он заснул у них во владениях, и они утащили его в Страну фей.
Я так и не смог добиться, какие они из себя, эти эльфы: язык у мистера Скелмерсдейла бедный, невыразительный, наблюдательности никакой – он почти не запомнил мелких подробностей. Одеты они были во что-то очень легкое и прекрасное, но это не были ни шелк, ни шерсть, ни листья, ни цветочные лепестки. Эльфы стояли вокруг, ждали, пока он совсем проснется, а вдоль прогалины, как по аллее, озаренной светлячками, шла к нему со звездой во лбу Царица фей, главная героиня его воспоминаний и рассказов. Кое-что о ней мне все-таки узнать удалось. На ней было прозрачное зеленое одеяние, тонкую талию охватывал широкий серебряный пояс. Вьющиеся волосы были откинуты со лба, и не то чтобы она была растрепана, но кое-где выбивались непослушные прядки, голову украшала маленькая корона с одной-единственной звездой. В прорезях рукавов иногда мелькали белые руки, и у ворота, наверное, платье слегка открывало точеную шею, красоту которой он мне все описывал. Шею обвивало коралловое ожерелье, на груди был кораллово-красный цветок. Округлые, как у ребенка, щеки и подбородок, глаза карие, блестящий и ясный, искренний и нежный взгляд из-под прямых бровей. Мистер Скелмерсдейл запомнил все эти подробности – можете себе представить, как глубоко врезался ему в память образ красавицы. Кое-что он пытался выразить, но не сумел. «Ну, вот как-то так она ходила», – повторил он несколько раз, и я представил себе ее движения, излучавшие сдержанную радость.
И с ней, с этим восхитительным созданием, отправился мистер Скелмерсдейл, желанный гость и избранник, по самым сокровенным уголкам Страны фей. Она встретила его приветливо и ласково – слегка, должно быть, пожала ему руку обеими руками, обратив к нему сияющее лицо. Ведь лет десять назад, юношей, мистер Скелмерсдейл был, видимо, совсем недурен собой. И потом, наверное, повела его прогалиной, которая вся искрилась огнями светлячков.
Из маловразумительных и невнятных описаний мистера Скелмерсдейла трудно было понять, где он побывал и что видел. Бледные обрывки воспоминаний смутно рисуют какие-то необычайные уголки и забавы, лужайки, где собиралось вместе множество фей, «мухоморы, от них такой шел свет розоватый», диковинные яства – он только и мог про них сказать: «Вот бы вам отведать!» – волшебные звуки «вроде как из музыкальной шкатулки», которые издавали, раскачиваясь, цветы. Была там и широкая лужайка, где феи катались верхом и носились друг с другом наперегонки «на букашках», однако трудно сказать, что подразумевал мистер Скелмерсдейл под «букашками»: каких-то личинок, быть может, или кузнечиков, или мелких жучков, которые не даются нам в руки. В одном месте плескался ручей и цвели огромные лютики, там феи купались все вместе в жаркие дни. Кругом в чаще мха резвились, танцевали, ласкали друг друга крошечные создания. Нет сомнения, что Царице фей мистер Скелмерсдейл очень полюбился, нет сомнений и в том, что сей юноша решительно вознамерился устоять перед искушением. И вот пришло такое время, когда, сидя с ним на берегу реки, в тихом и укромном уголке («фиалками там здорово пахло»), она призналась ему в любви.
– Голос у нее стал тихий-тихий, шепчет что-то, взяла меня, знаете, за руку и подсела поближе, и такая ласковая и славная, я прямо чуть совсем голову не потерял.
Похоже, что, к несчастью, он слишком долго не терял головы. Благоухали фиалки, пленительная фея была с ним рядом, но мистер Скелмерсдейл понимал, как он выразился, «куда ветер дует», и поэтому деликатно намекнул, что у него есть невеста.
А фея перед тем говорила ему, что нежно его любит, что среди других пареньков, его товарищей, он ей милее всех и, что бы он ни попросил, все она исполнит – даже самое заветное его желание.
Мистер Скелмерсдейл, который, должно быть, упорно отводил взгляд от ее губок, произносивших эти слова, сказал, что ему бы не помешал небольшой капиталец – он хочет открыть свою собственную лавку. Могу себе представить слегка удивленное выражение ее карих глаз, о которых он столько мне говорил, но она, видимо, все поняла и стала подробно расспрашивать, какая у него будет лавка, «и этак посмеивалась» все время. Вот и пришлось сказать правду о помолвке и о невесте.
– Все как есть? – спросил я.
– Все, – отвечал мистер Скелмерсдейл. – И кто такая, и где живет, и все вообще без утайки. Словно что меня заставило говорить, правда.
«Все тебе будет, что ни попросишь, – сказала Царица фей. – Считай, что твое желание выполнено. И непременно будут у тебя деньги, раз ты этого хочешь. А теперь вот что: ты должен меня поцеловать».
Мистер Скелмерсдейл притворился, что не слышал ее последних слов, и сказал, что она очень добрая. И что он даже не заслужил такой доброты. И…
Царица фей вдруг придвинулась к нему еще ближе и шепнула: «Поцелуй меня!»
– И я, дурак набитый, послушался, – сказал мистер Скелмерсдейл.
Поцелуи, как я слыхал, бывают разные, и этот совсем, наверное, не походил на звучные проявления нежности, которые ему дарила Милли. В этом поцелуе было что-то колдовское, и, безусловно, с той минуты все переменилось. Во всяком случае, об этом событии он рассказывал подробнее всего. Я пытался вообразить, как это было на самом деле, воссоздавал в уме эту волшебную картину из путаницы намеков и жестов, но разве могу я описать, какой мягкий свет пробивался сквозь листву, как все вокруг было прекрасно, удивительно, как волнующе и таинственно молчал сказочный лес. Царица фей снова и снова расспрашивала его о Милли: и какая она, и очень ли красивая – все ей надо было знать подробнее. Кажется, на вопрос, хороша ли собой Милли, он ответил «ничего себе». А затем после одного такого разговора фея поведала ему, что, когда он спал при свете луны, она увидела его и влюбилась, и как его унесли к ним, в Страну фей, и она мечтала, не зная ничего о Милли, что, может быть, и он полюбит ее. Но раз уж ты любишь другую, сказала она, то побудь со мной хоть немного, а потом ты должен возвратиться к своей Милли. Она так говорила, а Скелмерсдейл уже был во власти ее чар, но с присущим ему тугодумием все не мог отрешиться от прежнего. Воображаю, как он сидел в странном оцепенении среди этой невиданной красоты и все твердил про Милли и про лавку, которую он заведет, и что нужны лошадь и тележка… И, должно быть, много дней тянулась эта канитель. Я так и вижу – крошечная волшебница не отходит от него ни на шаг, все старается его развлечь, она слишком беспечна, чтобы понять, как тяжко ему приходится, и слишком полна нежности, чтобы его отпустить. А он, понимаете, следует за ней по пятам, настолько поглощенный удивительным новым чувством, что ничего вокруг не замечает, а между тем земные заботы по-прежнему владеют им. Трудно, пожалуй, невозможно передать словами лучезарную прелесть маленькой феи, светившуюся в корявом и сбивчивом рассказе бедняги Скелмерсдейла. Мне, по крайней мере, она сияла чистым блеском сквозь сумбур неуклюжих фраз, как светлячок в спутанной траве.
А тем временем прошло, должно быть, немало дней, и он многое видел – и один раз, как я понял, феи даже танцевали при лунном свете, водили хороводы по всей лужайке возле Смиза, – но вот всему пришел конец. Она привела его в большую пещеру, «такой там красный ночник горел» и громоздились один на другом сундуки, сверкали кубки и золотые ларцы и – тут мистер Скелмерсдейл никак не мог ошибиться – высились горы золотых монет. Маленькие гномы хлопотали среди этих сокровищ, они поклонились и отступили в сторону. Царица фей обернулась к нему, и глаза ее заблестели.
«Ну вот, – сказала она, – ты такой славный, так долго со мною пробыл, и пора уж тебя отпустить. Ты должен вернуться к своей Милли. Ты должен вернуться к своей Милли, а я свое обещание не забыла, сейчас тебе дадут золота».
– Она словно бы задохнулась, – рассказывал мистер Скелмерсдейл. – А я чувствую, – он коснулся груди, – будто все у меня тут замерло. Бледнею, дрожу, а сказать ничего не могу, нечего мне сказать.
Он помолчал.
– А потом? – спросил я.
Описать эту сцену было ему не под силу. Я узнал только, что на прощание она его поцеловала.
– И вы ничего не сказали?
– Ничего, – отвечал он. – Стоял как теленок. Она лишь разок обернулась, улыбается словно и плачет – мне видно было: глаза блестят, а потом пропала, а вся эта мелюзга забегала вокруг меня, и суют мне золото в руки, и в карманы, и за шиворот.
И лишь когда Царица фей исчезла, мистер Скелмерсдейл все понял и осознал. Он вдруг стал отшвыривать золото, которым его осыпали, и закричал, что ему ничего не надо. «Не нужно мне вашего золота, – говорю. – Я не ухожу. Я останусь. Хочу с вашей госпожой еще раз поговорить». Кинулся было за ней, а они меня не пускают. Да, упираются мне в грудь ручонками, толкают назад. И все суют и суют мне золото, из рук уж падает, из карманов высыпается.
– Не нужно мне золота, – говорю им. – Мне бы только вашей госпоже еще хоть словечко сказать.
– И удалось вам с ней поговорить?
– Куда там, драка началась.
– Так ее больше и не увидели?
– Не пришлось. Когда их расшвырял, уже ее не было.
И он кинулся ее искать – из этой пещеры, залитой красным светом, по длинному сводчатому переходу, пока не очутился посреди мрачной и унылой пустоши, где роились блуждающие огни. А вокруг, насмехаясь, плясали эльфы, и гномы из пещеры мчались за ним по пятам с руками, полными золота, они швыряли ему золото вслед и кричали: «Прими от феи ласку! Прими от феи злато!»
Когда он услышал эти слова, его охватил страх, что все кончено, и он стал громко звать ее по имени, вдруг пустился бежать от входа в пещеру вниз по склону, продираясь сквозь боярышник и терновник, и все громко звал ее и звал. Эльфы плясали вокруг, щипали его, царапали – он ничего не замечал, и блуждающие огни вились над головой, кидались ему в лицо, а гномы неслись следом и кричали: «Прими от феи ласку! Прими от феи злато!» Он бежал, и за ним гналась эта странная орава, сбивала его с пути, он то проваливался по колено в болото, то спотыкался о сплетенные толстые корни и вдруг зацепился ногой за один из них и упал.
Упал ничком, перевернулся на спину – и в тот же миг увидел, что лежит на Олдингтонском Бугре и вокруг ни души – лишь звезды над головой.
По его словам, он тут же сел, чувствуя, что продрог, все тело затекло, а одежда намокла от росы. Занимался бледный рассвет, повеяло холодным ветерком. Он было подумал, что все это ему пригрезилось в каком-то небывало ярком сне, но сунул руку в карман и увидел, что карман набит золой. Сомневаться не приходилось – это волшебное золото, которым его одарили. Он чувствовал, что весь исщипан, исколот, хотя на нем не было ни царапины. Таким было внезапное возвращение мистера Скелмерсдейла из Страны фей в этот мир, где обитают люди. Ему казалось, что прошла одна только ночь, но, вернувшись в лавку, он обнаружил, что, к всеобщему изумлению, пропадал целых три недели.
– Господи! И намучился я тогда!
– Почему?
– Объяснять нужно было. Вам, думаю, ни разу не приходилось объяснять такое.
– Ни разу, – сказал я.
Он некоторое время бубнил о том, кто и как себя вел. Лишь одного имени не упомянул.
– А Милли? – спросил я наконец.
– Мне, по правде, и видеть ее не хотелось, – последовал ответ.
– Она, должно быть, изменилась?
– Все изменились. Навсегда изменились. Такие стали здоровенные, неуклюжие. И вроде очень горластые. А когда утром солнце, бывало, встанет, так мне аж глаза резало.
– Ну а Милли?
– И видеть-то ее не хотелось.
– А когда увидели?
– Она мне повстречалась в воскресенье, из церкви шла. «Ты где пропадал?» – спрашивает, а я гляжу – быть ссоре. Мне-то было наплевать, пусть ссора. Я вроде ее и не замечаю, хоть она тут рядом и говорит со мной. Словно ее и нет. Сообразить не мог, чем это она мне раньше приглянулась. Иногда, если подолгу ее не видел, будто возвращалось старое. А когда увижу, тут словно та, другая, придет и заслонит ее… Ну да и Милли не очень-то убивалась.
– Вышла замуж? – спросил я.
– За двоюродного брата, – ответил мистер Скелмерсдейл и некоторое время пристально изучал узор на скатерти.
Когда он снова заговорил, было ясно, что от первой любви не осталось и следа, наша беседа вновь возродила в его сердце образ Царицы фей. Он опять принялся говорить о ней. Он открыл мне необычайные секреты, странные любовные тайны – повторять их было бы предательством. И вот что казалось мне самым поразительным во всей этой истории: сидит маленький франтоватый приказчик из бакалейной лавки, рассказ его окончен, на столе перед ним рюмка виски, в руке сигара – и от него ли я слышу горестные признания, пусть теперь уже и притупилась эта боль, о безысходной тоске, о сердечной муке, которая терзала его в те дни?..
– Не ел, – рассказывал он. – Не спал. В заказах ошибался, сдачу путал. Все о ней думал. И так по ней тосковал! Так тосковал! Все там пропадал, чуть не каждую ночь пропадал на Олдингтонском Бугре, часто и в дождь. Брожу, бывало, по Бугру, снизу доверху облазал, кличу их, прошу, чтобы пустили. Зову. Чуть не плачу. Ополоумел от горя. Все повторял, что, мол, виноват. А по воскресеньям и днем туда лазал, и в дождь, и в вёдро, хоть и знал не хуже вашего, что ничего днем не выйдет. И еще старался там уснуть.
Он неожиданно замолчал и отхлебнул виски.
– Все старался там уснуть, – продолжал он, и, готов поклясться, у него дрожали губы. – Сколько раз хотел там уснуть. И, знаете, сэр, не мог – ни разу. Я думал: если там усну, может, что и выйдет… Но сижу ли там, бывало, лягу ли – не заснуть, думы одолевают и тоска. Тоска… А я все хотел…
Он тяжело вздохнул, залпом допил виски, неожиданно поднялся и, пристально и неодобрительно разглядывая дешевые олеографии на стене у камина, стал застегивать пиджак. Маленький блокнот в черной обложке, куда он заносил ежедневно заказы, выглядывал у него из нагрудного кармана. Он застегнулся на все пуговицы, похлопал себя по груди и вдруг обернулся ко мне.
– Ну, – сказал он, – пойду.
Во взгляде, во всем его облике сквозило что-то такое, чего он не мог передать словами.
– Заговорил вас совсем, – промолвил он уже в дверях, слабо улыбнулся и исчез с моих глаз.
Такова история приключений мистера Скелмерсдейла в Стране фей, как он сам мне ее рассказал.
Перевод Н. Гвоздаревой
Я очень живо помню, как все это было, когда Клейтон рассказал нам свою последнюю историю. Вижу, как сейчас: он сидит у пылающего камина, в углу знаменитого елизаветинского дивана, а рядом с ним Сэндерсон покуривает свою неизменную глиняную трубку, на мундштуке которой выгравирована его фамилия. С нами были еще Эванс и Уиш, это чудо среди актеров и, кстати сказать, очень скромный человек. Мы все съехались в клуб «Сирена» в субботу утром, кроме Клейтона, который там ночевал, – с этого, собственно, он и начал свой рассказ. День мы провели за игрой в гольф, пока не наступили сумерки, потом обедали, и теперь все пребывали в том благодушном настроении, которое располагает человека послушать какую-нибудь занятную историю. Когда Клейтон начал рассказывать, мы, естественно, решили, что он выдумывает. Он и в самом деле, может быть, выдумывал – об этом читатель в самом ближайшем будущем сможет судить не хуже моего.
Правда, он начал серьезно, как рассказывают о каком-нибудь действительном происшествии, но мы тогда сочли это уловкой неисправимого враля.
– Между прочим, – начал он, вволю налюбовавшись огненным дождем искр, летевших вверх из полена, которое разбивал Сэндерсон, – знаете, я ведь ночевал здесь сегодня один.
– Не считая слуг, – заметил Уиш.
– Которые спят в другом крыле, – сказал Клейтон. – Н-да. Так вот…
Некоторое время он молча посасывал сигару, словно все еще сомневался, стоит ли быть с нами откровенным. Наконец сказал удивительно спокойным, обыкновенным тоном:
– Я поймал привидение.
– Привидение? – переспросил Сэндерсон. – Где же оно?
А Эванс, который всегда был большим поклонником Клейтона и только что возвратился из Америки, где провел целый месяц, сразу завопил:
– Привидение, Клейтон? Прекрасно! Расскажите же нам, как все это было!
Клейтон ответил, что сейчас расскажет, и попросил его прикрыть дверь.
– Разумеется, здесь не подслушивают, – пояснил он, как бы извиняясь передо мною, – но у нас тут дело так прекрасно поставлено, не хотелось бы вносить сумятицу разговорами о привидениях. Здание здесь, знаете, темноватое, и дубовые панели по стенам – не стоит этим шутить. Да и привидение это было не обычное. Я думаю, оно больше сюда не вернется, никогда не вернется.
– Значит, вы его не задержали? – спросил Сэндерсон.
– Я его пожалел.
Сэндерсон выразил удивление. А мы все рассмеялись. Но Клейтон, криво усмехнувшись, сказал с легкой досадой:
– Я знаю. Но дело в том, что это действительно было привидение, я в этом так же уверен, как и в том, что вот сейчас говорю с вами. Я не шучу. Это правда.
Сэндерсон глубоко затянулся своей трубкой, искоса поглядывая на Клейтона красноватым глазом, и выпустил в его сторону тонкую струю дыма, что было красноречивее всяких слов.
Но Клейтон не обратил внимания на этот выпад.
– Ничего более странного со мной в жизни не случалось. Понимаете, я никогда раньше не верил в духов и во всякую чертовщину, никогда, и вдруг, пожалуйте, загоняю в угол настоящее привидение. Хлопот у меня с ним было – не оберешься.
Он опять погрузился в раздумье и, машинально вытащив вторую сигару, обрезал ее забавным особым ножичком, который он с собою всегда носил.
– Вы с ним говорили? – спросил Уиш.
– Да, наверное, с час, не меньше.
– И что ж он, разговорчив? – поддел я его, беря сторону скептиков.
– Бедный дух попал в затруднение, – ответил Клейтон, склонившись над сигарой, и в тоне его слышался легкий упрек.
– Рыдал? – спросил кто-то.
Клейтон испустил очень правдоподобный вздох.
– Боже ты мой, да! – сказал он. – Еще как, бедняга!
– Где же вы его застукали? – спросил Эванс с чистопробным американским акцентом.
– Я и не предполагал, – продолжал Клейтон, не отвечая ему, – каким жалким может быть привидение.
Он снова прервал рассказ, пока нашаривал в кармане спички, зажигал и раскуривал свою сигару. Но нам было не к спеху.
– Бедный. Мне-то было легко, – сказал он задумчиво. – Характер, – продолжал он, – сохраняется, даже когда человек теряет свою телесную оболочку. Обычно мы об этом забываем. Если человек волевой и целеустремленный, то и дух его будет волевым и целеустремленным, – большинство привидений, я думаю, такие же рабы навязчивой идеи, как и любой маньяк на земле, и упрямы, что твой осел, раз так настойчиво возвращаются все на то же место. Но этот бедняга совсем другой.
Клейтон вдруг поднял голову и странным взглядом обвел комнату.
– Я ничего обидного не хочу сказать, – проговорил он, – но все дело именно в этом: он с первого взгляда произвел на меня впечатление слабого человека.
Он говорил, помахивая зажженной сигарой.
– Знаете, я встретил его вон там, в длинном коридоре. Он стоял ко мне спиной, и я первый его заметил. Я сразу же сообразил, что это – привидение. Он был весь прозрачный, такой белесоватый. Прямо сквозь спину его видно было окошко в дальнем конце коридора. Но не только во всем его облике, даже в самой его позе было что-то слабое. Понимаете, он стоял, как человек, понятия не имеющий, что ему делать дальше. Одной рукой держался за стену, а другую прижал к губам – вот так!
– А собой он каков? – спросил Сэндерсон.
– Тщедушный. Знаете, такая шея тонкая, с двумя ложбинками позади ушей – вот тут и тут. Маленькая плоская голова, волосы торчком, уродливые уши. И плечи никудышные, поуже бедер; отложной воротник, дешевый пиджак, брюки мешковатые, обтрепанные над каблуками. Вот таким он передо мной и предстал. Я спокойно поднимался по лестнице. Свечки я не нес: свечи стояли там, на столике на лестничной площадке, да и лампа горела, – и на ногах у меня были комнатные туфли. Поднявшись наверх, я сразу его заметил. Остановился как вкопанный и принялся его разглядывать. И, представьте, ничуть не испугался. Наверное, в таких случаях вообще никогда не бывает так страшно, как люди воображают. Удивился, конечно, и заинтересовался очень. «Господи ты боже мой, – думаю, – привидение! Наконец-то!» А ведь я вот уж двадцать пять лет как и на секунду не допускал существования привидений.
– Гм, – сказал Уиш.
– Но через минуту он, вероятно, почувствовал мое присутствие на площадке. Он резко повернул голову, и я увидел профиль незрелого юнца, маленький нос, усы щеточкой, слабо очерченный подбородок. Так мы с ним стояли – он смотрел на меня через плечо – и разглядывали друг друга. Потом он, видно, вспомнил свое высокое призвание. Повернулся, вытянулся, голова вперед, руки кверху, пальцы растопырил, как полагается привидению, и двинулся мне навстречу. При этом челюсть его отвисла, и он слабо, протяжно завыл: «Бу-у-у-у!» Нет, это было совсем не страшно. Я только что пообедал. Выпил бутылку шампанского и от одиночества прихватил еще две или три, нет, наверное, четыре или даже пять порций виски. Так что я оставался тверд, как скала, и испугался его не больше, чем если бы на меня стала наступать лягушка. «Бу, – говорю, – какая чепуха! Вы не принадлежите к этому клубу. Что же вы здесь делаете?»
Вижу, он вздрогнул. И снова за свое: «Бу-у-у! Бу-у!» – «Вот еще! Разве вы состоите членом клуба? – говорю, и, чтобы показать ему, что он в моих глазах ничто, я прямо шагнул наискось сквозь него и взял со стола свечу. – Вы член клуба?» – снова спрашиваю, глядя на него сбоку.
Он чуть посторонился, чтобы я не занимал его места, и вид у него был при этом угнетенный.
«Нет, – сказал он в ответ на мой вопрошающий взгляд, – я не член этого клуба. Я призрак».
«Это еще не дает вам права доступа в клуб «Сирена». Вы кого-нибудь желаете здесь увидеть?»
Спокойно, не торопясь, чтобы нетвердость моей руки, вызванную вином, он не принял за проявление испуга, я зажег свечу. И повернулся к нему, держа огонь перед собою.
«Что вы здесь делаете?» – спросил я.
Он опустил руки, перестал выть и стоял, смущенный и неловкий, призрак бесхарактерного, глупого юнца.
«Я явился на землю», – говорит.
«Сюда вам совершенно незачем было являться», – сказал ему я твердым голосом.
«Но ведь я привидение», – возразил он в свое оправдание.
«Очень возможно, – говорю, – но сюда вам совершенно незачем являться. Здесь солидный частный клуб; приезжие останавливаются здесь с детьми, с няньками, а вы бродите здесь так неосмотрительно. Какая-нибудь малышка легко может набрести на вас и насмерть перепугаться. Об этом вы, конечно, не подумали?»
«Нет, сэр, – ответил он, – не подумал».
«А не мешало бы. У вас ведь нет никаких особых притязаний именно на этот дом? Вы не были здесь убиты, надеюсь?»
«Нет, сэр, никаких особых притязаний; просто я подумал: раз он такой старый и дубовые панели по стенам…»
«Это вас не извиняет. – Я поглядел на него строго. – Ваше появление здесь было ошибкой, – сказал я снисходительно. Потом я сделал вид, будто ищу спичку по карманам. А потом снова посмотрел на него и сказал напрямик: – На вашем месте я не стал бы дожидаться петухов. Я исчез бы немедленно».
«Дело в том, сэр…» – начал он растерянно.
«Исчез бы», – повторил я для пущей ясности.
«Все дело в том, сэр, что… я… у меня не получается».
«Не получается?»
«Нет, сэр. Вероятно, я что-то забыл. Я здесь со вчерашней полуночи прячусь по закоулкам, по комодам, в пустых номерах. Сам не знаю, что со мной. Я никогда раньше не являлся и с непривычки чувствую себя совсем сбитым с толку».
«Сбитым с толку?»
«Да, сэр. Я пробовал несколько раз, но у меня ничего не выходит. Верно, я упускаю какую-то мелочь, но из-за этого я не могу вернуться назад».
Я, знаете ли, просто пришел в замешательство. А он глядел на меня так уныло, что я, хоть убейте, не мог продолжать с ним разговор в прежнем высокомерном, назидательном тоне.
«Вот странно, – говорю, и тут мне почудилось, что внизу кто-то ходит. – Идемте в мою комнату, – сказал я ему, – и там вы мне все расскажете подробнее. Я ничего не понял».
И я хотел было взять его под руку. Но, разумеется, это было все равно что хвататься за дым.
Номер своей комнаты я, видно, позабыл, потому что мы с ним заглядывали в одну дверь за другой – хорошо еще, что я был один на всем этаже, – пока наконец я не признал мои пожитки.
«Ну вот, – сказал я и уселся в кресло, – присаживайтесь и расскажите мне все толком. По-моему, вы попали в крайне щекотливое положение, старина».
Ну, он сказал, что сидеть ему не хочется, лучше он полетает по комнате, если, конечно, я ничего не имею против. И стал летать взад-вперед, покуда мы вели с ним длинный и серьезный разговор. Очень скоро выпитое виски начало испаряться из моей головы, и мне вполне ясно представилось, в какую дьявольски дикую и невероятную переделку я попал. Я сижу, а у меня перед глазами, по моей чистой, уютной спальне с ситцевыми старинными занавесями в цветочек, летает взад-вперед настоящее, классическое привидение, полупрозрачное, бесшумное, только чуть слышно звучит его слабый голос. Сквозь его силуэт виден блеск начищенных медных подсвечников, блики огня на каминной решетке и рамки развешанных по стене гравюр, а он рассказывает мне о своей нескладной, злополучной жизни на этом свете, совсем недавно оборвавшейся.
Лицо у него было не то чтоб очень честное, но поскольку уж его видно было всего насквозь, иначе как правду он, конечно, говорить не мог.
– Как это? – спросил Уиш, вдруг выпрямившись в кресле.
– Что? – не понял Клейтон.
– Как это – поскольку его было видно насквозь, он мог говорить только правду? Я не понимаю.
– Я тоже, – ответил Клейтон с неподражаемой серьезностью. – Но тем не менее это так, могу вас уверить. Знаю только, что он ни разу ни на йоту не отступил от святой истины. Рассказывал он мне, как погиб: спустился с зажженной свечой в подвал посмотреть, где протекает газ… А работал он, когда обнаружилась эта утечка, как он мне объяснил, учителем английского языка в одной лондонской закрытой школе.
– Бедняга, – сказал я.
– И я так подумал, и чем больше он рассказывал, тем больше укреплялся в этой мысли. Существование его было бессмысленно и при жизни, и после смерти тоже. Об отце, о матери и о своем школьном учителе – обо всех своих близких он говорил с озлоблением. Он был слишком обидчив, нервозен, считал, что никто его не ценил по-настоящему и не понимал. Кажется, у него за всю жизнь не было ни одного близкого человека, и никогда ни в чем он не добился успеха. От спорта увиливал, на экзаменах проваливался. «С некоторыми вот так бывает, – объяснил он мне. – Как только я входил, например, в экзаменационный кабинет, все сразу вылетало из головы». И, разумеется, был помолвлен – с такой же слабохарактерной особой, как он сам, надо полагать, – когда случилась эта досадная оплошность с газом, положившая конец всем его земным делам. «Ну и где же вы теперь? – спросил я его. – Не в…»
Но на эту тему он изъяснялся как-то туманно. Я понял его так, что он находился в некоем неопределенном, промежуточном состоянии, в каком-то особом резерве для душ, слишком ничтожных для таких определенных вещей, как грех или добродетель. В общем, не знаю. Он был слишком неразвит и занят собой, чтобы я мог из его рассказа составить себе ясное представление о том месте, о той области, что лежит по Ту Сторону Добра и Зла. Но где бы он ни обретался, он, видимо, попал в общество себе подобных призраков – таких же малодушных юнцов из лондонского простонародья, которые все были между собой на дружеской ноге, и у них там, вероятно, без конца велись разговоры о том, кто и когда выходил являться, и о прочих подобных делах. Да, так он и говорил: «Выходил являться»! У них это там почитается величайшей доблестью, и большинство из них так никогда и не отваживается на такое предприятие. Ну, подзудили его, знаете, он и явился.
– Удивительно! – воскликнул Уиш, глядя в камин.
– Так, во всяком случае, я его понял, – скромно пояснил Клейтон. – Может быть, конечно, я не в состоянии был совершенно трезво отнестись к его рассказу, но именно такой он изобразил мне среду, в которой вращался. И он все летал по комнате и говорил, говорил своим слабым, глухим голоском – все о себе, о своей злополучной персоне, и ни разу от начала и до конца не произнес ни единого твердого суждения. Он был еще тщедушнее и бестолковее, еще никчемнее, чем если бы он стоял там живой. Но только тогда бы он, как вы понимаете, не стоял в моей спальне – то есть будь живой, я хочу сказать. Я бы вышвырнул его вон.
– Разумеется, – сказал Эванс, – есть такие жалкие существа на свете.
– И у них точно так же, как и у нас, могут быть свои призраки, – согласился я.
– Одно только можно сказать о нем определенно: он начал в какой-то мере осознавать собственное ничтожество. Неразбериха, в которую он попал с этим «появлением», страшно его подкосила.
Ему было сказано, что он «повеселится в свое удовольствие», он и вышел «повеселиться» – и вот, нате вам, ничего не получилось, только еще одна неудача на его счету! Он сказал, что считает себя полным, безнадежным неудачником. Он говорил – и я охотно этому верю, – что за что бы он в жизни ни брался, у него никогда ничего не выходило и не будет выходить впредь до скончания веков.
Вот если бы он встретил у кого-нибудь сочувствие, тогда… При этом он замолчал и посмотрел на меня. Потом сказал, что мне это, вероятно, покажется странным, но ни от кого никогда не видел он такого сочувствия, как сейчас от меня. Я сразу понял, к чему он клонит, и решил немедленно его осадить. Может быть, конечно, я бессердечный негодяй, но, знаете ли, быть Единственным Другом и Наперсником такого эгоцентричного ничтожества, призрачного или во плоти, все равно, – это выше моих сил. Я быстро встал.
«Не убивайтесь вы из-за этого, – говорю ему. – Вам нужно подумать о другом: как выпутаться из этой истории, да поживей. Возьмите себя в руки и постарайтесь». – «Не получается», – говорит он. «А вы попробуйте».
Ну, он и стал пробовать.
– Пробовать? Что именно? – спросил Сэндерсон.
– Пассы, – ответил Клейтон.
– Пассы?
– Да, сложный ряд жестов и пассов, движений руками. Таким путем он явился сюда и так же должен уйти назад. Господи! Ну и намучился же я!
– Но как можно какими-то жестами?.. – начал я.
– Дорогой мой, – с особым ударением сказал Клейтон, поворачиваясь ко мне, – вам подавай ясность во всем. Как можно, я не знаю. Знаю только, что так это делается, то есть он, во всяком случае, так делал. Он ужасно долго бился, но потом наладил свои пассы и внезапно исчез.
– И вы, – медленно сказал Сэндерсон, – видели эти пассы?
– Да, – ответил Клейтон и задумался. – Очень это было странно, – продолжал он. – Только что мы с ним стояли здесь, я и этот тощий, смутный дух, в этой тихой комнате, в этой тихой, безлюдной гостинице, в этом тихом городке, безмолвной ночью. Ни звука нигде, кроме наших голосов и его тяжелого дыхания, когда он махал руками. Одна свеча горела на камине, а другая – на ночном столике, только всего света и было, и по временам либо та, либо эта вдруг вспыхивала высоким, узким, дрожащим пламенем… И странные происходили вещи…
«Не выходит, – сказал он. – Я теперь никогда…» И сел вдруг на маленький пуфик у постели и зарыдал, зарыдал… Господи! Какой он был жалкий, какой несчастный! «Ну, ну, не расстраивайтесь, – сказал я ему и хотел было похлопать его по спине, но, будь я проклят, рука моя прошла сквозь него! Понимаете, к этому времени я уже был не таким несокрушимо спокойным, как сначала, на лестнице. Я уже полностью ощутил всю нелепость происходящего. Помню, я отдернул руку чуть не с оторопью и отошел к ночному столику. «Соберитесь с силами, – сказал я ему, – и попробуйте еще раз».
И для того, чтобы подбодрить его и помочь, я тоже стал пробовать вместе с ним.
– Что? – сказал Сэндерсон. – Вы стали делать пассы?
– Да, пассы.
– Но ведь… – начал я, взволнованный мыслью, которую сам еще не мог толком выразить.
– Это интересно, – перебил меня Сэндерсон, уминая пальцем табак в трубке. – Так вы говорите, что этот дух ваш открыл вам….
– Изо всех сил старался открыть свой секрет, безусловно.
– Да нет, – возразил Уиш. – Он не мог. Иначе бы и вы за ним последовали.
– Вот именно! – подхватил я, обрадованный тем, что он сформулировал за меня мою мысль.
– Именно, – повторил Клейтон, задумчиво глядя на огонь.
Некоторое время мы все молчали.
– Но в конце концов у него все-таки вышло? – спросил Сэндерсон.
– В конце концов вышло. Я заставил его потрудиться как следует, но потом у него получилось, и довольно неожиданно. Он уже совсем отчаялся, мы с ним повздорили, а потом он вдруг встал и попросил меня проделать все это медленно, чтобы он мог видеть. «Мне кажется, – он сказал, – что если бы я мог увидеть со стороны, я бы сразу заметил, в чем ошибка». И так и было. «Знаю!» – вдруг сказал он. «Что вы знаете?» – спрашиваю. Но он только повторил: «Знаю. Знаю». А потом говорит мне этаким раздраженным тоном: «Если вы будете смотреть, я не могу этого сделать, просто не могу – и все. С самого начала в этом и было дело отчасти. Я человек нервный, вы меня смущаете». Ну, тут мы немного поспорили. Естественно, мне хотелось посмотреть, но он был упрям, как мул, и я вдруг уступил: я устал как собака, он меня страшно утомил. «Ладно, – говорю, – не буду я на вас глядеть». А сам отвернулся к зеркальному шкафу возле кровати. Он стал делать все сначала в очень быстром темпе. Я наблюдал за ним в зеркале, мне хотелось увидеть, в чем у нас была заминка.
Руки у него пошли колесом, ладони поворачивались – так и так и вот этак, и вот уже последнее движение: когда стоишь прямо, руки разводишь и запрокидываешь голову. И вот, понимаете, вижу, он уже так стоит. И потом вдруг нет его! Не стоит больше! Исчез. Отворачиваюсь от зеркала – пусто! Я один, только свечи вспыхивают, и в голове сумбур. Что это было? Да и было ли что-нибудь? Может, мне приснилось?.. И в это самое мгновение, словно ставя нелепую точку и возвещая конец, часы на лестнице сочли уместным пробить один раз. Вот так: «Бомм!» Я был трезв как судья. Мысли были ясные. Мое шампанское и виски испарились в глубине вселенной. И я чувствовал себя чертовски странно, признаюсь, чертовски странно. Как-то чудно! Бог мой!
Некоторое время он молча разглядывал пепельный кончик своей сигары.
– Вот и все, что со мной произошло, – произнес он наконец.
– И тогда вы легли спать? – спросил Эванс.
– А что же еще мне было делать?
Мы переглянулись с Уишем. Нам хотелось позубоскалить, но было что-то такое, что-то необычное в голосе и в манерах Клейтона, не дававшее нам шутить.
– А как же насчет этих пассов? – спросил Сэндерсон.
– Да я, наверное, мог бы вам их показать.
– О! – произнес Сэндерсон и, вытащив перочинный ножик, принялся выковыривать нагар из своей глиняной трубки.
– Почему бы вам не проделать их прямо сейчас? – спросил он, закрывая ножичек.
– Я и собираюсь, – ответил Клейтон.
– Они не подействуют, – сказал Эванс.
– А если подействуют… – возразил я.
– Знаете, по-моему, лучше не надо, – сказал Уиш, вытягивая ноги.
– Почему? – удивился Эванс.
– Лучше не надо, – повторил Уиш.
– Да ведь он даже не знает, как их нужно правильно делать, – сказал Сэндерсон, набивая в трубку слишком много табаку.
– Все равно, по-моему, лучше не надо, – сказал Уиш.
Мы заспорили с Уишем. Он утверждал, что со стороны Клейтона это будет похоже на издевательство над серьезными вещами.
– Но ведь вы же не верите?.. – спросил я.
Уиш бросил взгляд на Клейтона, который, глубоко задумавшись, глядел в огонь.
– Верю… во всяком случае, больше, чем наполовину, – ответил Уиш.
– Клейтон, – сказал я, – вы для нас чересчур умелый враль. Все бы вообще ничего. Но это исчезновение… оно, знаете ли, было уж слишком убедительно. Признайтесь теперь, что все это вы сочинили.
Он встал, не отвечая, вышел на середину комнаты и повернулся лицом в мою сторону. Минуту он сосредоточенно разглядывал носы своих ботинок, а потом перевел напряженный взгляд на противоположную стену и так и замер. Затем медленно поднял ладони на уровень своих глаз и начал…
Дело в том, что Сэндерсон у нас масон, член ложи Четырех Королей, которая с таким успехом занимается исследованием и разоблачением всех бывших и настоящих масонских тайн, и среди ученых этой ложи Сэндерсон занимает отнюдь не последнее место. Он следил за движениями Клейтона с выражением живого интереса в своем красноватом глазу.
– Неплохо, – сказал он, когда все было кончено. – Вы знаете, Клейтон, вы действительно проделали все это на удивление правильно. В одном месте только упустили одну деталь.
– Знаю, – ответил Клейтон. – Я даже, наверное, смог бы показать вам, в каком именно.
– В каком же?
– Вот. – И Клейтон странным образом изогнул и вывернул руки, выставив вперед ладони.
– Да.
– Вот это-то как раз у него и не получалось, – пояснил Клейтон. – Но вы-то откуда?..
– Во всей вашей истории мне многое непонятно, в особенности как вы могли это сочинить, – сказал Сэндерсон. – Но вот с этой стороной я как раз знаком. – Он подумал немного, а потом продолжал: – Эти пассы… связаны с определенным мистическим течением внутри масонства… Вам, наверное, известно… а иначе откуда бы вы?.. – Он подумал еще немного. – По-моему, не будет вреда, если я покажу вам правильный поворот ладоней. В конце концов, раз вы знаете, так знаете, а не знаете, так не знаете.
– Я не знаю ничего, – сказал Клейтон, – кроме того, что открыл мне этот бедняга минувшей ночью.
– Ну, все равно, – произнес Сэндерсон, с величайшей осторожностью положил на каминную доску свою глиняную трубку и проделал какое-то быстрое движение кистями рук.
– Вот так? – спросил Клейтон, повторяя движение за ним.
– Так, – ответил Сэндерсон и снова взял свою трубку.
– Ну, а теперь, – сказал Клейтон, – я могу проделать все правильно от начала до конца.
Он стоял перед прогоревшим камином и, улыбаясь, обвел нас взглядом. Но, по-моему, в его улыбке сквозила тень нерешительности.
– Если я сейчас начну… – проговорил он.
– По-моему, лучше не начинать, – сказал Уиш.
– Что вы! – возразил Эванс. – Материя не уничтожается. Неужели вы думаете, что все эти фокусы-покусы могут перенести Клейтона в мир теней? Ну уж нет! Что до меня, Клейтон, то можете упражняться сколько вам будет угодно, пока руки не отвалятся.
– Я не согласен, – сказал Уиш, вставая, и обнял Клейтона за плечи. – Вы заставили меня наполовину поверить этому вашему рассказу, и я не хочу видеть, как все это будет на деле.
– Бог ты мой! – удивился я. – Уиш-то испугался.
– Да, – сказал Уиш с истинным или восхитительно наигранным чувством. – Я верю, что если он проделает все, как надо, его не станет.
– Да что вы! – воскликнул я. – Для смертных есть только один путь из этого мира, и Клейтона отделяет от него, по меньшей мере, тридцать лет. Да к тому же… Такое жалкое привидение! Неужели вы думаете?..
Но Уиш, не дав ему договорить, раздвинул наши кресла и подошел к столу.
– Клейтон, – сказал он, – вы глупец.
Клейтон, оживившись, улыбнулся ему в ответ.
– Уиш прав, – сказал он, – а вы все не правы. Я исчезну. Я проделаю все пассы до конца, и когда я последним взмахом рук разрежу воздух – р-раз! – на этом коврике уже не будет никого, в комнате воцарится немое изумление, а почтенный джентльмен пяти пудов весом окажется перенесенным в мир теней. Я убежден в этом. И вы тоже убедитесь. Не желаю больше спорить. Давайте испытаем на деле.
– Нет! – Уиш сделал было шаг вперед, но остановился, и Клейтон, подняв руки, приготовился еще раз проделать пассы бедного духа.
К этому времени все мы были уже сильно взвинчены, главным образом из-за непонятного поведения Уиша. Мы не сводили глаз с Клейтона, и у меня, по крайней мере, при этом в спине было такое ощущение, будто я весь, от затылка до копчика, превратился в стальную пружину. А Клейтон с полной серьезностью, с какой-то уже высшей невозмутимостью качался и кланялся, выворачивая ладони, и крутил руками. И по мере того, как он приближался к концу, это становилось невозможно переносить, даже в зубах начался какой-то зуд. Последнее движение, как я уже говорил, состояло в том, что руки разводились в стороны и голова запрокидывалась кверху. И когда он, размахивая руками, дошел до этого последнего пасса, у меня перехватило дыхание. Глупо, конечно, но знаете это чувство, которое испытываешь, слушая рассказы о привидениях? Дело было вечером, после ужина, в старом, темном, таинственном доме. А что, если все-таки…
Долго, невыносимо долго он стоял так, раскинув руки и подняв спокойное лицо к ясному, прозаическому свету люстры. Мы замерли, казалось, на целую вечность, а затем с наших губ сорвался не то вздох облегчения, не то разочарованный возглас: «Нет!» Ибо мы увидели, что он не исчезает. Все это был вздор. Он рассказал нам досужую побасенку и едва не заставил нас в нее поверить, только и всего!.. Но в это мгновение лицо Клейтона изменилось.
Оно изменилось, как меняется фасад дома, в котором вдруг гаснут огни. Глаза его остановились, улыбка на губах застыла, а он все стоял на месте. Стоял и легонько покачивался.
Это мгновение тоже было как вечность. Но потом задвигались стулья, все попадало, мы бросились к нему… Его колени подогнулись, и он рухнул вперед, прямо в объятия к подскочившему Эвансу.
Мы все оторопели. Сначала никто не мог вымолвить ни слова. Мы и верили, и все-таки никак не могли поверить… Очнувшись от тупого оцепенения, я обнаружил, что стою на коленях возле Клейтона, рубашка на груди у него разодрана, и рука Сэндерсона лежит прямо на сердце… Ну, вот и все. То, что было перед нами, уже не требовало спешки: можно было подождать, пока происшедшее не будет осознано нами до конца. Он пролежал так целый час – он и по сей день лежит на моей памяти черным грузом недоумения. Клейтон и в самом деле перешел в иной мир, столь близкий и столь далекий от нашего, единственным путем, который доступен смертным. Но перенесся ли он туда с помощью чар бедного духа или же его поразил апоплексический удар в середине веселого рассказа, как убеждало нас судебное следствие, не мне судить. Это одна из тех необъяснимых загадок, коим надлежит оставаться неразрешенными, пока не придет окончательное разрешение всего. Я знаю только одно: в ту минуту, в то самое мгновение, когда он завершил свои пассы, он вдруг изменился в лице, покачнулся и упал у нас на глазах – мертвый!
Перевод И. Бернштейн
Издали мне случалось видеть эту волшебную лавку и раньше.
Раза два я проходил мимо ее витрины, где было столько привлекательных товаров: волшебные шары, волшебные куры, чудодейственные колпаки, куклы для чревовещателей, корзины с аппаратурой для фокусов, колоды карт, с виду совсем обыкновенные, и тому подобная мелочь. Мне и в голову не приходило зайти в эту лавку. Но вот однажды Джип взял меня за палец и, ни слова не говоря, потащил к витрине; при этом он вел себя так, что не войти с ним туда было никак невозможно.
По правде говоря, я и не думал, что эта скромная лавчонка находится именно здесь, на Риджент-стрит, между магазином, где продаются картины, и заведением, где выводятся цыплята в патентованных инкубаторах. Но это была она. Мне почему-то казалось, что она ближе к Сэркус, или за углом на Оксфорд-стрит, или даже в Холборне, и всегда я видел ее на другой стороне улицы, так что к ней было не подойти, и что-то в ней было неуловимое, что-то похожее на мираж. Но вот она здесь, в этом нет никаких сомнений, и пухлый указательный пальчик Джипа стучит по ее витрине.
– Будь я богат, – сказал Джип, тыча пальцем туда, где лежало «Исчезающее яйцо», – я купил бы себе вот это. И это. – Он указал на «Младенца, плачущего совсем как живой». – И это.
То был таинственный предмет, который назывался: «Купи и удивляй друзей!» – как значилось на аккуратном ярлычке.
– А под этим колпаком, – сказал Джип, – пропадает все, что ни положи. Я читал об этом в одной книге… А вон, папа, «Неуловимый грошик», только его так положили, чтобы не видно было, как это делается.
Джип унаследовал милые черты своей матушки: он не звал меня в лавку и не надоедал приставаниями, он только тянул меня за палец по направлению к двери – совершенно бессознательно, – и было яснее ясного, чего ему хочется.
– Вот! – сказал он и указал на «Волшебную бутылку».
– А если б она у тебя была? – спросил я.
И, услыхав в этом вопросе обещание, Джип просиял.
– Я показал бы ее Джесси! – ответил он, полный, как всегда, заботы о других.
– До дня твоего рождения осталось меньше ста дней, Джип, – сказал я и взялся за ручку двери.
Джип не ответил, но еще сильнее сжал мой палец, и мы вошли в лавку.
Это была не простая лавка, это была лавка волшебная. И потому Джип не проследовал к прилавку впереди меня, как при покупке обыкновенных игрушек. Здесь он всю тяжесть переговоров возложил на меня.
Это была крошечная, тесноватая полутемная лавчонка, и дверной колокольчик задребезжал жалобным звоном, когда мы захлопнули за собой дверь. В лавчонке никого не оказалось, и мы могли оглядеться. Вот тигр из папье-маше на стекле, покрывающем невысокий прилавок, – степенный, добродушный тигр, размеренно качающий головой; вот хрустальные шары всех видов; вот фарфоровая рука с колодой волшебных карт; вот целый набор разнокалиберных волшебных аквариумов; вот нескромная волшебная шляпа, бесстыдно выставившая напоказ все свои пружины. Кругом было несколько волшебных зеркал. Одно вытягивало и суживало вас, другое отнимало у вас ноги и расплющивало вашу голову, третье делало из вас какую-то круглую, толстую чурку. И пока мы хохотали перед этими зеркалами, откуда-то появился какой-то мужчина, очевидно, хозяин.
Впрочем, кто бы он ни был, он стоял за прилавком, странный, темноволосый, бледный. Одно ухо было у него больше другого, а подбородок – как носок башмака.
– Чем могу служить? – спросил он и растопырил свои длинные волшебные пальцы по стеклу прилавка.
Мы вздрогнули, потому что не подозревали о его присутствии.
– Я хотел бы купить моему малышу какую-нибудь игрушку попроще, – сказал я.
– Фокусы? – спросил он. – Ручные? Механические?
– Что-нибудь позабавнее, – ответил я.
– Гм… – произнес продавец и почесал голову, как бы размышляя. И прямо у нас на глазах вынул у себя из головы стеклянный шарик. – Что-нибудь в таком роде? – спросил он и протянул его мне.
Это было неожиданно. Много раз мне случалось видеть такой фокус на эстраде – без него не обойдется ни один фокусник средней руки, – но здесь я этого не ожидал.
– Недурно! – сказал я со смехом.
– Не правда ли? – заметил продавец.
Джип отпустил мой палец и потянулся за стеклянным шариком, но в руках продавца ничего не оказалось.
– Он у вас в кармане, – сказал продавец, и действительно, шарик был там.
– Сколько за шарик? – спросил я.
– За стеклянные шарики мы денег не берем, – любезно ответил продавец. – Они достаются нам, – тут он поймал еще один шарик у себя на локте, – даром.
Третий шарик он поймал у себя на затылке и положил его на прилавок рядом с предыдущим. Джип, не торопясь, оглядел свой шарик, потом те, что лежали на прилавке, потом обратил вопрошающий взгляд на продавца.
– Можете взять себе и эти, – сказал тот, улыбаясь, – а также, если не брезгуете, еще один, изо рта. Вот!
Джип взглянул на меня, ища совета, потом в глубочайшем молчании сгреб все четыре шарика, опять ухватился за мой успокоительный палец и приготовился к дальнейшим событиям.
– Так мы приобретаем весь наш товар, какой помельче, – объяснил продавец.
Я засмеялся и, подхватив его остроту, сказал:
– Вместо того, чтобы покупать их на складе? Оно, конечно, дешевле.
– Пожалуй, – ответил продавец. – Хотя в конце концов и нам приходится платить, но не так много, как думают иные. Товары покрупнее, а также пищу, одежду и все, что нам нужно, мы достаем вот из этой шляпы… И позвольте мне заверить вас, сэр, что на свете совсем не бывает оптовых складов настоящих волшебных товаров. Вы, верно, изволили заметить нашу марку: «Настоящая волшебная лавка».
Он вытащил из-за щеки прейскурант и подал его мне.
– Настоящая, – сказал он, указывая пальцем на это слово, и прибавил: – У нас без обмана, сэр.
У меня мелькнула мысль, что его шутки не лишены последовательности.
Потом он обратился к Джипу с ласковой улыбкой:
– А ты, знаешь ли, Неплохой Мальчуган…
Я удивился, не понимая, откуда он мог догадаться. В интересах дисциплины мы держим это в секрете даже в домашнем кругу. Джип выслушал похвалу молча и продолжал смотреть на продавца.
– Потому что только хорошие мальчики могут пройти в эту дверь.
И тотчас же, как бы в подтверждение, раздался стук в дверь и послышался пискливый голосок:
– И-и! Я хочу войти туда, папа! Папа, я хочу войти! И-и-и!
И уговоры измученного папаши:
– Но ведь заперто, Эдуард, нельзя!
– Совсем не заперто! – сказал я.
– Нет, сэр, у нас всегда заперто для таких детей, – сказал продавец, и при этих словах мы увидели мальчика: крошечное личико, болезненно-бледное от множества поедаемых лакомств, искривленное от вечных капризов, личико бессердечного маленького себялюбца, царапающего заколдованное стекло.
– Не поможет, сэр, – сказал торговец, заметив, что я со свойственной мне услужливостью шагнул к двери.
Скоро хнычущего избалованного мальчика увели.
– Как это у вас делается? – спросил я, переводя дух.
– Магия! – ответил продавец, небрежно махнув рукой. И – ах! – из его пальцев вылетели разноцветные искры и погасли в полутьме магазина.
– Ты говорил там, на улице, – сказал продавец, обращаясь к Джипу, – что хотел бы иметь нашу коробку «Купи и удивляй друзей!».
– Да, – признался Джип после героической внутренней борьбы.
– Она у тебя в кармане.
И, перегнувшись через прилавок (тело у него оказалось необычайной длины), этот изумительный субъект с ужимками заправского фокусника вытащил у Джипа из кармана коробку.
– Бумагу! – сказал он и достал большой лист из пустой шляпы с пружинами.
– Бечевку! – И во рту у него оказался клубок бечевки, от которого он отмотал бесконечно длинную нить, перевязал ею сверток, перекусил зубами, а клубок, как мне показалось, проглотил. Потом об нос одной из чревовещательных кукол зажег свечу, сунул в огонь палец (который тотчас же превратился в палочку красного сургуча) и запечатал покупку.
– Вам еще понравилось «Исчезающее яйцо», – заметил он, вытаскивая это яйцо из внутреннего кармана моего пальто, и завернул его в бумагу вместе с «Младенцем, плачущим совсем как живой». Я передавал каждый готовый сверток Джипу, а тот крепко прижимал его к груди.
Джип говорил очень мало, но глаза его были красноречивы, красноречивы были его руки, обхватившие подарки. Его душой овладело невыразимое волнение. Поистине это была настоящая магия.
Но тут я вздрогнул, почувствовав, что у меня под шляпой шевелится что-то мягкое, трепетное. Я схватился за шляпу, и голубь с измятыми перьями выпорхнул оттуда, побежал по прилавку и шмыгнул, кажется, в картонную коробку позади тигра из папье-маше.
– Ай, ай, ай! – сказал продавец, ловким движением отбирая у меня головной убор. – Скажите, пожалуйста, эта глупая птица устроила здесь гнездо!..
И он стал трясти мою шляпу, вытряхнул оттуда два или три яйца, мраморный шарик, часы, с полдюжины неизбежных стеклянных шариков и скомканную бумагу, потом еще бумагу, еще и еще, все время распространяясь о том, что очень многие совершенно напрасно чистят свои шляпы только сверху и забывают почистить их внутри, – все это, разумеется, очень вежливо, но не без личных намеков.
– Накапливается целая куча мусора, сэр… Конечно, не у вас одного… Чуть не у каждого покупателя… Чего только люди не носят с собой!
Мятая бумага росла, и вздымалась на прилавке все выше и выше, и совсем заслонила его от нас. Только голос его раздавался по-прежнему:
– Никто из нас не знает, что скрывается иногда за благообразной внешностью человека, сэр. Все мы – только одна видимость, только гробы повапленные…
Его голос замер, точь-в-точь как у ваших соседей замер бы граммофон, если бы вы угодили в него ловко брошенным кирпичом, – такое же внезапное молчание. Шуршание бумаги прекратилось, и стало тихо.
– Вам больше не нужна моя шляпа? – спросил я наконец.
Ответа не было.
Я поглядел на Джипа, Джип поглядел на меня, и в волшебных зеркалах отразились наши искаженные лица – загадочные, серьезные, тихие.
– Я думаю, нам пора! – сказал я. – Будьте добры, скажите, сколько с нас следует… Послушайте, – сказал я, повышая голос, – я хочу расплатиться… И, пожалуйста, мою шляпу…
Из-за груды бумаг как будто послышалось сопение.
– Он смеется над нами! – сказал я. – Ну-ка, Джип, поглядим за прилавок.
Мы обошли тигра, качающего головой. И что же? За прилавком никого не оказалось. На полу валялась моя шляпа, а рядом с нею в глубокой задумчивости, съежившись, сидел вислоухий белый кролик – самый обыкновенный, глупейшего вида кролик, как раз такой, какие бывают только у фокусников. Я нагнулся за шляпой – кролик отпрыгнул от меня.
– Папа! – шепнул Джип виновато.
– Что?
– Мне здесь нравится, папа.
«И мне тоже нравилось бы, – подумал я, – если бы этот прилавок не вытянулся вдруг, загораживая нам выход». Я не сказал об этом Джипу.
– Киска! – произнес он и протянул руку к кролику. – Киска, покажи Джипу фокус!
Кролик шмыгнул в дверь, которой я там раньше почему-то не видел, и в ту же минуту оттуда опять показался человек, у которого одно ухо было длиннее другого. Он по-прежнему улыбался, но когда наши глаза встретились, я заметил, что его взгляд выражает не то вызов, не то насмешку.
– Не угодно ли осмотреть нашу выставку, сэр? – как ни в чем не бывало сказал он.
Джип потянул меня за палец. Я взглянул на прилавок, потом на продавца, и глаза наши снова встретились. Я уже начинал думать, что волшебство здесь, пожалуй, слишком уж подлинное.
– К сожалению, у нас не очень много времени, – начал я. Но мы уже находились в другой комнате, где была выставка образцов.
– Все товары у нас одного качества, – сказал продавец, потирая гибкие руки, – самого высшего. Настоящая магия, без обмана, другой не держим! С ручательством… Прошу прощения, сэр!
Я почувствовал, как он отрывает что-то от моего рукава, и, оглянувшись, увидел, что он держит за хвост крошечного красного чертика, а тот извивается, и дергается, и норовит укусить его за руку. Продавец беспечно швырнул его под прилавок. Конечно, чертик был резиновый, но на какое-то мгновение… И держал он его так, как держат в руках какую-нибудь кусачую гадину. Я посмотрел на Джипа, но его взгляд был устремлен на волшебную деревянную лошадку. У меня отлегло от сердца.
– Послушайте, – сказал я продавцу, понижая голос и указывая глазами то на Джипа, то на красного чертика, – надеюсь, у вас не слишком много таких… изделий, не правда ли?
– Совсем не держим! Должно быть, вы занесли его с улицы, – сказал продавец, тоже понизив голос и с еще более ослепительной улыбкой. – Чего только люди не таскают с собой, сами того не зная!
Потом он обратился к Джипу:
– Нравится тебе тут что-нибудь?
Джипу многое нравилось.
С доверчивой почтительностью обратившись к чудесному продавцу, он спросил:
– А эта сабля тоже волшебная?
– Волшебная игрушечная сабля – не гнется, не ломается и не режет пальцев. У кого такая сабля, тот выйдет цел и невредим из любого единоборства с любым врагом не старше восемнадцати лет. От двух с половиной шиллингов до семи с половиной, в зависимости от размера… Эти картонные доспехи предназначены для юных рыцарей и незаменимы в странствиях. Волшебный щит, сапоги-скороходы, шапка-невидимка.
– Ох, папа! – воскликнул Джип.
Я хотел узнать их цену, но продавец не обратил на меня внимания. Теперь он совершенно завладел Джипом. Он оторвал его от моего пальца, углубился в описание своих проклятых товаров, и остановить его было невозможно. Скоро я заметил со смутной тревогой и каким-то чувством, похожим на ревность, что Джип ухватился за его палец, точь-в-точь как обычно хватался за мой. «Конечно, он человек занятный, – думал я, – и у него накоплено много прелюбопытной дряни, но все-таки…»
Я побрел за ними, не говоря ни слова, но зорко присматривая за этим фокусником. В конце концов, Джипу это доставляет удовольствие… И никто не помешает нам уйти, когда вздумается.
Выставка товаров занимала длинную комнату, большая галерея изобиловала всякими колоннами, подпорками, стойками; арки вели в боковые помещения, где болтались без дела и зевали по сторонам приказчики самого странного вида; на каждом шагу нам преграждали путь и сбивали нас с толку разные портьеры и зеркала, так что скоро я потерял ту дверь, в которую мы вошли.
Продавец показал Джипу волшебные поезда, которые двигались без пара и пружины, чуть только вы открывали семафор, а также драгоценные коробки с оловянными солдатиками, которые оживали, как только вы поднимали крышку и произносили… Как передать этот звук, я не знаю, но Джип – у него тонкий слух его матери – тотчас же воспроизвел его.
– Браво! – воскликнул продавец, весьма бесцеремонно бросая оловянных человечков обратно в коробку и передавая ее Джипу. – Ну-ка еще разок!
И Джип в одно мгновение опять воскресил их.
– Вы берете эту коробку? – спросил продавец.
– Мы бы взяли эту коробку, – сказал я, – если только вы уступите нам со скидкой. Иначе нужно быть миллионером…
– Что вы! С удовольствием.
И продавец снова впихнул человечков в коробку, захлопнул крышку, помахал коробкой в воздухе – и тотчас же она оказалась перевязанной бечевкой и обернутой в серую бумагу, а на бумаге появились полный адрес и имя Джипа!
Видя мое изумление, продавец засмеялся.
– У нас настоящее волшебство, – сказал он. – Подделок не держим.
– По-моему, оно даже чересчур настоящее, – отозвался я.
После этого он стал показывать Джипу разные фокусы, необычайные сами по себе, а еще больше – по выполнению. Он объяснял устройство игрушек и выворачивал их наизнанку, и мой милый малыш, страшно серьезный, смотрел и кивал с видом знатока.
Я не мог уследить за ними. «Эй, живо!» – вскрикивал волшебный продавец, и вслед за ним чистый детский голос повторял: «Эй, живо!» Но меня отвлекло другое. Меня стала одолевать вся эта чертовщина. Ею было проникнуто все: пол, потолок, стены, каждый гвоздь, каждый стул. Меня не покидало странное чувство, что стоит мне только отвернуться – и все это запляшет, задвигается, пойдет бесшумно играть у меня за спиной в пятнашки. Карниз извивался, как змея, и лепные маски по углам были, по правде говоря, слишком выразительны для простого гипса.
Внезапно внимание мое привлек один из приказчиков, человек диковинного вида.
Он стоял в стороне и, очевидно, не знал о моем присутствии (мне он был виден не весь: его ноги заслоняла груда игрушек и, кроме того, нас разделяла арка). Он беспечно стоял, прислонясь к столбу и проделывая со своим лицом самые невозможные вещи. Особенно ужасно было то, что он делал со своим носом. И все это с таким видом, будто просто решил поразвлечься от скуки. Сначала у него был коротенький приплюснутый нос, потом нос неожиданно вытянулся, как подзорная труба, а потом стал делаться все тоньше и тоньше и в конце концов превратился в длинный, гибкий красный хлыст… Как в страшном сне! Он размахивал своим носом в разные стороны и забрасывал его вперед, как рыболов забрасывает удочку.
Тут я спохватился, что это зрелище совсем не для Джипа. Я оглянулся и увидел, что все внимание мальчика поглощено продавцом и он не подозревает ничего дурного. Они о чем-то шептались, поглядывая на меня. Джип взобрался на табуретку, а продавец держал в руке что-то вроде огромного барабана.
– Сыграем в прятки, папа! – крикнул Джип. – Тебе водить!
И не успел я вмешаться, как продавец накрыл его большим барабаном.
Я сразу понял, в чем дело.
– Поднимите барабан! – закричал я. – Сию минуту! Вы испугаете ребенка! Поднимите!
Человек с разными ушами беспрекословно повиновался и протянул мне этот большой цилиндр, чтобы я мог вполне убедиться, что он пуст! Но на табуретке тоже не было никого! Мой мальчик бесследно исчез!..
Вам, может быть, знакомо зловещее чувство, которое охватывает вас, словно рука неведомого, и больно сжимает вам сердце! Это чувство сметает куда-то прочь ваше обычное «я», вы сразу напрягаетесь, становитесь осмотрительны и предприимчивы, вы не медлите, но и не торопитесь, гнев и страх исчезают. Так было со мной.
Я подошел к ухмыляющемуся продавцу и опрокинул табуретку ударом ноги.
– Оставьте эти шутки, – сказал я. – Где мой мальчик?
– Вы сами видите, – сказал он, показывая мне пустой барабан, – у нас никакого обмана…
Я протянул руку, чтобы схватить его за шиворот, но он, ловко извернувшись, ускользнул от меня. Я опять бросился на него, но он опять увильнул и распахнул какую-то дверь.
– Стой! – крикнул я.
Он убежал со смехом, я ринулся за ним и со всего размаху вылетел… во тьму.
Хлоп!
– Фу-ты! Я вас и не заметил, сэр!
Я был на Риджент-стрит и столкнулся с каким-то очень почтенным рабочим. А невдалеке от меня, немного растерянный, стоял Джип. Я кое-как извинился, и Джип с ясной улыбкой подбежал ко мне, как будто только что на одну секунду потерял меня из виду.
В руках у него было четыре пакета!
Он тотчас же завладел моим пальцем.
Сначала я не знал, что подумать. Я обернулся, чтобы увидеть дверь волшебной лавки, но ее нигде не было. Ни лавки, ни двери – ничего! Самый обыкновенный простенок между магазином, где продаются картины, и окном с цыплятами…
Я сделал единственное, что было возможно в таком положении: встал на краю тротуара и помахал зонтиком, подзывая кеб.
– В карете! – восторженно воскликнул Джип. Он не ждал этой дополнительной радости.
Я усадил Джипа, не без труда вспомнил свой адрес и сел сам. Тут я почувствовал что-то необычное у себя в кармане и вынул оттуда стеклянный шарик. С негодованием я бросил его на мостовую.
Джип не сказал ни слова.
Некоторое время мы оба молчали.
– Папа! – сказал наконец Джип. – Это была хорошая лавка!
Тут я впервые задумался, как же он воспринял все это приключение. Он оказался совершенно цел и невредим – это главное. Он не был напуган, он не был расстроен, он просто был страшно доволен тем, как провел день, и к тому же у него в руках было четыре пакета.
Черт возьми! Что могло там быть?
– Гм! – сказал я. – Маленьким детям нельзя каждый день ходить в такие лавки!
Он принял эти слова со свойственным ему стоицизмом, и на минуту я даже пожалел, что я его отец, а не мать, и не могу тут же, coram publico[2] расцеловать его. «В конце концов, – подумал я, – не так уж все это страшно».
Но окончательно утвердился я в этом мнении, только когда мы распаковали наши свертки. В трех оказались коробки с обыкновенными, но такими замечательными оловянными солдатиками, что Джип совершенно забыл о тех «Настоящих волшебных солдатах», которых он видел в лавке, а в четвертом свертке был котенок – маленький белый живой котенок, очень веселый и с прекрасным аппетитом.
Я рассматривал содержимое пакетов с облегчением, но все-таки еще с опаской. Проторчал я в детской не знаю сколько времени…
Это случилось шесть месяцев тому назад. И теперь я начинаю думать, что никакой беды не произошло. В котенке оказалось не больше волшебства, чем во всех других котятах. Солдаты оказались такими стойкими, что ими был бы доволен любой полковник. Что же касается Джипа…
Чуткие родители согласятся, что с ним я должен был соблюдать особенную осторожность.
Но недавно я все же отважился на серьезный шаг.
Я спросил:
– А что, Джип, если бы твои солдаты вдруг ожили и пошли маршировать?
– Мои солдаты живые, – сказав Джип. – Стоит мне только сказать одно словечко, когда я открываю коробку.
– И они маршируют?
– Еще бы! Иначе за что их и любить!
Я не высказал неуместного удивления и попробовал несколько раз, чуть только он возьмется за своих солдатиков, неожиданно войти к нему в комнату. Но никаких признаков волшебного поведения я до сих пор за ними не заметил. Так что трудно сказать, прав ли Джип или нет.
Еще один вопрос: о деньгах. У меня неизлечимая привычка всегда платить по счетам. Я исходил вдоль и поперек всю Риджент-стрит, но не нашел той лавки. Тем не менее я склонен думать, что в этом деле честь моя не пострадала: ведь раз этим людям – кто бы они ни были – известен адрес Джипа, они могут в любое время явиться ко мне и получить по счету.
Перевод К. Чуковского
За триста с лишним миль от Чимборасо, за сто миль от снегов Котопахи, в самой глуши Эквадорских Анд, отрезанная от мира человеческого, лежит таинственная горная долина – Страна слепых. Много лет назад долина эта была еще настолько открыта для мира, что люди все же могли страшными ущельями, по ледяным тропам проникать на ее плоские луга. И вот пришли туда люди – две-три семьи перуанских метисов, бежавших от жадности и тирании жестокого испанского наместника. Потом произошло страшное извержение Миндобамбы, когда семнадцать суток в Квито стояла ночь, и вода в Ягвачи превратилась в кипяток, и до самого Гваякиля вся рыба, всплыв, перемерла. По тихоокеанским склонам шли обвалы, быстрое таяние и внезапные наводнения, и целый гребень древнего Арауканского хребта пополз, обрушился с громом и навсегда отрезал для исследователя путь в Страну слепых. Но одного из тех первых поселенцев землетрясение захватило по эту сторону ущелья, и пришлось ему – хочешь не хочешь – забыть жену и ребенка, и всех друзей, и все свое добро, оставленное там в горах, и начать жизнь сызнова в низине. Он начал ее сызнова, но не было ему удачи, его постигла слепота, и умер он, сосланный в рудники. Но из его рассказов родилась легенда, которая в Андах живет и поныне.
Он рассказывал, почему отважился уйти из надежного приюта, куда еще ребенком его привезли привязанным к ламе между двух большущих тюков с пожитками. В долине, говорил он, было все, чего может желать человек: пресная вода, пастбища и ровный климат, склоны тучного чернозема, заросли кустарника, дающего вкусные плоды, а большой сосновый бор на одном из склонов высоко в горах задерживал лавины. С трех сторон серо-зеленые каменные утесы поднимали ввысь свои головы, покрытые снеговыми шапками. Но ледники не доходили сюда, протекая мимо по дальним склонам, и только время от времени скатывались на края долины большие глыбы льда. Там никогда не бывало ни дождя, ни снега, но бесчисленные родники позволяли провести орошение по всей долине и превратить ее в сплошное, богатое кормом пастбище. Поселенцам, что и говорить, жилось привольно. Их скот тучнел и множился. Одно только омрачало их счастье. Но и этого одного было довольно, чтобы отравить горечью их дни. Странная болезнь напала на них, поражая слепотой всех новорожденных, а иногда и детей постарше. И вот, чтобы найти отворотное средство от проклятия слепоты, человек с великим трудом и опасностями вернулся по ущелью в низину. В те времена люди в подобных случаях думали не о микробах и заразе, а только о грехах; и ему казалось, что причина напасти – небрежение к религии: среди поселенцев не было священника, и они не позаботились, придя в долину, тотчас воздвигнуть церковь. Он надумал построить в долине церковь, настоящую – недорогую, но красивую церковь. Ему нужны были мощи и разные другие предметы культа – священные реликвии, таинственные образки, листки с молитвами. В котомке у него лежал слиток местного серебра, происхождение которого он отказывался объяснить. Настойчиво – с настойчивостью неумелого лгуна – он твердил, что серебра в долине нет. По его словам, поселенцы, не нуждаясь в подобных ценностях, собрали там у себя все свои деньги и украшения и переплавили их в этот слиток, чтобы купить на него Божью помощь от своей болезни. Я так и вижу его, молодого подслеповатого горца, как незадолго перед катастрофой он стоит, опаленный солнцем, исхудалый, взволнованный, незнакомый с нравами жителей низины, и, лихорадочно комкая шляпу, рассказывает свою историю какому-нибудь остроглазому, жадно слушающему священнику. Представляю себе, как поспешил он потом домой с чудотворными средствами против их беды, и в каком безграничном отчаянии он стоял перед нагромождением скал, возникшим на том месте, где еще недавно был вход в ущелье. Но история его дальнейших злоключений для меня потеряна. Знаю только о его недоброй смерти через несколько лет. Жалким скитальцем пошел он прочь от места обвала. Ручей, некогда проложивший в скалах то ущелье, теперь выбивается из жерла горной пещеры, а предание, порожденное скупым, бессвязным рассказом пришельца, выросло в легенду о слепом народе где-то «там за горами», которую можно услышать и сегодня.
А среди малочисленного населения отрезанной с тех пор и забытой долины болезнь шла своим ходом. Старики, полуослепшие, двигались ощупью, молодые видели смутно, дети же, рождавшиеся у них, не видели вовсе. Но жизнь была легка в этой отгороженной снегами, потерянной для остального мира котловине, где не было ни шипов, ни колючек, ни вредных насекомых и не было других животных, кроме смирных лам, которых жители привели с собой, перегнали через крутые перевалы, протащили по руслам зажатых ущельями рек. Зрение меркло так постепенно, что люди едва замечали его утрату. Незрячих детей водили туда и сюда по долине, пока они не ознакомятся с ней в совершенстве, и когда зрение среди них угасло окончательно, люди все же продолжали жить. Они успели даже приспособиться в слепоте к употреблению огня, который старательно разводился в каменных очагах. Поначалу это было первобытное племя, не знавшее грамоты, лишь слегка затронутое испанской культурой, но сохранившее притом некоторые традиции искусства и ремесел древнего Перу да кое-что от его ныне утраченной философии. Поколение сменялось поколением. Они многое забыли, многое изобрели. Предание о широком мире, откуда они пришли, приобрело для них туманную окраску мифа. Во всем, кроме зрения, они были сильными, способными людьми, и волей случая и наследственности среди них родился человек, обладавший самобытным умом и даром убеждения, а за этим и еще один. Оба оставили по себе след. Маленькая община росла численно и духовно, разрешая встававшие перед нею по мере ее роста социальные и экономические задачи. Поколение сменялось поколением, поколение поколением. Настал час, когда в пятнадцатом поколении родился на свет младенец, явившийся прямым потомком того человека, который ушел из долины со слитком серебра искать помощи у Бога и не вернулся. И тут случилось, что явился в общину человек из внешнего мира. Об этом-то человеке и пойдет рассказ.
Он был уроженец горной страны по соседству с Квито, человек, ходивший в море и повидавший свет, по-своему начитанный, ловкий, предприимчивый. Группа англичан, приехавшая в Эквадор лазать по горам, взяла его взамен одного из трех своих проводников-швейцарцев, который заболел. Он лазал с ними повсюду, но при попытке взойти на Параскотопетл – Маттергорн Анд – исчез и считался погибшим. Этот случай описывался уже не раз. Лучше всех излагает его Пойнтер. Он рассказывает, как их небольшая партия одолела тяжелый, почти вертикальный подъем до подножия последней, самой неприступной кручи; как они на ночь собрали шалаш в снегу на узкой площадке уступа, и дальше с подлинно драматической силой передает, как вскоре они обнаружили, что Нуньеса нет. Они кричали, но ответа не было; кричали и свистели и больше не спали в ту ночь.
Когда рассвело, они увидели следы его падения. Наверное, он и вскрикнуть не успел. Он сорвался с восточного, неисследованного, склона горы. С большой высоты он свалился на крутой снежный откос и пробороздил по нему колею, катясь со снежным обвалом. Борозда вела прямо к краю стремнины, а там все уже терялось в бездне. Далеко-далеко внизу виднелись сквозь туман деревья, росшие в узкой, зажатой между гор долине – утерянной Стране слепых. Но путешественники не могли знать, что то была утерянная для людей Страна слепых, не могли отличить ее от любой узкой горной долины. Потрясенные несчастьем, они не решились в тот день завершить восхождение, а после Пойнтер был призван на войну, так и не успев повторить попытку. До сего дня Параскотопетл вздымает свой непокоренный гребень и шалаш Пойнтера, никем не навещаемый, ветшает в снегах.
А упавший остался жив.
От края склона он пролетел вниз тысячу футов и в снежном облаке упал на снежный склон, еще более крутой, чем верхний. Он кубарем катился вниз по этому склону, оглушенный и без чувств, но ни одна кость в его теле не была повреждена. Дальше пошли более отлогие склоны, и по ним он скатился до самого конца и лежал, погребенный в мягких белых сугробах, сорвавшихся с ним вместе и спасших его. Когда он очнулся, у него было смутное ощущение, будто он лежит больной в кровати; потом с сообразительностью горца он осознал свое положение и начал разгребать снег вокруг себя. Он отдыхал и опять принимался за работу, пока не увидел звезды. Лежа навзничь, он спрашивал себя, где он и что с ним случилось. Он ощупал себя всего и обнаружил, что на одежде у него не хватает многих пуговиц, а куртка завернулась ему на голову. В кармане не оказалось ножа, и шапка пропала, хотя была завязана под подбородком. Он вспомнил, что пошел поискать камней, чтобы поднять повыше стены шалаша. Его топорик исчез.
Он понял, что упал, и, подняв глаза, проследил головокружительный путь своего падения, показавшийся еще страшнее в призрачном свете восходящего месяца. Какое-то время он тупо глядел на белесый вздымавшийся перед ним утес, что с каждой минутой вырастал все выше из отступающей, как морской отлив, темноты. Очарованный фантастической, таинственной красотой зрелища, он лежал притихший. Потом забился в припадке рыданий и смеха.
Прошло немало времени, когда он увидел, что лежит у нижней границы снегов. Пробежав взглядом по отлогому откосу, залитому лунным светом, он различил как будто темную, усеянную валунами луговину. Превозмогая боль во всех суставах, он принудил себя встать на ноги; пробился кое-как сквозь сугробы рыхлого снега и долго потом спускался вниз, пока не вышел на ту луговину. Здесь он лег, или скорей упал, у валуна, жадно глотнул из фляги, сохранившейся во внутреннем кармане, и сразу заснул.
Его разбудило пение птиц на деревьях далеко внизу.
Он привстал и увидел, что находится на небольшом пригорке у подножия высоченной кручи, прорезанной ложбиной, по которой он скатился сюда в своем сугробе. Напротив уходила в небо другая такая же стена. Ущелье между обеими кручами тянулось на запад и восток и было залито утренним светом, который озарил на западе громаду рухнувшей горы, закрывшей вход в ущелье. Внизу под ногами открывалась пропасть, но в ложбине, пониже границы снегов, Нуньес нашел тесную расселину, где по стенам струилась вода. Что ж, нужно отважиться! Спуск оказался легче, чем можно было ожидать, и вывел на другой одинокий пригорок; а дальше, за скалистым кряжем, начинался поросший лесом склон. Нуньес осмотрелся и решил пойти вверх по ущелью, так как увидел, что там оно расширяется, переходя в зеленую луговину, посреди которой он теперь ясно различал скопление каменных хибарок необычного вида. Местами приходилось ползти по обрыву на четвереньках. Через некоторое время восходившее солнце перестало бить в ущелье, птичий щебет умолк, и воздух вокруг стал холоден и темен. Зато далекая луговина со своими домиками становилась все светлей. Он взобрался на утес и заметил среди скал – так как был наблюдателен – папоротник невиданной породы, который как бы протягивал из щелей цепкие ярко-зеленые руки. Он сорвал несколько листьев, пожевал их черешки и решил, что они съедобны.
К полудню он выбрался наконец из ущелья на луговину и солнечный свет. Тело одеревенело от усталости. Он сел в тени утеса, наполнил флягу водой из родника, выпил все до капли и лег отдохнуть, перед тем как двинуться дальше, к домам.
Вид у них был странный, да и вся долина, чем дольше он на нее смотрел, тем она ему казалась удивительней. Большую часть ее занимал сочный, зеленый луг, точно звездами, усыпанный красивыми цветами и обводненный с редкой заботливостью; покосы, видимо, производились здесь планомерно по участкам. Вверху долину огораживали стена и что-то очень похожее на окружной оросительный канал, от которого по лугу разбегались питающие растительность ручейки, а за каналом, выше по склонам, щипали скудную траву стада лам. Здесь и там к стене лепились навесы, как видно, служившие кровом или же местом кормежки для тех же лам. Оросительные ручьи стекались к главному каналу в середине долины, обнесенному с обеих сторон оградой по пояс вышиной, что придавало глухому поселку странно городской вид, и это впечатление еще усиливалось оттого, что во все концы в строгом порядке расходилось множество мощенных черным и белым камнем дорожек, и вдоль каждой дорожки тянулась еще какая-то забавная закраина. Дома в деревне не жались в кучу, как в знакомых ему горных деревнях, – они выстроились двумя сплошными рядами по обеим сторонам центральной улицы, на диво чистой; тут и там их пестрые фасады прорезала дверь, но не видно было ни одного окна. Фасады были пестры какой-то беспорядочной пестротой – обмазаны цементом, где серым, где бурым, где аспидно-черным или исчерна-коричневым. Эта нелепая обмазка и вызвала у Нуньеса впервые мысль о слепоте. «Ну и наляпал человек! – подумал он. – Верно, был слеп, как летучая мышь».
Он спустился по круче и подошел к стене и каналу, окружавшим долину, к тому месту, где канал каскадом тонких колеблющихся струй выбрасывал избыток воды в глубину ущелья. Теперь Нуньес видел в дальнем конце луговины много мужчин и женщин, которые сидели на стогах скошенной травы, как будто отдыхая; поближе к деревне – ватагу валявшихся на земле детей, а еще ближе, совсем неподалеку, – трех мужчин, несших на коромыслах ведра по дорожке, что тянулась от окружной стены к домам. На всех троих была одежда из шерсти ламы, кожаные башмаки и пояса, а на головах – суконные шапки с длинными наушниками. Они шли гуськом, медленным шагом и позевывая на ходу, точно не спали всю ночь. Их осанка была так степенна и такой у них был успокоительно-благополучный и благопристойный вид, что Нуньес после минутного колебания выпрямился на своем уступе во весь рост, стал на самом видном месте и крикнул что есть силы. Эхо раскатилось по долине.
Трое остановились и завертели головами, как будто озираясь. Они поворачивали лица то в одну, то в другую сторону, а Нуньес махал во всю мочь руками. Но сколько он ни махал, те как будто не видели его и лишь какое-то время спустя двинулись к горам, забирая правее, чем нужно, и что-то крикнули словно бы в ответ. Нуньес опять закричал, потом еще раз, вновь замахал руками – все так же безуспешно, и тут вторично слово «слепой» всплыло в его сознании. «Дурачье! Слепые они, что ли?» – подумал он.
Когда наконец, накричавшись и позлившись вдосталь, Нуньес пересек по мостику канал, отыскал в стене калитку и подошел к ним, он убедился, что они и в самом деле слепы. Он решил, что попал в Страну слепых, о которой рассказывает предание. Эта уверенность возникла у него вместе с предчувствием небывалого и завидного приключения. Трое стояли бок о бок, не глядя на него, и настороженно прислушивались к незнакомым шагам. Они жались друг к другу, словно боялись чего-то, и Нуньес увидел, что веки у них опущены и запали, как если бы глазные яблоки под ними ссохлись. Что-то сродное с благоговейным страхом проступило на их лицах.
– Человек, – сказал один на языке, в котором Нуньес едва узнал испанский. – Это человек – человек или дух, вышедший из скал.
А Нуньес подходил уверенным шагом юноши, вступающего в жизнь. Старые сказания о затерянной долине и Стране слепых всплывали в памяти, и в мысли вплеталась припевом старая пословица: «В Стране слепых и кривой – король».
Очень учтиво он поздоровался со слепцами. Он с ними говорил, а сам глядел в оба.
– Откуда он, брат Педро? – спросил один.
– Вышел из скал.
– Я пришел из-за гор, – сказал Нуньес, – из страны за горами, где люди – зрячие. Из окрестностей Боготы – города, где живут сто тысяч человек и который тянется так далеко, что глазу не видно докуда.
«Не видно, – повторил про себя Педро. – Глазу не видно…»
– Из скал, – подхватил второй слепец. – Он вышел из скал.
Их одежда, примечал Нуньес, была странного покроя, и у каждого сшита по-своему.
Они напугали его, двинувшись разом навстречу, каждый с вытянутой вперед рукой. Он отпрянул на шаг от этих наведенных на него растопыренных пальцев.
– Поди сюда, – сказал третий слепец, подступив к нему также на шаг, и мягко обхватил его.
Слепцы держали Нуньеса. Ни слова не добавив, они принялись его ощупывать.
– Осторожно! – крикнул он, когда ему ткнули пальцем в глаз. И убедился, что глаз с трепещущими веками кажется им странным. Они ощупали его глаза вторично.
– Странное создание, Корреа, – сказал тот, кого звали Педро. – Какой у него жесткий волос! Как у ламы.
– Шершав, как скалы, породившие его, – сказал Корреа, ощупывая небритый подбородок Нуньеса мягкой, чуть влажной рукой. – Может быть, потом он станет глаже.
Нуньес слегка противился обследованию, но слепые цепко держали его.
– Осторожно! – повторил он.
– Говорит, – сказал третий. – Это, конечно, человек.
– Ух! – крикнул Педро, ощупывая его жесткую куртку.
– Итак, ты пришел в мир? – спросил Педро.
– Пришел из мира. Из-за гор и ледников; прямо из-за тех вершин, что на полдороге к солнцу. Из большого, большого мира, который простерся на двенадцать дней пути, до самого моря.
Они как будто и не слушали его.
– Наши отцы говорили нам, что человек может быть сотворен силами природы, – сказал Корреа, – теплом, влагой и гниением, да, гниением.
– Отведем-ка его к старейшинам, – предложил Педро.
– Сперва покричим, – сказал Корреа, – чтобы нам не напугать детей. Ведь это – чудище.
Они стали кричать, а Педро пошел впереди и взял Нуньеса за руку, чтобы повести его к домам. Нуньес отдернул руку.
– Я же зрячий, – сказал он.
– Зрячий? – переспросил Корреа.
– Да, зрячий, – повторил Нуньес, обернувшись к нему, и споткнулся о ведро Педро.
– Его чувства еще несовершенны, – сказал третий слепец. – Он спотыкается и говорит бессмысленные слова. Веди его за руку.
– Как хотите, – сказал Нуньес и, усмехнувшись, дал себя вести.
Как видно, они ничего не знают о зрении. Ладно, придет время, он им покажет, что это за штука!
Послышались возгласы, и он увидел толпу, coбравшуюся на главной улице.
Эта первая встреча с населением Страны слепых обернулась для него тяжелым испытанием нервов и терпения – куда более тяжелым, чем он ожидал. Деревня была больше, чем казалась ему издалека, а штукатурка домов выглядела еще несуразней. Дети, мужчины и женщины (он с удовольствием отметил, что иные женщины и девушки были хороши собой, хотя глаза и у них были закрыты и вдавлены) обступили его толпой, хватали, ощупывали мягкими ладонями, обнюхивали, вслушивались в каждое слово. Все же многие девушки и дети пугливо сторонились его. Да и в самом деле голос его был резок и груб по сравнению с певучими голосами слепцов. Его совсем затолкали. Три его проводника с видом собственников не отступали от него ни на шаг и беспрестанно повторяли:
– Дикий человек со скал.
– Богота, – сказал он. – Богота. За горным хребтом.
– Дикий человек говорит дикие слова, – пояснил Педро. – Вы когда-нибудь слышали такое слово – «богота»? Его ум еще не сложился. Речь у него только в зачатке.
Маленький мальчик ущипнул его за руку.
– Богота, – передразнил он.
– Да. Город, не то что ваша деревня… Я пришел из большого мира, где у людей есть глаза, где люди видят.
– Его имя – Богота, – решили слепцы.
– Он спотыкается, – сказал Корреа. – Когда мы шли сюда, он два раза споткнулся.
– Отведем его к старейшинам.
Его вдруг втолкнули через дверь в комнату, где было темным-темно и только в дальнем углу слабо тлел огонь. Толпа ввалилась за ним, закрыв последний доступ дневному свету, и Нуньес с разлету грохнулся прямо на вытянутые ноги сидящего человека. Еще кого-то его вскинутая рука, когда он падал, задела по лицу. Он ощутил под ладонью что-то мягкое, услышал сердитый окрик и с минуту отбивался от множества схвативших его рук. Получилась какая-то односторонняя драка. Он понял свое положение и затих.
– Я упал, – сказал он. – У вас тут не видно ни зги.
Наступило молчание, как будто невидимые люди вокруг старались понять его слова. Потом послышался голос Корреа:
– Он лишь недавно сотворен, он спотыкается при ходьбе и пересыпает свою речь бессмысленными словами.
Другие тоже что-то о нем говорили, но он не мог все как следует расслышать и понять.
– Можно мне сесть? – спросил он, воспользовавшись минутным молчанием. – Я больше не буду отбиваться.
Они посовещались и позволили ему сесть.
Чей-то старческий голос стал допрашивать его, и Нуньес попробовал рассказать о большом мире, откуда он упал к ним, о небе, о горах, о зрении и других подобных чудесах – рассказать о них этим старейшинам, сидевшим во мраке в Стране слепых. Но что он им ни говорил, они ничему не верили и ничего не понимали. Этого он не ожидал. Они даже не понимали иных его слов. На веку четырнадцати поколений эти люди были слепы и отрезаны от зрячего мира. Все слова, относившиеся к зрению, стерлись для них или изменили смысл; стерлись предания о внешнем мире, превратившись в детскую сказку, и больше их не тревожило, что там делается, за скалистыми кручами, над их окружной стеной. Появлялись среди них слепые мудрецы, пересматривали обрывки верований и преданий, донесенных ими от зрячего прошлого, и признали это все праздными домыслами и заменили их новыми, более трезвыми толкованиями. Многое в их образных представлениях отмерло вместе с глазами, и они составили себе новые представления, подсказанные все истончавшимися слухом и осязанием. Нуньес постепенно это понял; ожидание, что слепцы в изумлении склонятся перед его происхождением и дарованиями, не оправдалось; и когда его жалкая попытка объяснить им, что такое зрение, была отвергнута, сочтена за бессвязный бред вновь сотворенного человека, старающегося описать свои неясные ощущения, он сдался и, подавленный, слушал их назидания. И вот старейший среди слепых стал раскрывать ему тайны жизни, философии и веры. Он говорил, что мир (то есть их долина) был сначала пустой ямой в скалах, а потом возникли сперва неодушевленные предметы, лишенные дара осязания, и ламы, и еще другие существа, у которых очень мало разума; затем появились люди и, наконец, ангелы, которых можно слышать, когда они поют и шелестят над головами, но которых коснуться нельзя. Последнее сильно озадачило Нуньеса, пока он не сообразил, что речь идет о птицах.
Дальше он поведал Нуньесу, как время разделилось на жаркое и холодное (у слепых это значило день и ночь), и объяснил, что в жаркое время положено спать, а работать надо, пока холодно. И что сейчас весь город слепых не спит только по случаю его, Нуньеса, появления. Он сказал, что Нуньес, несомненно, для того и создан, чтобы учиться приобретенной ими мудрости и служить ей, и что, несмотря на недоразвитость своего ума и неловкость движений, он должен мужаться и упорствовать в учении, – и эти слова все столпившиеся у входа встретили одобрительным ропотом. Потом он сказал, что ночь (слепые день называли ночью) давно наступила и всем надлежит вернуться ко сну. Он спросил, умеет ли Нуньес спать, и Нуньес ответил, что умеет, но что перед сном он должен поесть.
Ему принесли пищу – кружку молока ламы и ломоть грубого хлеба с солью – и отвели его в укромное место, где бы он мог поесть неслышно для других и потом соснуть до той поры, когда прохлада горного вечера поднимет всех для их нового дня. Но Нуньес не спал.
Вместо этого он сидел, где его оставили, и, вытянув усталые ноги, перебирал в памяти все неожиданности, сопровождавшие его приход в долину. Он нет-нет, а рассмеется то добродушно, то негодующе.
– «Ум еще не сложился», – повторял он. – «Не развиты чувства!» Им и в голову не приходит, что они оскорбили своего ниспосланного свыше короля и властителя. Вижу, придется мне их образумить. Только нужно подумать… Подумать!
Солнце склонилось к закату, а он все еще раздумывал.
Нуньес всегда умел почувствовать красоту, и когда он смотрел на охваченные заревом снежные склоны и ледники, замыкавшие со всех сторон долину, ему казалось, что ничего прекраснее он никогда не видел. От зрелища этой недоступной красоты он перевел взгляд на деревню и орошенные поля, утопавшие в сумраке, и вдруг им овладело волнение, и он от всего сердца стал благодарить судьбу, что она наделила его даром зрения.
– Го-го! Сюда, Богота, сюда! – услышал он голос из деревни.
Он встал ухмыляясь. Сейчас он раз навсегда покажет этим людям, что значит для человека зрение. Они его станут искать и не найдут.
– Что же ты не идешь, Богота! – сказал голос.
Он беззвучно засмеялся и, крадучись, сделал два шага вбок от дорожки.
– Не топчи траву, Богота: этого делать нельзя.
Нуньес сам еле слышал шорох своих шагов. Он остановился в изумлении.
Человек, чей голос его кликал, бежал по черно-пегой мощеной дорожке прямо на него.
Нуньес опять вступил на дорожку.
– Вот я, – сказал он.
– Почему ты не шел на зов? – спросил слепец. – Что, тебя надо водить, как младенца? Ты разве не слышишь дороги, когда идешь?
Нуньес засмеялся.
– Я вижу ее, – сказал он.
– Нет такого слова «вижу», – сказал слепой, помолчав. – Брось свой вздор и ступай за мной на звук шагов.
Нуньес, досадуя, пошел за ним.
– Придет и мое время, – сказал он.
– Ты научишься, – ответил слепой. – В мире многому надо учиться.
– А ты слыхал поговорку: «В Стране слепых и кривой – король»?
– Что значит слепой? – небрежно бросил через плечо слепец.
Прошло четыре дня, и пятый застал короля слепых все еще скрывающимся среди своих подданных в обличье неуклюжего, никчемного чужака.
Провозгласить себя королем, увидел он, куда труднее, чем он предполагал, и пока что, обдумывая свой coup d’etat[3], он делал, что ему приказывали, и учился порядкам и обычаям Страны слепых. Он нашел, что работать и гулять по ночам очень неудобно, и решил, что это он изменит в первую очередь.
Народ слепцов вел простую, трудовую жизнь, добродетельную и счастливую, если видеть добродетели и счастье в том, что обычно разумеют люди под этими словами. Они трудились, но не слишком обременяя себя работой; у них было вдоволь и пищи и одежды; были дни и месяцы отдыха; они охотно занимались музыкой и пением; познали любовь и рождали детей.
Удивительно, как уверенно и точно двигались они в своем упорядоченном мире. Все было здесь приспособлено к их нуждам, каждая из дорожек, расходившихся лучами по долине, шла под определенным углом к остальным и распознавалась по особой нарезке на закраине. Все препятствия, все неровности на дорожках и лугах были давно удалены, все навыки и весь уклад слепых, естественно, возникали из тех или иных потребностей. Чувства их чудесно изощрились, за пятнадцать шагов они улавливали и различали малейшее движение человека, даже слышали биение его сердца. Интонация давно заменила для них выражение лица, касание заменило жест. Мотыгой, лопатой и граблями они работали свободно и уверенно, как заправские садовники. Их обоняние было чрезвычайно тонко; они по-собачьи, чутьем распознавали индивидуальные различия; уверенно и ловко справлялись с уходом за ламами, которые жили в скалах наверху и доверчиво подходили к ограде, чтобы получить корм или укрыться под кровом. Но как легки и свободны могут быть движения слепого, это Нуньес узнал лишь тогда, когда вздумал наконец утвердить свою волю.
Он поднял мятеж только после бесплодных попыток действовать убеждением.
Сперва он пробовал от случая к случаю заговаривать с ними о зрении.
– Смотрите, люди, – говорил он. – Многое во мне вам непонятно.
Случалось иногда, двое-трое из них слушали его: сидели с умным видом, наклонив голову и наставив ухо, а он всячески старался объяснить им, что значит «видеть». Среди слушавших его была девушка с менее красными и запавшими веками, чем у других. Так и чудилось, что у нее за веками прячутся глаза, и ее-то в особенности надеялся он убедить. Он говорил о радостях зрения, о том, как прекрасны, когда на них глядишь, горы и небо, и утренняя заря, а те слушали с недоверчивой усмешкой, переходившей тотчас же в осуждение. Ему отвечали, что нет никаких гор, а у конца скал, где ламы щиплют траву, лежит конец мира: туда упирается дырявая крыша мироздания, с которой падают роса и лавины. Когда же он упорно твердил, что у мира нет ни конца, ни крыши, что конец и крыша – лишь выдумка слепых, ему отвечали, что мысли его порочны. Насколько он умел описать им небо с облаками и звездами, оно представлялось им нелепой и страшной пустотой. Как могла она заменить ту гладкую крышу мироздания, о которой говорила их религия! Они свято верили, что эта дырявая крыша восхитительно гладка на ощупь. Он понял, что его объяснения оскорбляют их, и, отказавшись от такого подхода, попробовал показать им практическую ценность зрения. Как-то утром он увидел, что Педро по дороге, называвшейся Семнадцатой, направляется к центральным домам, увидел издалека, когда слепые еще не могли услышать или учуять идущего, и сказал им: «Скоро Педро будет здесь». Один старик возразил, что Педро нечего делать на Семнадцатой дороге, и тут, как бы в подтверждение его слов, Педро свернул на Десятую и торопливо зашагал обратно к окружной стене. А Нуньеса подняли на смех, когда Педро так и не пришел, и после, когда он, желая оправдаться, насел на Педро с расспросами, тот все отрицал, смеясь над ним в лицо, и с тех пор они стали врагами.
Потом он уговорил их, чтобы ему позволили пройти лугами весь долгий путь по отлогому склону до самой стены и чтоб его сопровождал один из них, а он станет описывать ему все, что делается в деревне промеж домов. Он видел, как кое-кто входил и выходил, но то, что они полагали значительным, происходило внутри или позади безоконных домов деревни – все то, что они сами приметили для проверки, – а этого он как раз не видел и не смог описать им. И вот, когда он потерпел поражение, а те не удержались и высмеяли его, он и решил обратиться к силе. Ему пришло на ум схватить лопату, повалить двух-трех из них на землю и в честной борьбе доказать им превосходство зрячего. Следуя своему решению, он уже схватил лопату, и тут он узнал о себе нечто для него самого неожиданное: что он просто не может хладнокровно ударить слепого.
Он остановился в нерешительности и понял: от слепых не укрылось, что он схватил лопату. Они все настороженно склонили головы набок и, наставив ухо, ждали, что он сделает дальше.
– Положи лопату, – сказал один.
И Нуньеса охватило чувство беспомощности и отвращения. Он едва не послушался.
Тогда он отшвырнул одного прямо к стене дома и стремглав бросился мимо него вон из деревни.
Он пересек луг, оставив за собою полосу примятой травы, и присел на закраину одной из бесчисленных дорожек. Он ощущал некоторый душевный подъем, как каждый в начале борьбы, но больше смущение. Он начал сознавать, что с людьми более низкого духовного уровня, нежели ты сам, даже и бороться успешно нельзя. Он увидел издали, что по всей улице мужчины выходят из домов, вооруженные лопатами и кольями, и движутся на него широким строем по нескольким дорожкам сразу. Подвигались они медленно, переговариваясь между собой, и много раз весь отряд вдруг останавливался, слепые поводили носами и прислушивались. Когда Нуньес увидел это в первый раз, он рассмеялся. Но потом ему стало не до смеха.
Один слепец учуял его след на сырой траве и пошел по нему, нагибаясь и на ощупь проверяя дорогу.
Минут пять Нуньес следил за медленным продвижением отряда; затем его поначалу смутное желание что-то выкинуть и показать себя перешло в исступление. Он вскочил, сделал несколько шагов к окружной стене, повернулся и прошел немного назад. Те выстроились в полукруг и замерли, прислушиваясь.
Он тоже остановился, крепко сжав лопату в обеих руках. Не напасть ли на них?
Кровь стучала у него в ушах, отбивая ритм припева: «В Стране слепых и кривой – король».
Напасть на них?
Он оглянулся на высокую неприступную стену позади – неприступную из-за гладкой штукатурки, но всюду прорезанную множеством калиток – и на приближающуюся цепь преследователей. Им на подмогу из деревни выходили теперь и другие.
– Напасть?
– Богота! – крикнул один. – Богота! Где ты?
Он еще крепче сжал лопату и пошел лугами назад к деревне, а слепые, едва он сделал шаг, тотчас двинулись на него.
– Я изобью их, если они меня тронут, – сказал он. – Видит Бог, изобью!
И он громко закричал:
– Эй вы, я буду делать у вас в долине все, что захочу! Слышите? Буду делать что хочу и ходить куда хочу!
Они быстро надвигались на него – ощупью, но все же очень быстро. Это было похоже на игру в жмурки, только навыворот: глаза завязаны у всех, кроме одного.
– Держи его! – крикнул кто-то.
Нуньес увидел, что уже охвачен дугой широкого незамкнутого круга преследователей. «Пора! – вдруг почувствовал он. – Нужно действовать решительно и быстро».
– Вы не понимаете! – крикнул он громким голосом, который должен был звучать сильно и властно, а прозвучал надорванно. – Вы слепые, а я зрячий. Оставьте меня!
– Богота! Положи лопату! И не ходи по траве.
Последний приказ, чудовищный в своей вежливой снисходительности, его взорвал.
– Я вас изувечу! – взревел он, захлебываясь от бешенства. – Видит Бог, я изувечу вас! Оставьте меня!
Он побежал, толком не зная, куда бежать. Сперва он побежал от ближайшего к нему слепого, потому что мерзко было бы его ударить. Потом приостановился, сделал рывок, чтоб уйти от их рядов, смыкавшихся все тесней. Метнулся было в промежуток пошире, но двое слепых, сразу учуяв приближение его шагов, устремились друг к другу. Нуньес кинулся вперед, увидел, что сейчас его схватят, и… стукнул лопатой. Послышался глухой звук удара по руке и плечу, человек упал, завопив от боли, – он пробился.
Пробился! Теперь он был опять возле домов, а слепые, размахивая лопатами и кольями, носились взад и вперед с какой-то рассудительной стремительностью. Он услышал за собой шаги, услышал как раз вовремя, чтобы увидеть высокого детину, вынесшегося вперед и метившего в него на слух. Он растерялся, швырнул в противника лопатой, промахнулся на целый ярд, завертелся вьюном и побежал прочь, с воплем шарахнувшись от другого слепца.
Ужас охватил его. В исступлении он кидался туда и сюда, увертывался, когда в том не было нужды, и, торопясь смотреть сразу во все стороны, спотыкался. Была секунда, когда он, споткнувшись, растянулся на земле, и они слышали его падение. Далеко впереди в окружной стене виднелась открытая калитка; это было как просвет в небо. Он кинулся к ней стремглав. Он даже не оглянулся ни разу на преследователей, пока не достиг той калитки. Шатаясь, он прошел по мосту, вскарабкался вверх по скалам, к изумлению и ужасу молодой ламы, которая тотчас ускакала от него, и лег, задыхаясь, наземь. Так окончился его coup d’etat.
Два дня и две ночи он провел за стеной Долины слепых, без пищи и крова и размышляя о полученном им неожиданном уроке. В ходе своих размышлений он не раз со все более горькой иронией повторял неоправдавшуюся пословицу: «В Стране слепых и кривой – король». Он думал больше всего о том, как ему одолеть и покорить народ слепцов, и все ясней понимал, что это для него неосуществимо. У него нет оружия, а добыть его теперь будет очень трудно.
Яд цивилизации проник даже в его родную Боготу, и, отравленный им, Нуньес не мог заставить себя пойти и убить слепого. Конечно, сделай он это, он потом диктовал бы свои условия, грозя народу слепцов поголовным истреблением. Но нельзя же человеку не спать, и рано или поздно, когда он уснет…
Он пробовал также искать пищу там, среди сосен, укрываться под сосновыми ветвями от ночного холода и подумывал, как бы изловчиться и поймать ламу, чтобы затем как-нибудь убить ее – пришибить, что ли, камнем – и получить таким образом хоть мясо. Но ламы, видно, заподозрили в нем врага, глядели на него недоверчивыми карими глазами и плевались, когда он подходил поближе. На третий день у него началась лихорадка, и страх обуял его. В конце концов он приполз к стене Страны слепых с намерением заключить мир. Он полз вдоль канала и звал, пока к воротам не вышли двое слепых. Он вступил с ними в переговоры.
– Я был безумен, – сказал он, – но я только недавно создан.
Это им понравилось.
Он сказал, что стал теперь умнее и раскаивается в своих проступках.
И тут неожиданно для себя он расплакался, потому что был слаб и болен, но они это сочли за добрый знак.
Его спросили, считает ли он по-прежнему, что умеет «видеть».
– Нет, – сказал он. – То было безумие. Это слово ничего не значит, меньше чем ничего.
Его спросили, что у нас над головой.
– На высоте десятью десяти человеческих ростов над миром простирается крыша… каменная крыша, гладкая-прегладкая…
Он опять истерически разрыдался.
– Не спрашивайте больше ни о чем, дайте мне сперва поесть, или я умру.
Он ожидал жестокого наказания, но слепые умели проявить терпимость. Они усмотрели в его мятеже лишь новое доказательство того, что он слабоумный и стоит на низшей ступени развития. Его просто выпороли и велели ему исполнять самую тяжелую черную работу, какая только нашлась, и он, не видя, как иначе заработать свой хлеб, покорно делал, что ему приказывали.
Несколько дней он был болен, и они заботливо ухаживали за ним. Это облегчило ему тяжесть подчинения. Но его заставляли лежать в темноте, что было для него большим лишением. Слепые философы приходили к нему, толковали о низком уровне его развития и так вразумительно укоряли за его сомнения в каменной крышке, закрывающей коробку их вселенной, что он сам едва не стал считать себя жертвой наваждения, не видя над собою этой крышки.
Так Нуньес сделался гражданином Страны слепых. Жители ее уже не сливались для него в однородную массу, а приобрели в его глазах свои индивидуальные особенности, между тем как мир за горами становился все более далеким, нереальным. Здесь, в новой жизни, был его хозяин Якоб – добродушный человек, если его не раздражать. Был племянник Якоба – Педро; и была Медина-Саротэ, младшая дочь Якоба. Ее не слишком ценили в мире слепых, потому что у нее были точеные черты лица и ей недоставало той приятной шелковистой гладкости, которая составляет для слепого идеал женской красоты. Но Нуньес с самого начала находил ее красивой, а теперь считал красивейшим созданием на земле. Ее сомкнутые веки не были вдавлены и красны, как у остальных в долине, – казалось, они могут в любое мгновение вновь подняться; и у нее были длинные ресницы, что считалось здесь уродливым. Голос ее, густой и звучный, не удовлетворял взыскательному слуху жителей долины. Вот почему у нее не было жениха.
Наступила пора, когда Нуньес стал думать, что, получи он ее в жены, он безропотно остался бы в долине до конца своих дней.
Он наблюдал за ней, искал случая оказать ей небольшую услугу; и вот он заметил, что и она тянется к нему. Как-то на праздничном собрании они сидели рядом при слабом свете звезд и слушали тихую музыку. Он коснулся ее пальцев и осмелился их пожать. Онa тихонько ответила на пожатие. А однажды, когда они обедали в темноте, он почувствовал, что ее рука осторожно ищет его руку, и тут как раз огонь вспыхнул ярче, и он увидел выражение нежности на ее лице.
Он стал искать беседы с нею.
Однажды в лунную летнюю ночь он пришел к ней, когда она сидела и пряла. В серебряном свете она сама казалась серебристой и загадочной. Он сел у ее ног и сказал, что любит ее, и говорил, какой она ему кажется красивой. У него был голос влюбленного, он звучал с нежной почтительностью, почти благоговейно, а она никогда до той поры не знала мужского поклонения. Она не дала ему определенного ответа, но было ясно, что его слова ей приятны.
С того часа он заговаривал с нею при каждой возможности. Долина стала для него миром, а мир за горами, где люди жили в свете солнца, казался ему теперь волшебной сказкой, которую он когда-нибудь станет нашептывать ей на ухо. Очень робко и осторожно он пробовал заводить с ней разговор о зрении.
Зрение представлялось ей поэтическим вымыслом, и она виновато слушала описания звезд и гор и своей собственной нежной, лунно-белой красоты, как будто слушать это было преступным попустительством. Она не верила, понимая лишь наполовину, но испытывала непонятную радость, а ему казалось, что она все понимает и верит всему.
Его любовь стала менее благоговейной и более смелой. Он решил просить девушку в жены у Якоба и старейшин, но она робела и оттягивала, пока одна из ее старших сестер не опередила их и сама не сообщила Якобу, что Медина-Саротэ и Нуньес любят друг друга. Мысль о женитьбе Нуньеса на Медине-Саротэ вызвала сначала сильные возражения: не потому чтобы девушку очень ценили, а просто потому, что Нуньеса считали существом особого рода – кретином, недоразвитым человеком, стоящим ниже допустимого уровня. Сестры злобно воспротивились, говорили, что девушка навлекает позор на всю семью. А старый Якоб, хотя и был по-своему расположен к неуклюжему, послушному рабу, только покачивал головой и твердил, что это невозможно. Всю молодежь приводила в ярость мысль о порче расы, а один парень так разошелся, что грубо обругал Нуньеса и ударил его. Нуньес не остался в долгу. В первый раз за долгие дни ему довелось убедиться, что зрение и в сумерках может дать преимущество. После этой драки больше ни у кого не было охоты поднимать на него руку. Но брак все еще признавали немыслимым.
Старый Якоб питал нежность к своей младшей дочери и печалился, когда она плакала у него на плече.
– Пойми, моя родная, он же идиот. Он бредит наяву; он ничего не умеет делать толком.
– Знаю, – плакала Медина-Саротэ. – Но он сейчас лучше, чем был. Он становится все лучше. И он силен, дорогой мой отец, и добр, сильней и добрей всех людей в мире. И он меня любит… и я, отец, я тоже его люблю.
Старый Якоб был в отчаянии, видя, что дочь безутешна, да к тому же – и это еще отягчало его горе – Нуньес был ему по душе. И вот он пошел и сел в темном, без окон, зале совета среди других старейшин, следя за ходом обсуждения, и вовремя ввернул:
– Он теперь лучше, чем был; может случиться, что в один прекрасный день он станет таким же разумным, как мы.
Потом некоторое время спустя одного премудрого старейшину осенила мысль. Среди своего народа он слыл большим ученым, врачевателем и обладал философским, изобретательным умом. И вот у него явилась соблазнительная мысль излечить Нуньеса от его странностей. Однажды в присутствии Якоба он опять перевел разговор на Нуньеса.
– Я обследовал Боготу, – сказал он, – и теперь дело стало для меня ясней. Я думаю, он излечим.
– Я всегда на это надеялся, – ответил старый Якоб.
– У него поврежден мозг, – изрек слепой врач.
Среди старейшин пронесся ропот одобрения.
– Но спрашивается: чем поврежден?
Старый Якоб тяжело вздохнул.
– А вот чем, – продолжал врач, отвечая на собственный вопрос. – Те странные придатки, которые называются глазами и предназначены создавать на лице приятную легкую впадину, у Боготы поражены болезнью, что и вызывает осложнение в мозгу. Они у него сильно увеличены, обросли густыми ресницами, веки на них дергаются, и от этого мозг у него постоянно раздражен, и мысли неспособны сосредоточиться.
– Вот что? – удивился старый Якоб. – Вот оно как…
– Думается, я с полным основанием могу утверждать, что для его полного излечения требуется произвести совсем простую хирургическую операцию, а именно удалить эти раздражающие тельца.
– И тогда он выздоровеет?
– Тогда он совершенно выздоровеет и станет примерным гражданином.
– Да будет благословенна наука! – воскликнул старый Якоб и тотчас же пошел поделиться с Нуньесом своей счастливой надеждой.
Но его поразило, как нерадостно принял Нуньес его добрую весть.
– Как послушаешь тебя, покажется, что ты вовсе и не думаешь о моей дочери!
Обратиться к слепым хирургам Нуньеса убедила Медина-Саротэ.
– А ты? Ведь ты не хочешь, – спросил он, – чтобы я утратил зрение?
Она покачала головой.
– Зрение – мой мир!
Ее голова поникла.
– Есть красивые вещи на свете, маленькие красивые вещи: цветы, лишайники среди скал, мягонькая пушистая шкурка, далекое небо с плывущими в нем облаками, и закаты, и звезды. И есть на свете ты! Ради тебя одной стоит иметь зрение, чтобы видеть твое милое, ясное лицо, твои ласковые губы, твои дорогие, красивые руки, сложенные на коленях… И моих глаз, которые ты покорила, моих глаз, которые привязали меня к тебе, моих глаз требуют эти идиоты! Чтобы я касался тебя и слышал – и не видел больше никогда! Чтобы я пошел под вашу крышу из камня, утесов и мрака – эту жалкую крышу, которая придавила вашу мысль… Нет, ведь ты не захочешь, чтоб я согласился на это?!
В нем зашевелилось обидное сомнение. Он замолчал, не настаивая на ответе.
– Иногда, – начала она, – иногда мне хочется… – Она замолчала.
– Да?! – сказал он с тревогой.
– Иногда мне хочется, чтобы ты не говорил таких вещей.
– Каких?
– Я понимаю, что они красивы, эти твои фантазии. Я люблю их. Но теперь…
Он похолодел.
– Что же теперь? – тихо спросил он.
Она молчала.
– Ты хочешь сказать… ты думаешь, что я, может быть, стану лучше, если…
Он быстро взвесил все. В нем кипела злоба – да, злоба на глупую судьбу, но вместе с тем зашевелилось ласковое чувство к девушке, которой не дано его понять, – чувство сродни жалости.
– Дорогая, – прошептал он. И ее внезапная бледность показала ему, как сильно, всей душой рвалась она к тому, чего не смела высказать. Он обнял ее, поцеловал в краешек уха, и минуту они сидели молча.
– Что, если бы я согласился? – сказал он тихо-тихо.
– О, если б ты согласился! – твердила она сквозь слезы. – Если б согласился!
За неделю до операции, которая должна была поднять его из рабства и унижения до уровня слепого гражданина, Нуньес совсем лишился сна. В теплые солнечные часы, когда другие мирно спали, он сидел в раздумье или бесцельно бродил по лугам, стараясь вернуть ясность своему смятенному уму и сделать выбор. Он дал свой ответ, дал согласие, но в душе еще не решился. И вот миновала рабочая пора, солнце поднялось во славе своей над золотыми гребнями гор, и начался для Нуньеса последний день света. Он пробыл несколько минут с Мединой-Саротэ, перед тем как она ушла спать.
– Завтра, – сказал он, – я больше не буду видеть.
– Милый, – ответила она и крепко, как могла, сжала его руки.
– Тебе будет только чуть-чуть больно, – сказала она. – И ты пройдешь через эту боль… ты пройдешь через нее, любимый, ради меня… Дорогой, если сердце женщины, вся ее жизнь могут служить наградой, я вознагражу тебя. Мой дорогой, мой добрый с ласковым голосом, я вознагражу тебя.
Жалость к себе и к ней захлестнула его.
Он обнял ее, припал губами к губам и в последний раз заглянул в ее тихое лицо.
– Прощай, – шепнул он дорогому своему видению, – прощай.
И затем в молчании отвернулся от нее.
Она слышала его медленно удаляющиеся шаги, и было что-то в их ритме, что заставило ее безудержно разрыдаться.
Он собирался просто пойти в уединенное место, на усыпанный белыми нарциссами луг, и побыть там, пока не настанет час его жертвы, но поднял глаза и увидел утро – утро, подобное ангелу в золотых доспехах, сходящему к нему по кручам.
И показалось ему, что перед этим величием он сам, и этот слепой мир в долине, и его любовь – все, все только мерзость и грех.
Он не свернул в сторону, как собирался, а пошел вперед за окружную стену, в горы, и глаза его были все время прикованы к залитому солнцем льду и снегам.
Он видел их бесконечную красоту, и мысли его перенеслись к той жизни, от которой теперь он должен был навеки отказаться.
Он думал о большом свободном мире, с которым был разлучен, о родном своем мире, и перед ним вставало видение все новых горных склонов, даль за далью, и среди них Богота, город многообразной, живой красоты, днем – блеск и величие, ночью – озаренная тайна; город дворцов, фонтанов, статуй и белых домов, красиво расположившийся в самом сердце далей. Он думал о том, как в какие-нибудь два-три дня можно дойти до него горными ущельями, с каждым шагом подходя все ближе к его оживленным улицам и проспектам. Он думал о том, как долго можно идти по реке, от большого города Боготы в большой, огромный мир, через города и села, через леса и пустыни; идти день за днем по быстрой реке, пока берега не расступятся и не поплывут, поднимая волну, большие пароходы; и тогда ты достигнешь моря – бескрайнего моря с тысячью островов – нет, с тысячами островов и смутно видимыми вдали кораблями, что ходят и ходят без устали по широкому свету. И там, не замкнутое горами, ты увидишь небо – небо, не такое, как здесь, не диск, а купол бездонной синевы, глубь глубин, в которой плывут по круговым своим орбитам звезды.
Все зорче всматривались его глаза в каменную завесу гор.
Если, к примеру, подняться по этой ложбине, а потом вот по той расселине, то выйдешь высоко между тех корявых сосенок, что разбежались там по уступам скал, забираясь все выше и выше над ущельем. А потом? Пожалуй, можно влезть на ту осыпь. Затем как-нибудь вскарабкаться по каменной стене до границы снегов, а если та расселина непроходима, ему послужит, может быть, другая, дальше к востоку. А потом? Потом выйдешь в горящие янтарем снега, на полпути к гребню тех прекрасных пустынных высот.
Он взглянул через плечо на деревню, потом повернулся и долго пристально смотрел на нее.
Он думал о Медине-Саротэ, и она теперь была маленькой и далекой.
Он опять повернулся к стене гор, по которым сошел к нему день. Потом очень осмотрительно начал карабкаться.
Когда солнце склонилось к закату, он больше не карабкался: он был далеко и очень высоко. Побывал он и выше, но и теперь он еще был куда как высоко. Его одежда была изодрана, руки в крови, тело все в синяках, но он лежал покойно, и на его лице была улыбка.
Оттуда, где он лежал, долина казалась ямой, зияющей чуть не на милю внизу. Вечер уже стелил туман и тени, хотя вершины гор окрест были свет и огонь, а скалы рядом с ним в каждой своей частице напоены были тонкой красотой: прожилка зеленой руды бежала по серым камням; вспыхивали тут и там грани кристаллов; мелкий оранжевый лишайник вил тонкий узор вокруг его лица. Ущелье наводнили глубокие таинственные тени; синева сгустилась в темный пурпур, пурпур – в светящийся мрак, а наверху распростерлась безграничная ширь неба. Но он больше не смотрел на эту красоту, он лежал недвижный, улыбаясь, как будто удовлетворенный уже тем одним, что вырвался из Долины слепых, где думал стать королем.
Закат отгорел, настала ночь, а он все лежал, примиренный и довольный, под холодными светлыми звездами.
Перевод Н. Вольпин